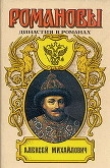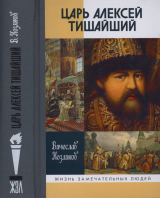
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 46 страниц)
Развитие транзитной торговли через Каспийское море повлияло на начало строительства флота. Это также было поручено главе Посольского приказа. В указе царя Алексея Михайловича 19 июня 1667 года говорилось о целях строительства первого русского корабля «Орел» в селе Дединове на Оке: «для посылок из Астрахани в Хвалынское (Каспийское. – В. К.) море». В тот же день в Приказе Новгородской четверти (он также подчинялся Ордину-Нащокину как главе Посольского приказа) был нанят голландский корабельный мастер Ламберт Гелт с товарищами, построивший знаменитый корабль{596}. О связи каспийского направления торговли со строительством кораблей свидетельствовал в своей корреспонденции в Англию Патрик Гордон: «Мы рассчитываем направить через эту страну персидскую и армянскую торговлю; призываются шкиперы и корабельные плотники, а иные уже прибыли, чтобы строить и снаряжать суда для плавания в Каспийском море»{597}.
С приходом Ордина-Нащокина к руководству менялся масштаб деятельности Посольского приказа, что больше соответствовало пониманию места и значения новой – Великой, Малой и Белой России. В мае – июне 1667 года состоялось важное внешнеполитическое действо – одновременная рассылка посольств в соседние государства, чтобы добиться признания титула и завоеваний царя Алексея Михайловича. В Швецию поехал Иона Леонтьев, в Данию – Семен Алмазов, в Пруссию и Курляндию – Василий Бауш (Боуш). Но главным было не прошлое, а будущее, поэтому первым по значению из всех отправленных посольств стала поездка Ивана Афанасьевича Желябужского к австрийскому императору – именно с ним в первую очередь следовало обсудить не только итоги завершившейся войны, но и контуры нового союза, а также выбранного Московским государством поворота к противодействию османской экспансии. Здесь интересы Москвы и Вены полностью совпадали, поэтому можно было надеяться на успех миссии{598}. Путь Михаила Головина лежал в Голландию и Англию. Соперничество двух стран за влияние на российском рынке было хорошо известно, и Головин мог использовать эти противоречия на переговорах. Посольство Петра Ивановича Потемкина было отправлено в католические страны Европы – Испанию и Францию, до этого времени редко попадавшие в поле зрения московской дипломатии. Собирались послать еще Климента Иевлева в Иран, но, несмотря на сделанные назначения, поездку пришлось отложить, так как надо было еще убедиться в том, что выбранное направление новой внешней политики Русского государства находится в согласии с интересами других европейских стран, и оценить их готовность к будущему антиосманскому союзу с Россией{599}.
Наступало время утвердить не только военные завоевания России, но и новый титул царя Алексея Михайловича, включавший слова «всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, и многих государств и земель Восточных и Западных и Северных отчича, и дедича, и наследника, и государя и обладателя»{600}. После заключения договора об Андрусовском перемирии поправили содержание «печати Царственной большой». В материалах посольств рядом с указанием на новый титул давалось «Описание печати Российская государства»: «Орел двоеглавный есть герб державный, великаго государя, царя и великаго князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, его царскаго величества Российская царствия». Три короны вверху на гербе символизировали покоренные царства – Казанское, Астраханское, Сибирское. С правой и левой стороны от орла располагались по три символических изображения городов. Правые «три града» соотносились с титулом «Великия и Малыя и Белыя России», а на левой стороне они отсылали к упоминанию в титуле «Восточных, Западных и Северных» стран. Под орлом располагались еще знаки «отчича» и «дедича», «на персех» (груди) – изображение в щите наследника. Иногда его называют изображением самого царя Алексея Михайловича, но, как видим, с 1667 года оно трактовалось именно как знак преемственности династии. В когтях орла («на пазноктех») изображались традиционные «скипетр» и державное «яблоко»; именно они, по словам описания нового герба, «и являют милостивейшаго государя его царскаго величества самодержца и обладателя»{601}.
Обновление царстваГлавным событием после окончания войны стала церемония объявления наследника, царевича Алексея Алексеевича, приуроченная к новолетию 1 сентября 1667 года. Царь Алексей Михайлович следовал традиции: ровно за 25 лет до этого, 1 сентября 1642 года, в тринадцатилетнем возрасте он сам появился рядом с отцом, царем Михаилом Федоровичем, и впервые участвовал в подобной церемонии – «у действа многодетного здравья» – в качестве наследника новой династии. Став царем, Алексей Михайлович повторил всё для своего сына, которому тоже исполнилось 13 лет{602}. Новую веху в истории династии царь Алексей Михайлович символично отметил закладкой знаменитого деревянного дворца в Коломенском: 2 мая 1667 года царь ходил «в село Коломенское для складыванья своих государских хором»{603}.
Дворец в Коломенском, по оценке историков искусства, воплотил в себе «все важные особенности древнерусского зодчества». Дата его закладки была выбрана тоже не случайно, она приходилась на день Бориса и Глеба, небесных покровителей династии Рюриковичей{604}. Первые святые Древней Руси, князь Владимир и его сыновья Борис и Глеб, были изображены на знаменах государева похода 1654 года. На гравюре в книге черниговского епископа Лазаря Барановича «Меч Духовный», изданной в типографии Киево-Печерской лавры в 1666 году, изображения древнерусских святых также были помещены рядом с царской семьей – царем Алексеем Михайловичем, царицей Марией Ильиничной и их детьми царевичами Алексеем, Федором и Симеоном. Поэтому закладка дворца под небесным патронажем князей Бориса и Глеба имела глубокий дополнительный смысл.
В 1667 году церемония объявления наследника стала знаком надежды на новые времена, сохранения преемственности движения к новой, вселенской роли России как православной державы. В действе участвовали два вселенских патриарха, грузинский царевич Николай Давыдович, касимовский царевич Василий Арасланович с сыном Федором, сибирские царевичи Петр и Алексей Алексеевичи, не говоря уже обо всем дворе. Даже страницы официального описания отразили пафос события: «Кто бо тогда от православных зряй благочестивую оную государскую ветвь, исполнену благоразумия плода пред лицем отца своего государева, сице превысочайшаго повелителя и монарха благочинно предстоящу и благоразумныя словеса, яко росу небесну каплющу, на славословие ко всех Зиждителю сердцем не обратился». Сам царевич Алексей Алексеевич говорил речь, обращенную к отцу, а «царь целовал его царевичеву главу». Ничего не могло полнее выразить общую радость, чем пасхальные песнопения. И они прозвучали тогда, в первый день нового, 176-го года во время шествия из церкви в государевы хоромы: по завершении всех официальных торжеств «пели их государские певчие дьяки канони Воскресению Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, что поется в самый светлосиятельный день живо-носныя Пасхи, зело благочинно и сладкопесненно»{605}.
Вернувшийся из посольства в Англию Патрик Гордон сообщал в своей корреспонденции в «Лондонскую газету» подробности этого события: царевич, которому «около 15 лет», «предстал на общее обозрение народа, что намного возвеличило обычную торжественность этого дня». Гордон описывал, как перед дворцом в Кремле было расчищено особое место «200 или 300 шагов в окружности», и вся земля устлана коврами, и поставлено возвышение («помост»), тоже украшенное «червленым бархатом, а поверх богатейшими персидскими шелковыми коврами». Около 9 часов царь Алексей Михайлович и царевич Алексей Алексеевич вышли из дворца, на короткое время зашли в Успенский собор, а дальше состоялось открытое для всеобщего обозрения богослужение на дворцовой площади, напротив устроенного помоста, где расположились с левой стороны вселенские патриархи, а с правой – царь и царевич: «император, и принц были одеты в красное, принц несколько посветлее»{606}.
К первому дню новолетия были приурочены новые награды служилым людям. Царь Алексей Михайлович по случаю «объявления сына» даровал участникам недавней войны денежные и поместные придачи к окладам. Например, бояре получали 100 рублей, окольничие – 70, думные дьяки – 50. Выделившиеся в особую группу внутри Государева двора «комнатные» стольники из числа наиболее привилегированных аристократических родов, родственников Романовых и просто приближенных царем лиц получили дополнительно 130 четвертей поместного оклада и 15 рублей денег, остальным членам Государева двора и жильцам – 100 четвертей и 12 рублей. Оформление вотчинных грамот за заслуги участникам государевых походов в Печатном приказе тоже становилось наградой. Казна даже могла заработать на этом, так как написание каждой из грамот думным чинам «с заставицами и буквами киноварными» стоило целых пять рублей. Но на такие траты шли, чтобы оставить вечные свидетельства своих заслуг. Не были забыты городовые дворяне и дети боярские, «начальные люди» рейтарских, солдатских и стрелецких полков. С сентября 1667 года стали собирать «сказки» служилых людей московских чинов, жильцов и городовых дворян об окладах и участии в прошедшей войне. Служилых иноземцев, присутствовавших на церемонии объявления наследника, царь Алексей Михайлович тоже пожаловал, прислал «осведомиться о здравии», «пожелал им доброго Нового года» и распорядился выдать дополнительно «месячное жалованье». Во время всеобщей радости юный царевич участвовал во «взрослом» обряде – жаловал «в передней» праздничными чарками – «водкою и романею бояр и окольничих и думных и ближних людей»{607}.
Поворот в политике, связанный со стремлением царя Алексея Михайловича скорее увидеть в качестве соправителя своего сына, готовился загодя, до наступления его настоящего совершеннолетия. Требовалось время, чтобы научить царевича государственным делам. Сохранились описи имущества царевича Алексея Алексеевича, из них можно узнать о его интересах. Детали делопроизводственного документа подтверждают, что наследник был настоящей надеждой царя. У царевича тоже имелось увлечение, связанное с охотой. Когда ему было 12 лет, в один из походов в Преображенское к старшему сыну царя было отпущено более десятка разнообразно украшенных луков со стрелами, например «орликами двоеглавыми». Затейливые луки, писанные золотом «по белой кибити», из буйловой кости, с шелковой тетивой отпускались и в другие походы царевича вместе с отцом (например, в апреле – июне 1667 года). В другой описи встречаются «две пушечки медные золочены в станках серебряные потешные»{608}. Царевич умел играть в шахматы, среди его имущества находились сами фигуры – «шахматы в пяти мешках» и «трои доски шахматные». Если отец ежегодно «лехчился» кровопусканием, когда «сокол жилу бил» на глазах царских придворных{609}, то и сын стремился за отцом. У него в «сумке» хранились «ножницы, которыми лехчился». У отца с юных лет была «черниленка кизылбашская», и у сына иранская чернильница «писаная» (и еще две другие, «кизылбашские»).
Больше всего об интересах царевича могла рассказать его библиотека: там нашлось место как для «душеполезного» чтения, так и для занятий языками, историей и географией. Рядом с богослужебными книгами – Библией, Новым Заветом, Апостолами, Псалтырями – у царевича имелись книги «четьи»: жития Саввы Сторожевского, Александра Ошевенского, «Патерик Печерской». Особый интерес представляют исторические книги – «Летописец вкратце царем и великим князем», а также «Собрание патриарха Никона», в котором видят тома грандиозного Никоновского летописного свода, созданного еще в XVI веке и ранее принадлежавшие опальному патриарху. Среди других книг – «Алексикон печатной», «Грамотика словенская», «Лексикон писменой словенской с греческим», «Книга ратного строения». У царевича было «11 книг описание земель». Учитель наследника Симеон Полоцкий тоже подарил в библиотеку царевича свою книгу – «Жезл правления», о недавнем церковном соборе 1666/67 года.
Наверное, именно Симеон Полоцкий способствовал интересу царевича к изучению «книг на разных языках». Таких «больших и малых книг» у Алексея Алексеевича было больше восьмидесяти. Представляют интерес и «наглядные пособия» – иноземные гравюры и, возможно, карты: «Пятьдесят рамцов с листами фряскими. Четырнадцать листов описание розных земель». В тереме царевича рядом с его кроватью стояли глобусы – «Два яблока описание земли». Хранил царевич Алексей и просто любопытные редкости, вроде двух «струфокомиловых» (страусиных) яиц и «ореха индийского», что вполне объяснимо для юного сына царя. Как отмечал опубликовавший эти описи прекрасный знаток царского быта Иван Егорович Забелин, «охота к редкостям и драгоценностям, к разным узорочным, хитрым изделиям и курьезным вещицам была распространена не только во дворце, но и вообще между знатными и богатыми людьми того века»{610}.
Перемены в курсе Московского царства первыми ощутили на себе дьяки и подьячие московских приказов, «бюрократы» того времени. Столбцовое делопроизводство стало дополняться более современной тетрадной формой ведения архивных дел. Например, одними из первых в 1667 году вместо столбцов в книги были записаны боярские и жилецкие списки. В новых списках членов Государева двора официально появились перечни «комнатных» стольников. Придворная знать получала особый статус, утверждалось первенство по заслугам и пожалованию царя, а не исключительно по местническим основаниям. 24 октября 1667 года царь Алексей Михайлович устроил личный смотр чину стряпчих Государева двора в Грановитой палате «со 2-го до 7-го часу дни» и «пожаловал» многих служить в дворяне «по московскому списку», а через два дня провел отдельный смотр жильцов. Впервые после долгого перерыва была составлена полная Опись архива Разрядного приказа{611}. Все это внешне может выглядеть рутинными делами, но такая «архивная» история является лучшим маркером настоящих перемен.
Царю Алексею Михайловичу настолько хотелось обновить всё кругом себя, что в день Преображения 6 августа 1667 года был издан указ о подготовке к написанию «вновь» стенного письма Грановитой палаты (оставшегося со времен царя Федора Ивановича). Иконописцу Симону Ушакову поручили сделать всё быстро, «в то же лето», желая, видимо, успеть к церемонии объявления царевича Алексея Алексеевича 1 сентября или по крайней мере к встрече польских послов в октябре. Из ответа Симона Ушакова с товарищами можно узнать, какое задание им при этом ставилось: «Грановитые полаты вновь писать самым добрым стенным письмом, прежняго лутче, или против прежняго». Мастера-изографы убедили царя отложить работу: «в толи-кое малое время некогда; к октябрю месяцу никоими мерами не поспеть, для того: приходит время студеное и стенное письмо будет не крепко и не вечно». Царь согласился с их доводами. По новому указу 15 ноября 1667 года «возобновление стенописи» Грановитой палаты было перенесено на весну 1668 года{612}.
Стремлению к новизне отвечает и появление в самом ближнем круге царя Алексея Михайловича боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Учитывая его назначения и пышные титулы, существует соблазн назвать андрусовского триумфатора «русским канцлером»{613}. Однако Алексею Михайловичу пришлось учитывать ропот обиженных возвышением Ордина-Нащокина думцев. Поэтому назначения ограничились передачей новому боярину только двух приказов – Посольского и Малороссийского. Правда, в Посольском приказе были ведомы еще и «четверти» – финансовые ведомства по сбору доходов, но такую исторически сложившуюся дополнительную нагрузку на дипломатическое ведомство Ордин-Нащокин считал излишней.
Настоящим «теневым» главой правительства царя Алексея Михайловича становится в это время другой боярин – князь Никита Иванович Одоевский. Наконец-то пришло «время» этого ближнего человека царя Алексея Михайловича, хотя он давно уже доказал свои государственные способности составлением Соборного уложения 1649 года, а затем заключением Виленского договора 1656 года. Не случайно и патриарх Никон чувствовал в нем сильного противника, выступая против ненавистной ему «Уложенной книги», вводившей светский суд для людей церковного чина, и называя князя Никиту Ивановича «прегордым». Пострадал от этой аристократической «гордости» и Ордин-Нащокин, когда царь Алексей Михайлович однажды отправил его к посольству «ближнего» боярина князя Одоевского, а тот отказался обсуждать с ним какие-либо дела.
Долголетним препятствием к выдвижению князя Одоевского было первенство среди советников царя Алексея Михайловича сначала боярина Бориса Ивановича Морозова, а потом царского тестя Ильи Даниловича Милославского. Даже ведая «грехи» тестя в административных делах, Алексей Михайлович не шел на его устранение от руководства главными приказами, считаясь с родственниками царицы Марии Ильиничны. Хотя сам отец не должен был выказывать своих чувств к дочери, находясь при дворе. Самуэль Коллинс писал, что «царский тесть, Илья Данилович, не смеет назвать царицу своей дочерью, никто из ее родственников не смеет признать ее своей родственницей». Предел первенствующему положению Милославского при дворе был положен серьезной болезнью, когда он не мог, как раньше, участвовать в делах. По сведениям того же Коллинса, здоровье боярина было очень плохо: «Теперь Илья, разбитый параличом, лишился и телесных, и умственных способностей и не узнает никого, кого ему ни назовут».
О том, что первенство в делах перешло к боярину Никите Ивановиче Одоевскому, свидетельствовало «шествие на осляти» 8 апреля 1666 года, когда Одоевский держал «повод», а в обряде снова участвовал новгородский митрополит Питирим. Князь Никита Иванович выступил одним из главных обвинителей на суде над патриархом Никоном на церковном соборе 1666/67 года. Как уже говорилось, существовал определенный набор приказов, ведать которыми мог только номинальный глава правительства. Официально такой перечень никогда не устанавливался, но современникам было все ясно без дополнительных разъяснений. В сентябре 1666 года к Одоевскому от Милославского перешло руководство финансами, обороной и охраной царя; он стал во главе Приказа Большой казны, а также Стрелецкого и Рейтарского. Это было еще не всё, что требовалось для полноты влияния на государственные дела. Важную роль играла Оружейная палата, но там незыблемыми оставались позиции боярина и оружничего Богдана Матвеевича Хитрово, а также Аптекарский приказ, ведавший иностранными докторами, лечившими самого царя и его семью. Контроль над «Аптекой» тоже не сразу окажется в руках князя Никиты Ивановича.
В новое время, наступавшее после Андрусовского перемирия, Никита Иванович Одоевский оказался рядом с царем, «уравновешивая» тем самым в глазах знати возвышение Ордина-Нащокина. Характер расстановки «партий» в правительстве можно было увидеть уже во время представления наследника царевича Алексея Алексеевича двору. В отличие от других бояр, присутствовавших на церемонии «без мест», князь Никита Иванович упомянут отдельно: именно ему была предоставлена честь говорить поздравительную «речь им великим государем» от лица всех собравшихся. И в других церемониях, например «шествии на осляти» в Вербное воскресенье 15 марта 1668 года, князь Одоевский снова был одним из самых заметных участников. Кстати, тогда первый раз рядом с царем шел и держал «посередь повода» у «осляти» царевич Алексей Алексеевич, а за ним следовал и также касался повода боярин князь Никита Иванович Одоевский{614}.
Как иногда бывает в жизни, следом за большим торжеством новолетия 1 сентября 1667 года в царскую семью пришло горе – умерла боярыня Анна Ильинична, вдова боярина Бориса Ивановича Морозова и сестра царицы Марии Ильиничны. Болезнь и скорая смерть царицыной сестры оказались предвестием бед, пока еще не ощущавшихся, но очень скоро все изменивших во дворце. Царь Алексей Михайлович даже отложил традиционный сентябрьский поход в Троице-Сергиев монастырь на празднование памяти Сергия Радонежского. 25 сентября он был на подворье Троице-Сергиева монастыря, а в «7 часу ночи» того же дня умерла боярыня Анна Ильинична. 26-го числа состоялось отпевание вдовы боярина Морозова в Чудовом монастыре, где она и была похоронена рядом с мужем. Патрик Гордон написал об этом примечательном событии при дворе своим корреспондентам в Англию, добавив, что «она завещала большое состояние Его величеству»{615}.
Царь Алексей Михайлович все-таки побывал в Троице-Сергиевом монастыре, но позже, 3–4 октября. Следом из монастыря были привезены в Москву иконы Троицы и Сергия Радонежского, царь встречал их сам в Ильинских воротах 9 октября, а потом они были поставлены в церкви Евдокии, «что у государя на сенях». В Москве готовились к встрече польских послов, которые должны были подтвердить андрусовские договоренности о перемирии, и этим, скорее всего, и объяснялось временное присутствие в столице почитаемых троицких икон{616}.
16 октября, за день до прибытия послов, царь Алексей Михайлович встречал в Страстном монастыре за Тверскими воротами икону Богоматери Одигитрии, бывшую в полках вместе с воеводой боярином князем Иваном Андреевичем Хованским и захваченную в бою у Кушлико-вых гор за Полоцком «в 170-м году» (25 октября 1661 года). Как уже говорилось, андрусовские договоренности предусматривали возвращение святынь, захваченных в городах или полках (Ордин-Нащокин уже привез с переговоров в Андрусове одну из икон, потерянных князем Хованским). Польско-литовские послы тоже ожидали, что им отдадут разные «церковные украсы», колокола и архивы, взятые из костелов. Пришлось спешно отправлять по всему Московскому государству соответствующие грамоты о поиске и возвращении разных трофеев русско-польской войны. Послам Речи Посполитой, в качестве ответного жеста, вернули часть «Древа Креста Христова» из Люблина (святыня оказалась разделена, и ее возвращение растянулось на годы), с Дона привезли и икону Богоматери Одигитрии, захваченную донскими казаками в Вильно. Но прежде Виленскую икону принесли к вселенским патриархам, а дальше в Золотую палату «для поновления писма и оклада»{617}. Для царя Алексея Михайловича возвращение святынь домой «из плена» могло быть еще одним знаком, подтверждавшим верность выбранного им движения к миру.
17 октября состоялся торжественный въезд в Москву самих «великих послов» во главе с воеводой и генералом земель черниговских Станиславом Казимиром Веневским. Выбор его титулярного воеводства показателен, так как царь Алексей Михайлович тоже включал в свой титул слово «Черниговский»: польская сторона подчеркивала, что переговоры об уступленных землях еще будут продолжаться. Поэтому в разрядных книгах упоминалось только, что Станислав Веневский имел чин «воеводы». Кроме Веневского, в состав посольства входили референдарь и писарь Великого княжества Литовского Киприан Павел Бжостовский, «подконюшей корунной и секлетарь посолственной» Владислав Шмелинг. По официальному известию разрядных книг, целью их приезда было «подкрепленье мирного постановленья». Ратификация Андрусовского договора состоялась на сейме Речи Посполитой еще весной 1667 года, после чего послам были выданы соответствующие инструкции о присутствии на утверждении договора о перемирии в Москве. Им предстояло искать в Москве пути усмирения казаков во главе с гетманом Петром Дорошенко, волновавшихся на Правобережье и вступивших в войну с «ляхами» при поддержке турецкого султана. Пришло время и для не решенных в Андрусове спорных вопросов. Речь шла о компенсации шляхте за потерянные владения и о свободном возвращении мещан из городов, отошедших Русскому государству. Интересно, что царю Алексею Михайловичу захотелось самому увидеть въезд послов в Москву, и для этого он «пошел смотреть послов на Неглиненские ворота»{618}.
Первый торжественный прием «великих послов» в Москве, на котором рядом с царем Алексеем Михайловичем присутствовал и царевич Алексей Алексеевич, состоялся в Грановитой палате в Кремле 20 октября 1667 года. Послам царевич показался на вид достаточно взрослым шестнадцатилетним юношей; они отметили, что он первый раз участвовал в дипломатических делах и сидел рядом с троном отца. Состоялся положенный посольский ритуал с объявлением титулов (ранее вызывавший столько споров), вопросами о «здоровье», подходом к руке (не только царя, но и царевича) и вручением «королевских поминков» и посольских подарков. 21 октября польские послы снова были на аудиенции в Кремле, где состоялось назначение «быти в ответе» послам, причем для переговоров была выбрана Золотая, а не Ответная палата.
Вести переговоры с польскими послами должны были боярин и глава Посольского приказа Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и «посолские думные дьяки» Герасим Дохтуров, Лукьян Голосов и дьяк Посольского приказа Ефим Юрьев. Переговоры проходили на фоне досадных для Ордина-Нащокина местнических споров. Получивший назначение ехать за послами и привезти их с Посольского двора в Кремль первый пристав стольник Матвей Степанович Пушкин отказался от службы из-за Ордина-Нащокина и подал об этом местническую челобитную. Несмотря на выговор царя Алексея Михайловича, что тот «бьет челом и всчиняет тут места не делом, а преж сего мест тут не бывала и ныне нет», Пушкин не подчинился и даже оговорил царское назначение Ордина-Нащокина: «Преж сего с послами бывали в ответе честные люди, а не в его Офонасьеву версту, и потому в то время и челобитья не бывало»{619}. Но Ордину-Нащокину всё же удалось исполнить свое дело. Царь доверял главе Посольского приказа; впрочем, право на участие в принятии решений оставалось и у остальных членов Думы, обсуждавших вместе с царем «записки» и предложения Ордина-Нащокина по ходу переговоров. Это помогло достичь согласия других ближних бояр и царских советников. Русское правительство соглашалось выплатить компенсации шляхте и оказать помощь Речи Посполитой посылкой ратных людей – пяти тысяч конницы и двадцати тысяч пехоты для борьбы с мятежными казаками Правобережья и поддерживавшими их татарами и турками.
Считается, что в ходе переговоров в Москве могла обсуждаться кандидатура царевича Алексея Алексеевича на польский трон. Судя по «статейному списку» Ивана Афанасьевича Желябужского, ехавшего через Речь Посполитую в Вену, на сейме в 1667 году снова шла речь о преемнике Яна Казимира, и при этом имя царевича вспоминалось. Но только как альтернатива планам возведения на трон французского принца Конде или бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма и по преимуществу в частных разговорах послов. Как сообщал посол, после смерти жены короля Марии Людовики в начале 1667 года угасли надежды на передачу королевского трона в Польше представителю французского королевского дома, а сам король Ян Казимир, ссылаясь на «несчастье» своего правления, заговорил о добровольном уходе в монастырь (что вскоре и произошло). Во время московских переговоров в «галанских печатных курантах» появились известия о приеме посла Ивана Афанасьевича Желябужского и будто бы сказанных им в речи цесарю Леопольду V словах о выдаче замуж одной из царских дочерей за польского короля и даже возможном браке сестры австрийского императора с царевичем Алексеем Алексеевичем. «Московской посланник цесарскому величеству речь свою говорил стройно, притом объявлял, – переводили в Посольском приказе сообщение голландской газеты, – что московского государя царевна за полского короля выдана будет, на том хотя и чад от них не будет, однако ж на престол королевства Полского возведен будет московской царевич, за которого потом выдана будет цесарского величества сестра, но о збытию сего дела многим сумнително»{620}. Конечно, изложенные здесь брачные планы далеки от действительности, но показательно уже само их обсуждение при дворах Вены и Москвы, ставшее свидетельством поворота к меняющейся дипломатической повестке.
После Андрусовского перемирия, закрепившего Смоленск и Северскую землю за Московским государством, лишь одно обстоятельство могло омрачать победный настрой царя Алексея Михайловича – оставшееся на польской стороне Правобережье Украины и нерешенность судьбы Киева. Отдавать его в подданство московскому царю в Речи Посполитой по-прежнему не хотели; польские послы даже не имели полномочий обсуждать судьбу Киева. Но Ордин-Нащокин придумал план, как можно было бы сохранить Киев на царской стороне{621}. Глава Посольского приказа хотел использовать просьбу польских послов о военной помощи для борьбы с гетманом Правобережья Дорошенко и крымскими татарами. Афанасий Лаврентьевич стремился вставить в новый московский договор особый пункт о выборе подданства жителями разделенного на Левобережье и Правобережье Войска Запорожского. Дальнейшее уже зависело от московских дипломатов, надеявшихся, что они смогут «оторвать» Дорошенко от «бусурманов» и привлечь на свою сторону. Если бы такой план удался, то Правобережье с Киевом оказалось бы в соответствии с новыми договоренностями под властью православного царя.
Когда дипломаты в целом уже договорились о положениях нового московского договора, 12 ноября 1667 года состоялось торжественное действо подтверждения Андрусовского перемирия. Царь Алексей Михайлович «для подкрепленья мирного постановленья» собрал в Грановитой палате Боярскую думу, рядом с царским местом был поставлен аналой, а на него положено Евангелие. Опять, как и во время первого приема послов, по правую сторону от царя стоял боярин князь Никита Иванович Одоевский, а по левую – настоящий «виновник» торжества, боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Царскую клятву свидетельствовал духовник протопоп Благовещенского собора Андрей, облаченный в ризы. Польские послы говорили речь и передали царю «королевскую подтвержденную грамоту». Она была принята от царского имени боярином князем Никитой Ивановичем, и он «держал ее у места великого государя», положив под Евангелие.
После ответной речи посольского думного дьяка Герасима Дохтурова с заявлением о признании статей мирного постановления в Андрусове 20 января 1667 года протопоп Андрей вместе с Ординым-Нащокиным поднесли к царю аналой: «на налое положена королевская подтверженая грамота, которую принесли послы, а на грамоте положено Евангелие». Царь Алексей Михайлович, «встав из своего государева места», произнес «свою государскую речь» о подтверждении Андрусовского договора, называя короля Яна Казимира своим братом и произнося полный королевский титул. Алексей Михайлович во время своей клятвы на Евангелии должен был снять царский венец – «государеву шапку» и передать на время своему окружению царские регалии.