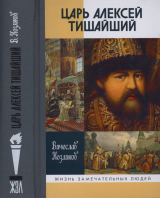
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)
Все финансовые и даже военные неурядицы померкли перед событиями 25 июля 1662 года, когда царю Алексею Михайловичу пришлось пережить настоящий шок и унижение и вернуться к уже основательно забытым временам московского «гиля», случившегося в начале его царствования.
Конечно, за прошедшие 14 лет многое изменилось. И царь Алексей Михайлович действовал по-другому, и все нити управления он уже крепко держал в своих руках. Поколение первых советников царя к тому времени стало уходить из жизни. 1 ноября 1661 года умер боярин Борис Иванович Морозов. Судя по надписи на могильной плите, боярин носил крестильное имя Илья – «преставися раб Божий боярин Илия Иванович Морозов, зовомый Борис»{473}. По влиянию на царя Алексея Михайловича рядом с царским воспитателем больше никогда и никого нельзя было поставить…
Жизнь в царском дворце шла своим чередом, и новое восстание жителей Москвы мало что предвещало. 1 апреля, во вторник на Светлой неделе, когда праздновались именины царицы Марии Ильиничны, Алексей Михайлович устроил праздник царицыного «новоселья». 28 мая «за два часа до света» родилась царевна Феодосия Алексеевна. Царь послал известить о рождении дочери даже патриарха Никона в Воскресенский монастырь.
С начала лета 1662 года Алексей Михайлович был занят обычными делами в Москве. Он проводил смотры служилых людей и жаловал «к руке» воевод, делал распоряжения об отправке войск в Смоленск, Севск и Великий Новгород. 8 июля на летний праздник иконы Казанской Богоматери царь посетил крестный ход (четыре года назад патриарх Никон тщетно ожидал царского выхода к Казанской церкви). Не забывал Алексей Михайлович и о любимой охоте, часто выезжая «тешитца в поле». А потом уехал в подмосковное Коломенское с царицей Марией Ильиничной и с детьми, среди которых была и новорожденная дочь Феодосия. В «Дневальных записках» Тайного приказа время отъезда царя в Коломенское не указано, только на полях приписано к дате 16 июля: «Того же дни государь изволил итить в поход совсем». Эту дату приводят и дворцовые разряды, где также говорилось о государевом походе в Коломенское. Москва, как обычно, была поручена в управление боярам; боярскую «надворную» комиссию возглавил недавно назначенный судья Владимирского судного приказа боярин князь Федор Федорович Куракин, а с ним управлять делами в отсутствие царя в столице были оставлены целых шесть царских окольничих и думный дьяк Ларион Лопухин. Известно также, что царь приезжал в Москву из Коломенского на один день 20 июля для участия в крестном ходе к церкви Ильи Пророка «за Ветошным рядом»{474}. Словом, обычное лето, не предвещавшее никакой беды.
События «Медного бунта» начались в пятницу, 25 июля, «в третьем часу дни», по тогдашнему счету времени суток – то есть около 8 часов утра, по нашему. Оставленные ведать Москву в отсутствие царя боярин князь Федор Федорович Куракин с товарищами узнали, «что на Покровке да на Устретенке прибиты воровские письма». Указ снять письма, как и положено, был послан в Земский приказ – своеобразную московскую полицию XVII века, исполнить его должны были второй судья Семен Васильевич Ларионов (его служба в приказе только-только началась с июля) и дьяк Афанасий Башмаков. В Москве же к Земскому приказу во главе с думным дворянином Прокофием Кузьмичом Елизаровым было огромное недоверие из-за слухов о том, что он покровительствует разбойникам, откупавшимся от наказания{475}. Поэтому услышавшие об «измене» жители Москвы ничего не позволили сделать представителям Земского приказа. Письмо было снято и принесено к боярам с требованием передать его царю.
Документальный след событий «Медного бунта» достаточно велик, чтобы оценить драматизм событий. Сохранились также известия нескольких мемуаристов, живших в то время в Москве: подьячего Посольского приказа Григория Котошихина, шотландского офицера Патрика Гордона, имперского посла Августина Мейерберга (хотя он и покинул столицу еще весной 1662 года, но летом находился в Смоленске, куда быстро дошли сведения о московских волнениях). Со временем события «Медного бунта» и последующая расправа с восставшими были досконально исследованы историками{476}.
Именно из следственных дел (а их было не одно, а несколько, и не все из них сохранились) можно получить наиболее точную информацию о происходивших в Москве событиях 25 июля 1662 года.
Уже через несколько часов после появления прокламации в Земский приказ была подана «сказка» сотского Павла Григорьева, в чьи обязанности как раз и входило следить за порядком на территории Сретенской сотни (документ был впервые обнаружен и опубликован историком Виктором Ивановичем Бугановым): «Шел он, Павел, в город из двора своего, и как будет у Стретенской решотки, и у решотки де у столпа прилеплено воском писмо, написано на дву столицах, чтут многие люди. А он де, соцкой, чел то писмо, а написано де в том писме изменниками боярина Илью Даниловича Милославского да окольничих Ивана Михайловича Милославского да Федора Михайловича Ртищева да гостя Басилья Шорина». Изъять письмо были посланы судья Земского приказа Семен Ларионов и дьяк Афанасий Башмаков, с которыми отправился и сотский Григорьев. Однако собравшиеся люди подметный «лист» у них отняли и принесли его толпой царю Алексею Михайловичу в Коломенское{477}.
На следствии выяснилось, что зачинщиком «воровства» стал посадский человек Сретенской сотни, десятский Лука Жидкий. Однако из его показаний следовало, что в столь раннее время, «в другом часу дни» 25 июля, он оказался «на Сретенской на Большой улице» по мирским делам: «был у них у мирских людей, меж собою совет о пятиной деньге» (эта деталь лишний раз показывает, что «сказки» гостей, торговых и посадских людей, которые правительство царя Алексея Михайловича собирало в начале 1662 года, предварительно обсуждались, образно говоря, «на улице»){478}. Уже «идучи от Никольских ворот Сретенскою», Лука услышал «на Лубянке де у столба письмо приклеено». Прибывшие «дворянин да дьяк» «то писмо взяли», однако отвезти его на Земский двор им не дали. «И миром де хотели у них то писмо отнять», – показывал Лука Жидкий, поэтому дьяк Афанасий Башмаков счел за лучшее отдать письмо сотскому Павлу Григорьеву, тот передал его своему подчиненному – десятскому, а сам ретировался. После чего, признавался Лука Жидкий, «и миром, де, ухватя ево с тем письмом, отвели в Коломенское. А в Коломенском де то письмо подал он великому государю».
Естественно, что эти показания, имевшие отношение к приходу толпы жителей Москвы в Коломенское к царю Алексею Михайловичу, интересовали следователей в первую очередь. У десятского Луки Жидкого хотели подробнее выяснить: «В которое время он в Коломенском то письмо великому государю подал, и как ис Коломенского к Москве прошол, а их братья многие в то время переиманы, и хто иные из Коломенского с ним к Москве шли?» Отвечая на эти вопросы, десятский сказал: «…писмо де он в Коломенском подал великому государю у церкви на нижней паперти, а было у него то письмо в шапке».
Оказалось, что подметный «лист» был не просто обнаружен на Лубянке, но его еще несколько раз читали вслух в Москве, «объявляли» в народ. Так выяснилось имя еще одного заметного участника событий – стрельца Кузьмы Нагаева, служившего в приказе самого Артамона Матвеева. О нем рассказал на допросе в Московской сыскной комиссии все тот же сретенский сотский Павел Григорьев. По его показаниям, когда судья и дьяк Земского приказа то подметное письмо взяли «и миром почали кричать, чтоб то письмо у них отнять», сретенский сотский узнал кричавшего «во весь мир на все стороны, чтоб миром за то постояли», стрельца Кузьму Нагаева. Сотскому стали угрожать и приказывать, «чтоб он то письмо… взял, а не возьмет, и ево прибьют каменьем». Дальше, как уже известно, судья и дьяк ретировались, а «ево де, Павлика, с тем письмом миром привели на Лубянку к церкве преподобного Феодосия и взвели на крыльцо, а вел де ево, взяв за ворот, стрелец Куземка Нагаев». Как видим, Павел Григорьев отчаянно пытался убедить следователей в своей лояльности, в том, что он действовал по принуждению. Но стрелец Кузьма Нагаев показывал, что сретенского сотника насильно за ворот никуда не тащил, а признавался только в участии в событиях у церкви Феодосия Печерского. Увидев «писмо», вывешенное на сторожевой решетке у Лубянки, Кузьма сначала забежал на кружечный двор: «И, пив он на кружечном дворе вино, пришол на Лубянку к церкве преподобнаго Феодосия, и то писмо от решотки отнято, и дали ему миром прочесть вслух, а кто дал не знает».
Логика в действиях собравшихся москвичей была. Сотник Павел Григорьев важен для восставших, потому что представлял выборных от посадского мира, в его руках и оказалось «письмо» с обвинениями в «измене» боярам и окольничим из царского окружения. Следующий шаг – чтение этого письма в «мир» с паперти Феодосьевской церкви на Лубянке. Первым это сделал подогретый винными парами стрелец Кузьма Нагаев: он взял на время письмо у сотского и, «став на лавке, чол всем вслух и кричал в мир, чтоб за то всем стоять». Потом сцена повторилась, когда с письмом об «изменниках» толпа пошла в Земский приказ (им всего-то надо было пройти Никольскую улицу). У Казанской церкви рядом со старым Земским двором на Красной площади зачитывать письмо попытались заставить самого Павла Григорьева, но он отказался, даже после того, как его «поставя на скамье, велели то письмо ему чести». Тогда стрелец Кузьма Нагаев снова «чол всем вслух и кричал, что миром за то стоять». Какой-то неизвестный подьячий, оказавшийся в это время у Земского двора, прочитал «писмо» еще раз, «на другую сторону», чтобы его услышали все. Сотский Павел Григорьев, воспользовавшись обстоятельствами, посреди «шума» и всеобщего возбуждения, «убояся смерти», «отпросился на сторону, а то писмо у подъячево приказал взять своей сотни десятцкому Лучке Житкому». Ему и предстояло донести послание «мира» в своей шапке до самого царя Алексея Михайловича в Коломенское{479}.
Стихия бунта сразу вовлекла в него множество людей, еще утром и не помышлявших ни о каком выступлении. Следственное дело оказалось срезом повседневной жизни одного летнего дня в Москве в 1662 году. Многие шли по своим делам и даже не подозревали, что этот день изменит их жизнь навсегда. Одним из таких случайных участников «Медного бунта» был нижегородский сын боярский Мар-тьян Богданович Жедринский. Именно через него десятский Лука Жидкий передал «подметное» письмо, когда тот стоял напротив царя Алексея Михайловича. В глазах возмущенного «мира» уездный дворянин Жедринский мог выглядеть представителем еще одного чина на земских соборах. «Ив Коломенское перед великим государем то писмо подносил, – показывал Жедринский, – а у какого человека с шапкою взял и к великому государю поднес, а того человека он не знает».
Мартьян Жедринский давал свои показания после первых казней в Москве и понимал, чем ему грозило участие в выступлении московского «мира». Поэтому он сразу предпочел покаяться: «А что де он говорил, чтоб государь изволил то писмо вычесть перед миром и изменников при-весть перед себя, великого государя; и в том де он перед великим государем виноват». Бояре приговорили Мартьяна к «казни» и допросили еще раз «с пристрастием». Из его допросных речей узнаём приметы единственного оставшегося неузнанным участника событий, про которого, наверное, следователи царя Алексея Михайловича хотели узнать больше всего. Рядом с Жедринским и Лучкой Жидким перед государем стоял и говорил еще какой-то человек «в однорядке вишневой», сказавшийся рейтаром. Похоже, что именно ему и удалось подтвердить оскорбительным для царской чести рукопожатием договоренности царя с «миром».
Тем временем, узнав о начавшихся волнениях, одни посадские люди бежали на Красную площадь, ближе к Кремлю, другие стали грабить дворы «изменников», названных в подметных письмах. Служилые люди, повинуясь долгу, стремились скорее попасть в место расположения своих полков, но вестовая служба через барабанщиков не сработала, кто-то остался в Москве, кого-то события «утянули» в Коломенское. Один из лишенных потом звания и сосланных командиров, князь Данила Кропоткин, показывал, что «салдаты де учинилися непослушны, многие к съезжему двору с ним не пошли, а пошли к Серпуховским воротам, а сказали ему, что там полк збираетца»{480}. Про солдат даже говорили, что они выгоняли торговцев из лавок, приказывая им сворачивать торговлю и идти бить челом царю.
Совершенно иначе, чем в Москве, выглядели эти события в Коломенском, где еще накануне готовили именинные пироги. Утром 25 июля царь Алексей Михайлович был на службе в церкви Вознесения в честь именин своей сестры – царевны Анны Михайловны. В ожидании традиционной раздачи подарков в Коломенском собирались члены Думы и Государева двора. В этот момент они и увидели огромную толпу людей, двигавшуюся из Москвы. Царя и его семью, конечно, охраняли стрельцы, но что могла сделать царская охрана в несколько сотен человек с многотысячной толпой? «Мятежники», по свидетельству Патрика Гордона, «толпою вышли из Серпуховских ворот. Их было около 4 или 5 тысяч, без оружия, лишь у некоторых имелись дубины и палки. Они притязали на возмещение [убытков] за медные деньги, соль и многое другое». Уже было известно о «листах», расклеенных в разных местах в столице, и о том, что какой-то «стряпчий» читал перед Земским двором «лист, содержащий их жалобы»; назывались и «имена некоторых особ, коих они мнили виновными в злоупотреблениях», после чего прозвучал призыв ко всем идти к царю и добиваться возмещения, а также голов дурных советников.
Первым делом царь Алексей Михайлович позаботился о том, чтобы спасти семью, царицу Марию Ильиничну и детей. Царице было тяжелее всего, имя ее отца боярина Ильи Даниловича Милославского звучало первым в ряду тех «изменников», кого требовали выдать на расправу. Не случайно подьячий Григорий Котошихин писал, что царица почти год не могла оправиться от произошедшего. По рассказу Котошихина, Алексей Михайлович решил сам встретить челобитчиков, предварительно укрыв семью и ближних бояр: «…и увидел царь из церкви, идут к нему в село и на двор многие люди без ружья, с криком и с шумом; и видя царь тех людей злой умысл, которых они бояр у него спрашивали, велел им сохранитися у царицы и у царевен, а сам почал дослушивать обедни». Психологически это был безупречно выверенный ход. Нарушить царскую молитву толпа не могла: существовал прямой запрет на подачу челобитных царю в церкви. Требовалось время и для того, чтобы лучше организовать охрану семьи: «…а царица в то время, и царевичи, и царевны запершися сидели в хоромех в великом страху и в боязни». Все дальнейшее надо воспринимать с учетом этого главного обстоятельства.
Как писал Котошихин, царю все равно пришлось прервать службу и выйти к людям, самовольно объявившимся в Коломенском для подачи челобитной царю «о сыску изменников» и просившим «тех бояр на убиение». Страх 1648 года возвращался, только опасность была еще сильнее, так как царь и его семья находились в пригородном дворцовом селе, а не под охраной кремлевских стен. И Алексей Михайлович вступил в переговоры с мятежниками – «уговаривал их тихим обычаем»! Царь стремился успокоить толпу и возвратить ее назад в город, обещая «кой час отслушает обедни, будет к Москве и в том деле учинит сыск и указ». Тут и произошла немыслимая ранее сцена, ярко описанная Григорием Котошихиным: «И те люди говорили царю и держали его за платье за пугвицы: «Чему де верить?»; и царь обещался им Богом и дал им на своем слове руку, и один человек ис тех людей с царем бил по рукам, и пошли к Москве все; а царь им за то не велел чинити ничего, хотя и было кем противитися».
Можно представить, сколько потом разговоров ходило об этом «рукопожатии» с царем Алексеем Михайловичем! Первый и единственный раз кому-то из подданных удалось «бить по рукам» с самим царем! Но наивная надежда на крепость такого «договора» жила недолго. Алексею Михайловичу удалось отвести удар от семьи и выиграть время для организации своей охраны. Были отданы соответствующие приказы, и в Коломенское скорым маршем двинулись стрелецкие полки верного друга Артамона Сергеевича Матвеева и Семена Федоровича Полтева. Патрик Гордон тоже пытался самостоятельно пройти в Коломенское, но не смог, все «дворцовые аллеи», по его свидетельству, были запружены восставшими, и ему пришлось ретироваться, чтобы не попасть в плен. Встретившись на обратной дороге со стрелецкими полковниками, спешившими в Коломенское, Гордон не мог не заметить, что их полки основательно поредели. Так же как и стоявший у Кожуховского моста Первый выборный полк Агея Шепелева, «ибо многие из его солдат участвовали в бунте».
Первая волна челобитчиков стала расходиться. Теперь надо было прекратить беспорядки. В дело был брошен неожиданно оказавшийся в то время в Коломенском боярин князь Иван Андреевич Хованский, о военных делах которого в Литве все так много слышали. Именно ему царь Алексей Михайлович «велел на Москве уговаривать, чтобы они смуты не чинили и домов ничьих не грабили». Царь подтверждал через князя Хованского, что приедет в Москву «для сыску того ж дни». С Хованским никаких счетов у московского мира быть не могло, поэтому ему говорили: «что де ты, Хованской, человек доброй, и службы его к царю против польского короля есть много и им до него дела нет, но чтоб им царь выдал головою изменников бояр, которых они просят».
В Москве тем временем толпа разграбила двор гостя Василия Шорина, «которой собирал со всего Московского государства пятую денгу». Сам купец успел спрятаться на дворе боярина князя Якова Куденетовича Черкасского, а его пятнадцатилетнему сыну Борису пришлось самостоятельно искать спасения, «пострашась убийства, скиня с себя доброе платье, вздел крестьянское и побежал с Москвы». Но его поймали и заставили оговорить отца, якобы тот «побежал в Полшу вчерашняго дня з боярскими листами». Теперь уже вторая волна челобитчиков, которых было также «болши 5000 человек», пошла «к царю в поход», ведя с собою младшего Шорина. По дороге они увлекали обратно начавших расходиться людей, уже передавших царю первое «письмо».
Был разграблен и двор гостя Семена Задорина. Но такие действия, в глазах правительства, были уже полностью незаконны. Как пишет Котошихин, как только толпа снова ушла в Коломенское, остававшиеся в городе войска быстро взяли под охрану городские ворота, больше никого не впуская и не выпуская из Москвы. С этого-то момента и начинается по-настоящему «Медный бунт». Царь Алексей Михайлович выехал навстречу и новым челобитчикам, пытаясь уговорить их разойтись. Приведенного ими в Коломенское Бориса Шорина царь приказал «отдать на вахту», но толпа жаждала крови: «почали у царя просить для убийства бояр, и царь отговаривался, что он для сыску того дела едет к Москве сам».
Отказ царя подогрел страсти. Из толпы стали выкрикивать разные оскорбительные слова: «…и они учали царю говорить сердито и невежливо, з грозами: будет он добром им тех бояр не отдаст, и они у него учнут имать сами по своему обычаю». Такое сопротивление своей воле царь Алексей Михайлович не стал терпеть. В Коломенское уже подошли два верных ему стрелецких приказа, и охрана царя получила приказ начать расправу: «тех людей бита и рубити до смерти и живых ловити»{481}.
Внезапному переходу от привычного миролюбия и «тихого обычая» к прямой расправе с челобитчиками есть объяснение. Всё это время рядом с Алексеем Михайловичем находилась семья, и опасения за ее судьбу – особенно после того, как новые челобитчики повели себя отнюдь не миролюбиво, – заставили его отдать прямой приказ о преследовании и казни участников бунта.
В записках барона Августина Мейерберга приводится показательный рассказ о давлении толпы на царя. Якобы царь Алексей Михайлович был готов поручиться женою и сыном, что исполнит обещание о сыске. Как объяснял мемуарист, эти слова были восприняты как царская слабость, и они «еще смелее принялись за наглости, не воздерживаясь от ругательных слов на царицу». (Это выглядит правдоподобным: ведь главной целью мятежников был отец царицы Марии Ильиничны боярин Илья Данилович Милославский.) Вот тут уже царь Алексей Михайлович и «вспылил», бросив охране слова: «Избавьте меня от этих собак!»{482}
Подробностей о том, как разгоняли восставших, сохранилось мало. Приходится опять обращаться к известию Григория Котошихина о массовых расправах с безоружными челобитчиками, которые «почали бегать и топитися в Москву реку». Утонуло больше ста человек, а «пересечено и переловлено болши 7000 человек, а иные розбежались». Из пойманных, по сведениям Котошихина, «около того села повесили со 108 человек», «а иным пущим вором того ж дни в ночи учинен указ: завязав руки назад, посадя в болшие суды, потопили в Москве реке».
Картина страшная, тем более что, по свидетельству Котошихина, «не все были воры, а прямых воров болши не было, что с 200 человек», остальные – «невинные люди», шедшие «за теми ворами смотрить, что они, будучи у царя, в своем деле учинят». Котошихин перечисляет тех, кто был «в том смятении»: «люди торговые и их дети, и рейтары, и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские, и гулящие, и боярские люди», особенно подчеркивая отсутствие среди участников бунта «поляков и иных иноземцев», хотя их «на Москве множество живет», а также «гостей и добрых торговых людей»{483}.
Документальных свидетельств о подавлении «Медного бунта» в окрестностях Коломенского стрельцами полков Матвеева и Полтева во второй половине дня и ночью с 25 на 26 июля не сохранилось. Наверное, их и не могло быть: сказывалось ожесточение бунта, а стрельцы должны были оправдаться за провал царской охраны в Коломенском. Опомнились от потрясений только на следующий день. Царь Алексей Михайлович сам взялся за сыск. 26 июля был назначен глава следствия в Москве – боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, которому подчинили не слишком хорошо проявившего себя в событиях бунта боярина князя Федора Федоровича Куракина (он задержал отсылку к царю в Коломенское полка Агея Шепелева и других войск и ждал до последнего царских указов, чтобы не брать на себя никакой ответственности). Трубецкому приказали первым расследовать дело о поимке стрелецким полугодовой Василием Баранчеевым «воров и мятежников с грабежными животы», то есть с поличным на дворах гостей Шорина и Задорина. Грабителей следовало после розыска казнить как самых опасных преступников: «И вы б тех воров, пущих заводчиков и людей боярских по своем [у] розсмотренью по прежнему нашему великого государя указу (подтверждение идущих от царя разрешений на казнь. – В. К.) велели вершить около Москвы по всем дорогам»{484}.
Сразу же приняли меры по успокоению войска в Новгороде, Севске, Смоленске и других городах, куда могли дойти слухи о московских событиях. Уже 26 июля в полки была отослана составленная наспех грамота, где рассказывалось, что в столице все спокойно: «В нашем царствующем граде Москве собрався воры розных чинов, худые людишка, учинили мятеж и учали было домы грабить, а иные пришли к нам великому государю в село Коломенское и учали бить челом с большим невежеством». Главное, о чем спешили уведомить полковых воевод, что «наши великого государя всяких чинов ратные и торговые и земские люди к тому их воровству никто не пристали», а из тех немногих, кто «невежеством» приходил к царю в Коломенское, велено было найти «пущих заводчиков» и по царскому указу и боярскому приговору «казнить смертью», остальных же примерно наказать: «а иным чинить жестокое наказанье без пощады и сослать в ссылку в дальние городы на вечное житье»{485}.
26-го же числа в Москве на Лубянке и «Болоте» состоялись первые казни. Именно участники грабежей стали главными виновниками царского гнева. В отличие от рас-прав накануне, здесь уже все зафиксировано документально; глава комиссии послал царю Алексею Михайловичу полный отчет о своей деятельности. В отписке подсчитаны все люди, попавшие под следствие и приговоренные к казни. 98 человек были «переиманы на дворех у гостей у Василья Шорина, у Семена Задорина воры, которые животы их грабили». Царь еще раз подтвердил указ о «вершении» воров, приказав устроить показательную казнь (словесный указ был передан через думного дворянина Ивана Афанасьевича Прончищева): «ис тех воров повесить десять или двадцать человек». Комиссия боярина князя Трубецкого докладывала, что повесили 20 человек, разделив их на две группы: «половину» (на самом деле семь человек) – «в Белом городе на Лубянке» (там начинались события), «а другую за Москвою рекою на Болоте», где располагалось традиционное место казней{486}.
Розыск по «Коломенскому делу» продолжался еще долго, но по мере того, как проходило время, царский гнев остывал. Наказание «бунтовщиков» было жестоким, но их больше не вешали и не топили в реке без всякого суда, а по решению следствия рубили им ноги и руки, отсекали языки и оставляли жизнь, если существование в приживальщиках у «родимцов», на которое их обрекали, можно назвать жизнью. Самое тяжелое наказание последовало для стрельца Кузьмы Нагаева и сотского Луки Жидкого. Их подвергли публичному наказанию 31 июля, вскоре после увечий Нагаев умер. Нижегородского сына боярского Мартьяна Жедринского и рейтара Федора Поливкина тоже приговорили к отсечению руки.
Помимо Коломенского и Москвы, еще одна следственная комиссия работала в Никольском Угрешском монастыре; ее возглавляли боярин Петр Михайлович Салтыков и дьяк Тайного приказа Дементий Башмаков. Они разбирались со стрельцами и солдатами Первого выборного полка Агея Шепелева, выказавшими неповиновение своим командирам и самостоятельно пришедшими в Коломенское. Примерно 400 человек, у которых предварительно забрали выданные на службе казенные зипуны (государевы служилые кафтаны), сослали скованными в кандалы в Астрахань и Сибирь. Однако чем дальше разрастался сыск, тем больше следствие превращалось в обременительную для казны рутину. Надо было заботиться о жалованье и пропитании ссыльных и тех, кто их сопровождал, искать кузнецов для «кандального» дела, подготовить десять стругов и «добрых» гребцов для них и т. п. Новые дела продолжали открываться по доносам или расспросным речам и признаниям, выбитым ударами кнута, но после казни основных зачинщиков и устрашения жителей московского посада они уже не имели большого смысла.
Царь Алексей Михайлович впервые после событий «Медного бунта» покинул Коломенское и ездил в Новодевичий монастырь на праздник Смоленской иконы Божьей Матери 28 июля. Царская семья была оставлена под охраной боярина князя Ивана Андреевича Хованского, возглавлявшего сыскную комиссию в Коломенском. В Новодевичий монастырь к царю пришел покаянный крестный ход жителей московского посада во главе с допустившим беспорядки в столице боярином князем Федором Федоровичем Куракиным. Царь распорядился и дальше ведать ему дела в Москве, кроме того, Куракин вместе с боярином князем Алексеем Никитичем Трубецким продолжал участвовать в работе сыскной комиссии в Москве.
На обратном пути из Новодевичьего монастыря Алексей Михайлович ненадолго остановился и приказал устроить походный «шатер», где произошло примечательное событие – пожалование в «комнату», то есть в круг самых близких советников, боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукого. Уже из этого видно, что царь пережил необычное время; ему понадобилось опереться прежде всего на испытанных боями русско-польской войны бояр: князя Ивана Андреевича Хованского, князя Алексея Никитича Трубецкого и князя Юрия Алексеевича Долгорукого.
Явная спешка, с которой царь стремился возвратиться в Коломенское, всего лишь на несколько часов дважды выехав в Москву, 28 июля и 7 августа, тоже может быть объяснена. Он беспокоился за оставленную в Коломенском семью: царицу Марию Ильиничну и детей. По свидетельству подьячего Григория Котошихина, царицу события бунта особенно потрясли: «Да от того ж смутного времяни, как приходили воровские люди к царю и учинилася смута и кроворозлитие, царица от великого страху, испужався, лежала в болезни болши году». Окончательно «с своим государским домом» или, как сказано в разрядных книгах, «с государынею царицею» царь Алексей Михайлович вернулся в столицу в воскресенье 10 августа{487}.








