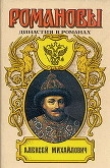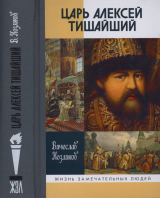
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
Вторая «статья» царского письма Артамону Матвееву касалась текущих военных дел. Царь уже знал, что против него соединились и выступили два литовских гетмана – великий гетман Литовский Януш Радзивилл и полный гетман Винцентий Госевский (кстати, сын Александра Госевского – главы московского гарнизона в 1612 году): «Подлинно Радивил да Гасевской пришли под Новый Быхов, а с ними пришли всяково чину 12 000 и облегли Новый Быхов, в двух и в трех верстах, а на приступ не смеют итить». Царь иронизирует над тем, что языки говорили сначала о том, что из Литвы идет 100 000 войска, затем «другие сказали» – 50 000, «третьи» – 40 000, – четвертые 24 000, пока «подлинно доведалися» о численности в 12 000. Правда, это в два раза превышало численность защитников Нового Быхова во главе с наказным гетманом запорожских казаков Иваном Золотаренко. Поэтому царь распоряжался отправить ему на помощь войска.
В этой войне царь сам привык быть в наступлении; еще и поэтому он писал Артамону Матвееву о действиях литовских войск, стремившихся вернуть потерянные города. Ответный поход литовских гетманов, наконец-то договорившихся о совместных действиях с королем Яном Казимиром и друг с другом (оба гетмана страшно враждовали), несколько путал карты. Алексей Михайлович самолюбиво не соглашался с тем, что кто-то заставляет его выступить в поход и менять планы: «А мы, великий государь, идем тоже, а не потому что Радивил гордитца пред Богом, а хочет взять Новый Быхов з Золотаренком да Могилев да Шклов и, взяв, итить к Москве. И то свинско есть, что пред Богом хвалится…» Царь получил сведения, что король Ян Казимир был уже готов отправить послов в Москву, но гетман Януш Радзивилл его отговорил. Царь даже пересказывает его слова королю: «Я де пойду, еще отведаю счастья своево и Золотаренка собою и городы отворочю и под Москву пойду».
Наконец, в третьей «статье» письма Артамону Матвееву царь сообщал о военных действиях вокруг Витебска и об открывшихся изменах в смоленских волостях, где были побиты царские ратные люди и захвачены в плен воеводы, которых передали в войско гетмана Радзивилла. Но пока царь решил «на малое время, легким делом, оставя все в Вязме», идти в Москву. Он подробно объяснял цели своего похода в столицу: «Бояр, и околничих, и думных дьяков, и всех людей от печали обвеселить и утешить, и, отвезши сестр своих государынь, и царицу свою, и детей, назад возвратимся, и пойдем за милостию Божиею противу Полского короля, не мешкая»{325}.
Месяц в МосквеАлексей Михайлович не мог удержаться от слез, когда увидел брошенный Кремль с поверженным царским гербом над Фроловскими воротами. Отправляя свои войска в Смоленский поход, он готов был плакать от радости, другие слезы пришлось пролить при возвращении в Москву…
Свидетелем прохождения царских войск по московским улицам 10 февраля 1654 года стал диакон Павел Алеппский{326}. Царю, конечно, хотелось, чтобы это был триумфальный, победный марш. И он был таковым, несмотря ни на что. Первым в город вошло войско. От Земляного города вся процессия из «государственных чинов и войска» шла выстроенная в три колонны, «в ознаменование Святой Троицы». Во главе каждого полка несли знамена, а рядом шли барабанщики. Цвет знамени совпадал с цветом одежды служилых людей: «Если знамя было белое, то все ратники, за ним следовавшие, были в белом; если синее, то и ратники за ним в синем, и точно так же, если оно было красное, зеленое, розовое и всяких других цветов». Это были знамена победоносного царского похода с образами Успения Богородицы, Спаса, Михаила Архангела, Георгия Победоносца, Димитрия Солунского и царским гербом и другими украшениями. Диакона Павла Алеппского особенно поразили «одежда и стройный порядок ратников»; строй немного нарушался только тогда, когда они шли мимо церквей и дружно, снимая свои шапки («колпаки»), крестились на надвратные храмовые иконы и кресты. Шествие войска продолжалось много часов, в итоге оно выстроилось в почетный караул от стен Кремля до границ Земляного города.
Там патриарх Никон (также вернувшийся в Москву) под общий колокольный звон вышел навстречу царю Алексею Михайловичу. Церковные власти и посадские люди встречали царя хлебом-солью, несли дорогие подарки – иконы в окладах, соболя и кубки, как будто и не было недавнего разорительного бедствия. Затем появились стрельцы с метлами, расчищавшие царский путь. Царь ехал в обитых алым сукном санях, за ним двигались позолоченные возки («кареты») со стеклянными дверями, в которых находилась царская семья.
Перед въездом в Кремль Алексей Михайлович остановил процессию и спешился. Тогда-то, как пишет Павел Алеппский, и пришлось ему «пролить обильные слезы» при виде разрушенной от пожара Фроловской башни. Пока царь проходил через Кремль, антиохийский патриарх Макарий и его сын, находившиеся в Вознесенском монастыре, успели рассмотреть, что царь шел «с непокрытою головою, беседуя с патриархом Никоном». Перед царем и патриархом несли иконы и хоругви, пели царские певчие, и уже не было никаких барабанов и флейт. Павел Алеппский подробно описал «царское одеяние из алого бархата, обложенное по подолу, воротнику и обшлагам золотом и драгоценными каменьями, со шнурами на груди, как обычно бывает на их платьях». Около Вознесенского монастыря царь положил три земных поклона перед надвратной иконой и ответил на поздравления игуменьи и монахинь, традиционно приветствовавших царя хлебом-солью. Все было устроено так, чтобы царь попал к вечерне в Успенском соборе, «после чего поднялся в свой дворец»{327}.
Алексею Михайловичу удалось «обвеселить» людей, как он хотел. С его неожиданным приездом в столицу появлялась надежда на восстановление прежней жизни; были отставлены волновавшие московский посад страхи и разговоры «о Радзивиле и крале» (польском короле); стало ясно, что царская армия по-прежнему сильна и готовится к продолжению войны. Приезд царя помог и патриарху Никону вернуть если не доверие, то повиновение людей. Патриарх много делал для того, чтобы подчеркнуть свою роль в начавшейся войне. Шведский резидент де Родес доносил королю Карлу X 9 декабря 1654 года: «Мне было доверительно сообщено, что патриарх московский днем и ночью всем внушает и о том же говорит публично, как Москва благодаря его молитве и совету получила от Польши все, что хотела, и как она к тому же спасла верных ее религии из их бедственного положения. Теперь в Москве говорят, что Бог благословил их в их праведном предприятии, а также, что поход его счастливо удался и что отныне они должны снова привлечь к себе приверженцев своей несчастной религии на Украине и в Белоруссии»{328}. Но люди знали, что молитва патриарха не смогла защитить Москву от «морового поветрия», и не могли простить ему отъезд из столицы в самое тяжелое время.
Павел Алеппский записал слова царя, обращенные при встрече к антиохийскому патриарху Макарию: «Поистине, ради тебя, отец мой, я прибыл, чтобы свидеться с тобою и получить твое благословение». Нет причины не доверять сказанному: царские слова были не только данью вежливости. Первое, что сделал царь Алексей Михайлович, возвратившись в Москву, – распорядился готовить прием вселенского патриарха. Их встреча состоялась уже через день, 12 февраля, и тогда патриарх Макарий произнес слова, которые, может быть, больше всего ждал от него царь. Вселенский патриарх сравнил его с царем Константином и молил даровать ему победы в борьбе за веру. Не случайно, «услышав эти слова», царь, по словам диакона Павла Алеппского, стал «чрезвычайно радостен».
Патриарху Макарию удалось удивить царя. На заранее приготовленных блюдах были разложены самые разнообразные подарки, привезенные в Москву, несмотря на все трудности долгого путешествия: старинные иконы и пергаменные книги, сосуды с миром, «чудесный индийский ларец из слоновой кости с маленьким серебряным замком», внутри которого была помещена «частица подлинного Древа Креста», и другие святыни. В Константинополе патриарх Макарий приобрел для царя «кусок Честного Камня с Голгофы… подлинный, с признаками и свидетельствами». Такие подарки, конечно, поднимали авторитет Московского патриархата. День первого приема патриарха Макария 12 февраля приходился на именины наследника – царевича Алексея Алексеевича, которому исполнился год. Подарки царевичу – «перст Алексия, человека Божия, и немного волос его в серебряном, вызолоченном сосуде» и многое другое («манна, ладан, фисташки, миндаль, леденцы») – были тоже с благодарностью приняты. Царя Алексея Михайловича особенно заинтересовали диковинные вещи: фисташки, ладан и манна (застывший сок тамариска).
Царь явно благоволил приехавшему вселенскому патриарху и даже слегка изменил протокол, чуть дальше, на одну ступеньку, сойдя с трона при встрече и отправив бояр провожать патриарха. И еще один примечательный штрих, свидетельствующий о доверительном отношении царя к своим гостям. Он обратил внимание на то, что греческий язык патриарха Макария, на котором тот отправлял посольство, несколько отличается от обычной беглой манеры разговора греков (царь спросил «драгомана» (переводчика), «почему патриарх не говорит быстро). Переводчиков с родного для патриарха Макария арабского языка в Посольском приказе не нашли, а на предложение говорить по-турецки царь ответил отказом – чтобы патриарх не «осквернял» свои уста «нечестивой речью». Это был явный знак, указывающий, кто был настоящим врагом московского царя в начатой им войне за веру. Подтверждает это и Павел Алеппский: «Здесь совсем не терпят турецкой речи и слышать ее не могут, думая, что осквернится их слух».
В последующие дни антиохийского патриарха принимал патриарх Никон, царь приказал оказывать высокому гостю все возможные почести. Визиты вселенских патриархов были все-таки редкостью; в Москву чаще приезжали иерархи или архимандриты и игумены из Греции и Сербии, которые пользовались щедротами русского царя, не жалевшего казны для поддержки единоверцев, угнетенных в Османской империи. Присутствие же вселенских патриархов в Московском царстве стремились использовать, чтобы решать свои внутренние церковные задачи. Достаточно вспомнить посредничество иерусалимского патриарха Паисия в делах с гетманом Войска Запорожского Богданом Хмельницким. Не без участия этого вселенского патриарха случились тогда утверждение Никона на московском патриаршестве и его поворот к «грекофильству». Приезд антиохийского патриарха Макария тоже имел целью получение «милостыни» от православного царя, но Макарий еще и удивил царя Алексея Михайловича своими подарками и оказал ему духовную поддержку в спорных делах Русской церкви.
Своим авторитетом патриарх Макарий помог разрешить болезненный спор об иконах, ставший, как многие помнили, поводом для Чумного бунта. В первое воскресенье Великого поста 4 марта состоялась служба в Успенском соборе, на которой присутствовал царь Алексей Михайлович. Церковь в этот день отмечает Торжество Православия и предает анафеме своих врагов. Патриарх Никон устроил целое действо, повторявшее его борьбу с теми иконами, которые «московские иконописцы стали рисовать по образцам картин франкских и польских». Однажды патриарх Никон уже распорядился после отъезда царя Алексея Михайловича в Смоленский поход собрать повсюду такие иконы. Как писал диакон Павел Алеппский, Никон «выколол глаза у этих образов, после чего стрельцы, исполнявшие обязанность царских глашатаев, носили их по городу, крича: «Кто отныне будет писать иконы по этому образцу, того постигнет примерное наказание». Конечно, продолжал автор записок, «видя, как патриарх поступал с иконами, подумали, что он сильно грешит, пришли в смущение и волнение и сочли его противником икон. В это время случилась моровая язва, и солнце померкло перед закатом 2 августа. Они подумали: «Все случившееся с нами есть гнев Божий на нас за надругательство патриарха над иконами». Никон не щадил чувств не только простолюдинов, но и знати, из домов которых также изымались иконы. Но патриарх начал свою борьбу, когда царя Алексея Михайловича не было в Москве, поэтому думали, что царь ничего не знает об этом.
Пресечь подобные разговоры о несогласии царя и патриарха могло только повторное осуждение «неправильных» икон в присутствии царя. Антиохийский патриарх Макарий подтвердил правоту Никона: «…патриархи предали анафеме и отлучили от церкви и тех, кто станет изготовлять подобные образа, и тех, кто будет держать их у себя». Экзекуция написанных не по образцу икон повторилась: «Никон брал эти образа правою рукою один за другим, показывал народу и бросал их на железные плиты пола, так что они разбивались, и приказал их сжечь». Сколь ни поддерживал Никона царь Алексей Михайлович, но и он не выдержал и попросил патриарха смягчиться. «Царь стоял близ нас с открытою головой, – писал Павел Алеппский, – с видом кротким, в молчании внимая проповеди. Будучи человеком очень набожным и богобоязненным, он тихим голосом стал просить патриарха, говоря: «Нет, отче, не сожигай их, но пусть их зароют в землю». Так и было сделано». Патриарх достиг своей цели; попутно же он наносил удар еще и по своим врагам среди бояр и знати. Каждый раз, показывая изъятую икону, он говорил: «Эта икона из дома вельможи такого-то, сына такого-то», называя имена царских сановников. «Целью его было пристыдить их, так, чтобы остальной народ, видя это, принял себе в предостережение». На самом деле патриарх Никон торил дорогу к расколу Русской церкви, и уж во всяком случае наживал себе могущественных врагов среди знати.
И еще один акт драмы церковного раскола произошел в тот же день 4 марта в Успенском соборе. Именно с этой службы в начале Великого поста 1655 года под запретом оказалось двуперстное сложение. И опять все случилось при участии антиохийского патриарха Макария, подтвердившего в храме (через переводчика) сказанное Никоном в поучении о крестном знамении: «Ни в Александрии, ни в Константинополе, ни в Иерусалиме, ни в Синае, ни на Афоне, ни даже в Валахии и Молдавии, ни в земле казаков никто так не крестится, но всеми тремя пальцами вместе»{329}. В Московском царстве должны были молиться одинаково с другими православными землями! Так мечта о торжестве вселенского Православия расколола собственную церковную традицию и самих русских людей на «никониан» – сторонников «официального» православия и старообрядцев, не захотевших отказаться от привычного образа веры и почитаемых святынь.
11 марта 1655 года антиохийский патриарх Макарий провожал царя в поход из Москвы вместе с патриархом Никоном. Отъезд царя выглядел совсем не таким триумфальным шествием, как это было в начале войны в 1654 году. Царь уезжал вечером, рядом в санях сидели сибирские царевичи, перед ними везли доставленную с Востока в октябре 1653 года икону Богоматери Влахернской, известную в православном мире как защитницу Константинополя{330}. Повсюду стоял оглушительный колокольный звон, горели свечи. Простившись с провожавшими патриархами{331}, царь отправился в новый поход. Скорый отъезд Алексея Михайловича стал для всех неожиданностью; в Москве рассчитывали, что он останется до Пасхи и уйдет в поход позже. Но царь стал получать тревожные вести из оставленных им новых городов. Пока еще позволяла зимняя дорога, он тронулся в обратный путь в Вязьму и «в свою государеву отчину» в Смоленск «для своего государева и земского дела»{332}.
«Лихо против рожна прати»Целью нового государева похода стали две столицы Речи Посполитой – Вильно в Великом княжестве Литовском и Варшава в Короне Польской.
Царь Алексей Михайлович собирался в 1655 году выйти далеко за границы земель, потерянных Русским государством в Смутное время. Начиналась война за исторические права на земли другого, объединенного унией государства. Царь видел себя наследником киевских князей Рюриковичей, потерявших Западную Русь в соперничестве с правившими Литвой князьями Гедиминовичами и их союзниками польскими королями. Между тем в западнорусских землях давно уже выветрились воспоминания об общем древнерусском наследстве: дружинников сменила шляхта, вече – магдебургское право, православную церковь во многих местах – католический костел и униаты. Появилось Запорожское Войско, осваивавшее опустошенные татарами и брошенные земли Поднепровья. Все это создавало новые реалии, с которыми в Москве не хотели считаться, стремясь утвердиться в Киеве – «матери городов русских». Момент – ослабление извечных врагов, Польши и Литвы, – был слишком подходящим, и чувствовали это не только в Московском царстве, но и в Швеции. Одновременного удара со стороны двух соседей Речь Посполитая не выдержала.
В «Литве» в преувеличенной надежде на свои силы и храбрый шляхетский дух не смогли правильно оценить угрозу. Там, конечно, не хотели бесконечно мириться с тем, как один за другим города переходят на сторону русского царя. Разбитый под Шепелевичами гетман Януш Радзивилл скоро вернулся. Ему наконец-то удалось снять многие противоречия с королем Яном Казимиром и договориться о совместных действиях с другим литовским гетманом и советником короля Винцентием Госевским. С начала января 1655 года оба гетмана во главе рати примерно в 18 тысяч человек попытались овладеть Новым Быховом, где зимовали «черкасы» Ивана Золотаренко. Царь Алексей Михайлович еще 17 января в Вязьме получил известие о появлении под Новым Быховом поляков и о их намерении выступить к Могилеву «и под иные наши новые и старые городы». Он отправил воеводу князя Алексея Никитича Трубецкого на службу «во Брянеск, не мешкая», и приказал встретить недруга «в ево земли»: «…до тех мест агонь и тушить, доколе не разгорелся, а как разгоритца, от чево сохрани Боже, неколи тушить»{333}.
После неудачных действий под Новым Быховом гетман Радзивилл действительно двинул свое войско к Могилеву – крупному торговому городу на Днепре. В начале февраля случился первый штурм Могилева, позволивший литовскому войску захватить значительную часть города. Самым обидным для царя была измена шляхтича Константина Поклонского, не вытерпевшего, несмотря на весь оказанный ему почет и жалованье, насилий и грабежей его слуг казаками Золотаренко, повсюду мстившими шляхте{334}. Подошедший к Могилеву Радзивилл был настроен решительно и грозился жителям не щадить «не только людей, но и собак». Как писал он королю Яну Казимиру в начале зимней кампании, «есть надежда большая, что рукою Божьей начат поворот к спадению той розги, что высекла нас»{335}.
Затворенные «в Верхнем городе» и полностью лишенные воды, жители Могилева не захотели сдаваться и продержались несколько месяцев. По словам гетмана, к апрелю даже гарнизон московских служилых людей уже не выдерживал осады, но могилевские мещане и под страхом смерти не желали возвращаться в подданство Великого княжества Литовского. Впрочем, гетман выдавал желаемое за действительное, ведь на передовой линии «по валу» стояли любимые царем Алексеем Михайловичем стрельцы во главе с Авраамом Лопухиным; они не могли отступить и отразили все атаки на Верхний город{336}. В итоге могилевская осада Януша Радзивилла унесла жизни 14 тысяч жителей города (уступавшего по численности населения только столице Великого княжества Литовского Вильно). Больше всего погибших оказалось не от военных действий, а от отсутствия воды. Все обещания Радзивилла «согнуть» головы мятежников «саблей» или «лаской»{337} остались только обещаниями. Боясь приближения посланных «на выручку» Могилеву царских войск и казаков гетмана Ивана Золотаренко (первый такой отряд во главе с князем Юрием Ивановичем Ромодановским был рассеян гетманским войском в битве при деревне Доманы и отступил в Шклов), Радзивилл вынужден был снять осаду в конце апреля 1655 года. По донесению царю Алексею Михайловичу, гетманы Радзивилл и Госевский «от Могилева пошли прочь за Борисов»{338}. Так героизм защитников города и успешные действия московского войска не дали остановить новый государев поход в Литву.
В некоторых других литовских городах все-таки поддержали гетмана Радзивилла. В этих случаях по приказу царя Алексея Михайловича действовали жестко и даже жестоко. Царскими войсками была «вызжена» Дубровна, ее шляхта выселена, а жители семьями вывозились служилыми людьми, становясь их холопами. Так что выбор у бывших королевских подданных был невелик. Сила оставалась на стороне царя Алексея Михайловича, сделавшего ставку на сохранение прав и преимуществ жителей в покоренных городах и привлечение на свою сторону многочисленного православного населения. Уничтожение врагов короля путем полной блокады, как это было сделано литовским гетманом в Могилеве, напротив, стало примером чрезвычайной жестокости. Судьба погибших могилевцев могла только отвратить население присягнувших московскому царю городов от возвращения в подданство королю Яну Казимиру.
Маршрут царя Алексея Михайловича, вышедшего из Москвы 11 марта 1655 года, известен буквально по дням. Благодаря переписке с семьей можно узнать, что царский поезд попал в распутицу. «А дорога такова худа, – писал Алексей Михайлович сестрам, – какой мы отроду не видали: просовы великие и выбои такие великие ж, без пеших обережатых никоими мерами ехать нельзя»{339}. 14 марта, между двумя богомольными поездками в Звенигород и Можайск, царь отправил оставленному ведать столицу боярину князю Григорию Семеновичу Куракину несколько распоряжений. Они касались очередных военных дел, но не только. Два его приказа завершались недвусмысленными словами – «вешать»! Так следовало поступать, во-первых, «с беглыми боярскими холопями», а во-вторых, с торговцами «вином и табаком». «Ведомо государю учинилось, – было написано в царской грамоте, – что на Москве многие люди учали воровать, вином и табаком торговать, и тех людей велено, сыскивая, вешать, а питухом (пьяницам. – В. К.) чинить наказанье жестокое»{340}. Известно, что этот указ о преследовании людей, нарушавших государственную винную монополию, действительно выполнялся. Опасность от беглых боярских холопов, оставлявших службу в войске и сбивавшихся в отряды «на лесах глухих», оставалась и позже. Царь писал во время похода боярину Василию Васильевичу Бутурлину, чтобы тот остановил беглецов, пробивавшихся к «черкасам»: «…и, собрався, хотят ехать к Хмелницкому, а к своей братье пишут, что будто сулят им черкасы маетности, а многих своих бояр поставили пеших и безденежных»{341}.
Приход царя в Вязьму, по разрядным книгам, состоялся «в вечер» пятницы 16 марта (царь написал сестрам более точно: часа в два ночи). На следующий день, 17 марта, он пригласил на свой «именинный стол» доверенных людей. Это было не просто обычное торжество, а еще и военный совет, на котором планировались будущие походы. Не случайно именно эта дата была выбрана царем для вызова на службу всех людей своего полка. Вспомнил царь и про оставшуюся в Москве семью, просил их: «Не кручиньтеся для Христа… живите в совете; не опечяльте меня до конца». Написал он и о начавшемся приезде на службу: «А люди почел и съезжятца, ч[еловек] с 500 съехал ося и беспрестани едут».
20 и 21 марта царь провел в Вязьме смотры чинов Государева двора – стольников, стряпчих, московских дворян и жильцов. 23 марта, тоже в пятницу, царь отправился из Вязьмы в Болдинский монастырь, где «Благовещеньев день взяли», и оттуда в воскресенье пришел в Дорогобуж. Там царь пробыл совсем недолго и уже во вторник, 27 марта, двинулся к Смоленску. Почти на каждом стану он стремился послать грамотку семье и успокаивал их: «…а дорога чиста до Смоленска, шишей нет». Хотя тут же, не удержавшись, пишет, что столкновения с «партизанскими» отрядами (в них собирались остатки разбитых литовских войск и просто «выдернутые» из привычной жизни люди) все-таки были: «в дву местех побили на голову и знамены и борабаны поймали»{342}. 31 марта, «в субботу в 5-м часу дни», царь снова прибыл в Смоленск, где его уже встречал приготовленный заранее почетный эскорт стрелецкой охраны. 1 апреля – на именины царицы Марии Ильиничны – был устроен еще один праздничный стол, куда пригласили всю Думу. При этом особо оговаривалось, что бояре и окольничие должны быть «все без мест», чтобы не мешать своими счетами главным целям похода{343}.
План войны на 1655 год, как и раньше, базировался на действии трех армий. Произошли лишь некоторые перестановки в руководстве отдельных полков, не затронувшие основные назначения, сделанные в самом начале кампании. Первая армия во главе с боярином Василием Петровичем Шереметевым, расквартированная в Великих Луках, действовала на северо-западе, прикрывая Новгород и Псков от возможного удара со стороны шведов. Полку Шереметева была поставлена задача начиная с 1 мая двигаться в сторону Вильно. Одновременно царь Алексей Михайлович распорядился 2 апреля о походе воеводы Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина под Динабург, что означало подготовку войны за выход к Балтийскому морю и делало неизбежным грядущее столкновение с Швецией. Правда, пока это была еще только осторожная проба сил.
В центре, на главном направлении, как и положено, находился сам царь Алексей Михайлович со своим полком. Полководца и его ставку нельзя было подвергать никакому риску, поэтому впереди от Смоленска к Минску и Вильно двигалась армия боярина князя Якова Куденетовича Черкасского, расчищая дорогу царскому полку.
На юго-западе действовал полк боярина князя Алексея Никитича Трубецкого. У этого полка было несколько задач, ему поручалось сломить сопротивление шляхты, собравшейся на защиту Старого Быхова (крепость сдалась царским войскам только в 1659 году). Позднее юго-западная армия получила приказ двигаться дальше в направлении Слуцк – Брест. От Бреста царские войска собирались наступать на земли Короны и ее столицу – Варшаву. Но в итоге наступление так и не состоялось.
Более серьезные совместные действия планировались на этот раз с гетманом Богданом Хмельницким. Воеводами отправленного «в Запороги» полка стали боярин и дворецкий Василий Васильевич Бутурлин, принимавший в подданство города Малой Руси, и его товарищ стольник князь Григорий Григорьевич Ромодановский. Воеводой «прибылого» полка назначили окольничего Андрея Васильевича Бутурлина (свой думный чин он получил только накануне). Они должны были собираться со своими полками в Севске и сменить прежних воевод боярина Василия Борисовича Шереметева и окольничего Федора Васильевича Бутурлина. Главным воеводой рати, отправленной воевать города Короны, которому и должны были подчиняться все войска, стал боярин Василий Васильевич Бутурлин. В царской грамоте о назначении воевод в полк Василия Васильевича Бутурлина 23 марта 1655 года говорилось: московские войска должны были воевать в «литовских городах», «ссылаясь» с гетманом Богданом Хмельницким{344}.
Особое значение было придано защите от крымских набегов. Во главе отправленной «промышлять» Крым рати царь поставил боярина князя Федора Никитича Одоевского, пожалованного высоким чином на Пасху 15 апреля 1655 года. В его полки вошли недавно присягнувшие царю калмыки, донские и запорожские казаки. Известие о присяге «калмыцких тайш и калмыков со всею ордою» под его «высокую руку» царь получил на подходе к Смоленску 27 марта. Позже он писал боярину Василию Васильевичу Бутурлину об этой присяге: «…запись дали прямую, шертованную, чем они промеж себя верятца, а не так как преж сево собаки разсекали да кровь лизывали, и то все обманывали, а ныне прямую запись дали и в записи написали, куды наш государев указ будет итить, туды им и итить». Правда, в дальнейшем в организацию похода вмешались новые обстоятельства: чума, терзавшая центр Московского государства, с весны – лета 1655 года затронула Астрахань, рядом с которой кочевали калмыки. В итоге новый боярин князь Федор Никитич Одоевский остался в Саратове, и поход не состоялся. Донские казаки осуществили лишь несколько самостоятельных нападений «морем» на крымские места, но это было совсем не то, на что надеялся царь Алексей Михайлович. Кроме того, казаки, добиравшиеся, как они писали в челобитных, «с Дона Ивановича» аж до царской ставки в Смоленске, били челом о своем разорении и оказать помощь в дальнем походе без жалованья не были готовы{345}.
Москва восстанавливалась после пережитого «морового поветрия». Возобновление войны помогло патриарху Никону вернуть себе высокое положение в столице – без его слова управлявшие Москвой бояре мало что могли сделать. Патриарх получал письма царя Алексея Михайловича из похода и, по замечанию шведского «комиссара» де Родеса, был единственным, кого царь столь подробно посвящал в свои планы. «Здесь по-прежнему пребывают в полной неизвестности о том, что происходит с обеими армиями, – доносил де Родес из Москвы, – все до единого, кроме патриарха, который имеет возможность получать малейшее известие о том, что, собственно, происходит. Патриарх, низкий [человек], умеет чрезвычайно изощренно подавать то, что способствует чести [русских], а прочим управляет так, что ни у кого нет причин для беспокойства»{346}.
Патриарх участвовал и в военных делах, связанных с обеспечением армии. Сохранился перечень грамот, которые он отправлял царю во время похода 1655 года; здесь упоминаются распоряжения по набору солдат, посылке людей для сбора запасов, доставке в войска лошадей и оружия («бердышей и топорков»). В одной из грамот патриарх писал о собранных в монастырях и отосланных в Смоленск хлебных запасах – сухарях, крупах и толокне. И здесь же – о делах церковных: о невозможности проклинать изменившего царю в Могилеве шляхтича Константина Поклонского, «о кресте на победу и на погибель королю Полскому и всем врагом», «о надеянии взятия городов: Менска и Видны и всей Полши», «о помощи животворящего креста»{347}. Патриарх приказал доделать гигантский «Царь-колокол», который, как писал резидент де Родес, должен был стать, по ожиданию людей, «чудом света», и поправить, сделав лучше прежнего, позолоченный герб – двуглавый орел со скипетром и державой над Фроловскими воротами Кремля{348}. Мрачная символика поверженного герба должна была уйти в прошлое… Продолжая свою полемику с обвинителями, патриарх Никон написал упомянутое «Поучение о моровой язве». В тексте «Поучения…», отпечатанного позже на Московском печатном дворе, патриарх уже с позиции силы обрушивался на тех, кто во время мора поверил «лживым сновидцам», и приводил всевозможные богословские и земные аргументы в защиту своего отсутствия в Москве во время чумы в 1654 году{349}.