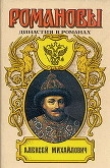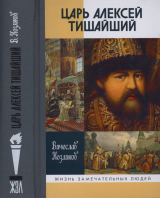
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 46 страниц)
В ход пошел опять главный аргумент: о желании царя Алексея Михайловича во главе своей армии идти в поход «своею государскою особою», о чем был извещен посланец гетмана Ивана Самойловича. Царь собирался в поход «против неприятелей креста Христова и всех православных християн гонителя, турского салтана и крымского хана, которые намерение свое имеют и хвалятца в гордости своей на его царского величества государства войною». Главная цель похода, следовательно, по-прежнему была защита христианства, как и при объявлении войны 6 октября 1672 года. Но царь Алексей Михайлович шел в поход еще и «на избаву… малороссийского народу обывателем». 26 августа 1674 года была послана грамота белоцерковскому полковнику Степану Бутенко (одному из присягнувших в подданство в Переяславе) с подробным рассказом о плане войны. Вероятно, в Москве хотели также, чтобы в Белой Церкви – главном оплоте Речи Посполитой на Правобережье – в первую очередь узнали о масштабных действиях своего союзника в противостоянии с Турцией и Крымом. Во главе своей армии царь ставил боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукого, «предуготовляючи» его «со многими нашего царского величества ратными конными и пешими людми, и с большим пушечным нарядом и со многими воинскими всякими припасы». Показательно, что ближний боярин сразу же получал еще и дипломатический ранг наместника – видимо, для того, чтобы дальше, в зависимости от успехов войска, вести переговоры на Правобережье.
Первым в поход «в малороссийские городы» был назначен его «товарищ» окольничий князь Константин Осипович Щербатов (потом его сменил воевода князь Владимир Дмитриевич Долгорукий, хотя назначение князя Щербатова на службу также оставалось в силе). Велено было выслать в полки, «не замотчав» (без промедления), даже новых подданных царя – «смоленскую шляхту». Смоленск, славный в памяти во времена прежних «государевых походов» царя Алексея Михайловича, вообще стал одним из основных мест сбора; боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому было велено идти туда с полками из Новгорода и Пскова. В случае если турецкий султан, крымский хан и «сын по-гибелный Дорошенко» осуществили бы свое намерение, новгородский и псковский полки следовало задействовать в малороссийском походе. Хотя полностью оставлять без защиты «немецкую украйну» и шведскую границу было очень рискованно.
На помощь главным силам в Левобережье – полкам боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского и гетмана Ивана Самойловича – был также отправлен из Рыльска полк князя Федора Григорьевича Ромодановского. Но воеводу отозвали в Москву и на его место поставили князя Григория Афанасьевича Козловского. Одновременно подданные царя кабардинский князь Казбулат Муцалович Черкасский и калмыцкий «Солом Серен тайша со всеми улусными людми» отправлялись через Дон в поход на Крым «для промыслу и отвращения турской войны от наших царского величества малороссийских городов». Стольник князь Петр Иванович Хованский должен был координировать свои действия с князем Черкасским и калмыцкими тайшами, возглавить поход донских казаков и, главное, «идти с Дону на Миюс и делать город». Попытка строительства русской крепости в устье реки Миуса у Азовского моря была связана с идеей морской блокады Азова, необходимость которой осознавалась уже тогда. Правда, сил у царских войск и донских казаков, для того чтобы противостоять турецким кораблям и «каторгам», пока не было.
Подготовка к царскому походу в малороссийские города продолжалась и во время наступления новолетия и «объявления царевича Федора Алексеевича 1 сентября 1674 года. Одним из первых публичных действий царевича, и уж точно первым приемом «у руки» отправлявшихся в поход воевод, стала церемония во дворце 4 сентября, когда, по сообщению разрядных книг, царевич Федор Алексеевич принял окольничих князя Григория Афанасьевича Козловского, князя Константина Осиповича Щербатова и князя Владимира Дмитриевича Долгорукого, а также дьяков, рейтарских полковников, голов и начальных людей московских стрелецких полков, «которым быть на его великого государя службе». Одновременно 4 сентября в Москву пришли известия от князя Григория Григорьевича Ромодановского и гетмана Ивана Самойловича о их благополучном отходе с войском, вставшим «по сю сторону Днепра». Привоз в Москву самозванца Лжесимеона тоже должен был подтвердить союз с казаками Запорожской Сечи в борьбе против татар и крымцев на Украине. Только все это мало помогало поставленной задаче быстро собрать войско в наступавшие осенние месяцы, когда армию, напротив, обычно распускали по зимним квартирам.
Невидимым для большинства дипломатическим фоном приготовлений малороссийского похода стало давно ожидавшееся открытие Андрусовской комиссии в Миговичах, куда на съезд с представителями нового польского короля Яна Собеского еще 11 июня 1674 года были назначены «великие и полномочные послы» во главе с ближним боярином князем Никитой Ивановичем Одоевским. Вместе с ним в состав московской делегации входил его внук – ближний стольник князь Юрий Михайлович Одоевский, а также прекрасно разбиравшийся в малороссийских делах бывший воевода в Переяславе и Киеве думный дворянин Иван Иванович Чаадаев. Им пришлось долго ждать приезда представителей Речи Посполитой во главе со старыми знакомыми московских дипломатов – воеводой хелминским Яном Гнинским и референдарем Великого княжества Литовского Киприаном Бжостовским. Встретившись впервые 16 сентября и обменявшись верительными грамотами, стороны продолжили старые споры, остановленные на прежнем посольстве в Москву в 1672 году.
Согласно посольской инструкции, боярин князь Никита Иванович Одоевский предложил обсудить условия «вечного мира», но дипломаты Речи Посполитой, «проигравшие» Киев в Москве, оказались полны решимости вернуться к переговорам о его возвращении. Высказывались и другие претензии, связанные с уклонением от обязательств о «случении сил» по Андрусовскому договору. Неожиданностей не произошло: московские дипломаты повторили прежнюю тактику, указывая на «умаление» царских титулов, а также пресловутый «пашквиль». Но было и новое, потому что королевские представители попытались обвинить Москву в том, что они потеряли Правобережную Украину именно из-за бездействия московской стороны, что и толкнуло гетмана Петра Дорошенко в подданство турецкому султану. Эти аргументы боярин князь Никита Иванович Одоевский легко парировал указанием на настоящие причины – нестроения в самой Речи Посполитой: «от несогласия и от домашних раздоров и конфедерации». А про судьбу Киева был сразу дан четкий ответ, от которого московская сторона уже не отступала: город Речи Посполитой «никогда отдать невозможно». Объясняя свою позицию, снова ссылались на Бучачский договор и последующие изменения, связанные с присягой полков Правобережья в подданство московскому царю: «Вы отдали султану Украйну, в которой и Киев: так можно ли после того вам отдать Киев?»
Переговоры в Миговичах зашли в тупик и развели позиции сторон еще дальше. Обсуждалась даже целесообразность продления в таких условиях переговоров о «вечном мире». Их условием становилось требуемое польско-литовской стороной «случение сил», на что по-разному смотрели в Москве и Варшаве. Очевидно, что если бы в тех условиях царский поход в малороссийские города все-таки состоялся, то он был бы тоже воспринят не как подтверждение союзнических обязательств, а как их нарушение московской стороной, преследовавшей свои цели.
В разгар переговоров, 18 октября 1674 года, в Москве было получено письмо гетмана Самойловича, адресованное только-только получившему боярский чин Артамону Сергеевичу Матвееву. В нем содержалось долгожданное известие об отходе татарских сил от границы Левобережья: «По устроению Божию и молитвами Пресвятыя Богородицы и счастьем царского пресветлого величества, так учинилось, что тот неприятель в замыслах своих обманувся, подлинно пошол в Крым, мало нечто на той стороны орды оставя, а Дорошенко в Чигирин». Гетман Самойлович и воевода Ромодановский, устроив сторожевую службу по разным сторонам Днепра, распустили войско для отдыха из-за наступившего «осеннего времени». Понятно, что это известие отменило все приготовления царского похода, а еще стало поводом для большого праздника во дворце накануне памяти иконы Казанской Богоматери. Кстати, именно тогда, после представления одной из «комедий», на радостях царь Алексей Михайлович и напоил допьяна своих бояр и ближних людей…{747}
Другим важным дипломатическим маневром московского правительства стала подготовка с 10 июня 1674 года нового посольства в Империю во главе со стольником Петром Ивановичем Потемкиным. Отметим молниеносную реакцию Посольского приказа, так как письмо об избрании королем Яна Собеского от резидента Василия Тяпкина пришло 9 июня, после чего сразу и состоялось решение об Андрусовской комиссии и о посольстве в Империю. Петру Потемкину предстояло выяснить, как цесарь Леопольд I относится к слухам о стремлении избранного короля Польши к союзу с турецким султаном. Согласно наказу Потемкин должен был говорить во время приема у цесаря, что Собес-кий является общим «великим неприятелем» Московского государства и Империи, «и с Турским салтаном может помириться вскоре», после чего собирается напасть на земли цесаря «для отвращения войны Францужской», а сам «с Крымом идти войною ж на государство государя нашего его царского величества».
23 октября послы оказались в Вене, где их, еще до официального приема, пригласили от имени императора на «комедию» (обещая, что «такой де комедии не бывало со сто лет в Вене и ни в которых государствах такой комедии не бывало»). Между европейскими и русским дворами началось, как видим, своеобразное театральное соревнование: представление в Вене шло девять часов, а в Москве доходило и до десяти! Однако московских дипломатов больше интересовало соблюдение этикета и исполнение целей своего посольства. А здесь их ждало разочарование. Император Леопольд I подтвердил на словах худшие опасения московского правительства: король Ян Собеский действительно «не подкрепил любви своей и дружбы» после вступления на престол ни с Империей, ни с Московским государством, поэтому все, о чем говорили послы, выглядело убедительным: «и тому де цесарское величество также верит и оказуется де то делом, а не словами»{748}.
Московские послы пробыли в Вене до начала января 1675 года. Их очень хорошо принимали, показали им казну, где они увидели кубок царя Михаила Федоровича, подаренный когда-то королю Владиславу IV и «передаренный» им императору Фердинанду III. Показали еще «зверинец» со львами, устроенный по мысли вдовствующей императрицы Элеоноры Младшей, известной покровительницы искусств и театра, на том месте, где турки приходили под Вену. Обо всем этом послы, конечно, рассказали по возвращении, но еще они ввязались в спор о титулах, найдя, что в документах не написано «величества», и требуя отдачи грамоты об окончании посольства из рук самого императора. В Москву посольство Петра Потемкина вернулось 15 марта 1675 года. Оно снова показало, что опоры на союз с Империей в войнах Московского государства быть не может.
Союз с Турцией короля Яна Собеского, напротив, все-таки состоялся, хотя и позже. В первые месяцы после избрания ему не дали резко развернуть курс внешней политики на Балтику, в поддержку интересов Франции. Вместо этого новый король вынужден был продолжить войну с султаном на Правобережной Украине, для которой 1674 год стал страшным временем опустошения. В случае успеха Собеский мог бы завершить свою кампанию какими-либо договоренностями с османами, но ему не удалось ничего сделать, потому что его покинула литовская армия; разрушенным оказалось и прежнее подданство казаков Правобережья. Король решил заново собрать под своим протекторатом Киевский, Черниговский и Брацлавский полки, о чем сообщил в Москву 29 ноября 1674 года. В ответ он получил целую отповедь, ведь царь Алексей Михайлович уже считал эти территории своими. Закончилось все назначением в апреле 1675 года наказного гетмана Правобережья Евстафия Гоголя, принявшего подданство Речи Посполитой. Но в Посольском приказе уже знали от гетмана Ивана Самойловича, что «с тое стороны Днепра мало не весь люд из городов на сю сторону вышли»{749}.
Весной 1675 года вокруг стремительно пустевшего Правобережья сложилась замысловатая ситуация, сравнимая с запутанной позицией на шахматной доске. Оставались действующими прежние условия: существовали Андрусовский мир и обязательства по оказанию помощи союзнику в случае нападения турецких и крымских сил. Последняя комиссия в Андрусове, завершившая свою работу 31 декабря 1674 года, приняла решение отложить переговоры о «вечном мире» до 1678 года, а все «трудности» во взаимоотношениях между Московским государством и Речью Посполитой решать через посольства. Алексей Михайлович одобрил это и лично встретил 13 января «Спасов образ», находившийся вместе с посольством. Царь оказал милостивый прием боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому: спрашивал «о здоровье» и «похвалял» службу, «что он учинил во всем по его великого государя указу»{750}.
Наблюдая за главными фигурами – «королями» этой партии, надо было еще помнить об угрозах со стороны других, «тяжелых» и «легких» фигур, которые могли переменить ход игры. Таковыми стали два гетмана – Петр Дорошенко и Иван Самойлович. Именно их схватка за Правобережье, продолженная в 1675 году, и стала определяющей для исхода текущего этапа русско-турецкой войны. Гетман Левобережья Иван Самойлович, объединив под своим началом большинство правобережных полков, не стал, вопреки обращениям к нему, безоговорочно поддерживать «случение» московских и польских сил. Понятно, что это означало бы возвращение Правобережной Украины в подданство королю Яну Собескому. Поэтому Самойлович довел до конца начатое прежде дело и добился устранения своих противников, мешавших ему стать гетманом объединенной Украины.
В начале 1675 года в Москве еще готовились к общему походу царских войск в Киев во главе с царем. Именно с этим можно связать перемену киевских воевод и назначение туда боярина князя Алексея Андреевича Голицына, бывшего «у руки в передней» 24 февраля 1675 года. Отправка войска в Киев должна была превратиться в действо, подобное отправке воевод в смоленский поход в 1654 году. Князю Голицыну тоже был сказан указ идти с войском «под переходы», чтобы царь и патриарх могли благословить свою армию. Конечно, про начало такого похода немедленно бы сообщили своим дворам все дипломатические агенты в Москве, и это могло произвести благоприятное впечатление на сановников Речи Посполитой. Но дальше, как мы знаем, вернулись послы от императора Леопольда I, сообщившие о его отказе от союза. Приготовления к походу, новые назначения воевод и указы служилым людям о высылке на службу в Москву и Севск по-прежнему продолжались. Однако заметны стали и другие распоряжения, подготавливавшие возобновление военных действий на Дону и в Крыму, в связи с чем в Москве ожидали приезда кабардинского князя Касбулата Муцаловича Черкасского.
Именной указ царя Алексея Михайловича об общем походе войска был сказан служилым людям московских чинов на Постельном крыльце 9 мая 1675 года. Связывалось это уже не с идеей помощи польскому королю, а с полученными вестями о готовившемся походе турецких войск под Киев и нападении крымских татар на Левобережную Украину: царь «изволил против турского салтана и крымскаго хана идти своею государскою особою», а с ним в полку будут касимовские и сибирские царевичи, бояре, окольничие, думные и ближние люди. По образцу прежних государевых походов были сделаны и назначения особых, «дворовых воевод». Ими стали бояре князь Юрий Алексеевич Долгорукий и царский тесть Кирилл Полуектович Нарышкин (в разрядных книгах так и было сказано, что один назначается на место боярина Бориса Ивановича Морозова, а другой – Ильи Даниловича Милославского). Снова был дан указ о «безместии» на службе, чтобы устранить местнические споры. Служилые люди должны были выйти на службу «бессрочно» в Государев полк, а в «боярский полк» князя Юрия Алексеевича Долгорукого должен был собираться в Путивле на срок 15 июня (для служилых людей из ближних уездов) и 29 июня («дальних и замосковных городов»). Одновременно объявлялся указ о назначении на службу с боярином Петром Васильевичем Шереметевым в Путивле служилых людей московских и городовых чинов, московских стрелецких, выборных и рейтарских полков (тем, кто в прошлом году тоже должен был собираться в Се веке). Однако служилым людям этого полка первым, уже 5 июня, и сообщили о роспуске по домам и деревням: «ми-лостию Божиею, а его великого государя счастием, службы нынешней год не будет», добавив, что собираются послать «к ним во все городы писцы вскоре».
Общего, «валового» описания земельных владений, оформлявшего права на вотчины и поместья, а также на живших в них крестьян и холопов, не было уже почти 30 лет, поэтому обещание посылки писцов являлось важнейшим мероприятием для всех служилых людей. Однако писцов, отправленных в Украинные города, скоро возвратили по указу из Поместного приказа, велев им быть «тотчас, не мешкав, к Москве». 10 июня были посланы грамоты воеводам в уезды о невысылке дворян на службу, отменявшие прежние указы 1 мая; вскоре было дано распоряжение снова разрешить дворянам и детям боярским заниматься судебными и поместными делами, так как, согласно обычной практике, служилый человек, выходивший на службу, избавлялся от имущественных и прочих судебных исков (если речь не шла о серьезных умышленных преступлениях, например, грабежах и убийстве){751}.
Царь Алексей Михайлович «странно» вел себя для военачальника, объявившего о войне с Турцией. Еще 24 мая 1675 года он «со всем своим государским домом», вместе с царевичем Федором Алексеевичем и «малым» двором царицы Натальи Кирилловны торжественно поехал в подмосковное Воробьево и оставался там долгое время. Даже прием давно ожидавшегося и щедро награжденного за свои прежние службы против разинцев и во время походов на Крым кабардинского князя Касбулата Муцаловича Черкасского тоже состоялся в Воробьеве «в золотой персицкой палатке» 4 июня 1675 года{752}. Вероятно, именно тогда окончательно определился разворот в сторону подготовки другого похода, в котором поддержка кабардинского князя была неоценимой, – на Крым.
25 июня 1675 года боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский получил указ царя Алексея Михайловича выдвинуться со своим войском и «обрать место около Днепра», откуда вступить в переговоры с гетманами Речи Посполитой, чтобы никто не упрекал царя «неохотою» к «случению сил» и «непоспешению к Днепру». Специально посланный дьяк Семен Ерофеевич Алмазов должен был передать «словесно» указ о подготовке совместного похода князя Ромодановского и гетмана Самойловича в Крым, а также разрешение выпускать особую облегченную серебряную монету для малороссийских городов – «чехи» (остался только «проектный рисунок» этой монеты, а ее выпуск тогда не состоялся). Воевода князь Ромодановский и гетман Самойлович исполнили царский приказ и написали свои «статьи» – соображения о подготовке похода в Крым. Но боярин и гетман просили царского разрешения сначала завершить войну с гетманом Дорошенко, а крымский поход начать в следующем году. Как писал гетман Самойлович царю Алексею Михайловичу 1 июля 1675 года, «а не успокоить зде зачатой войны, не токмо трудно, но совершенно нельзя будет, оставив ее, идти опять в Крым».
Одновременно князь Ромодановский сообщал в Москву о просьбе гетмана Самойловича и всего Запорожского Войска «с корунными и литовскими гетманами не случатись». Вражда была так сильна, что, как писал боярин, «и имени их слышать не хотят». С доводами гетмана Самойловича согласились, поэтому очень скоро его противнику – гетману Дорошенко – не оставалось ничего другого, как принести присягу царю Алексею Михайловичу на раде в Чигирине 10 октября 1675 года. Но считать окончательной победу над Дорошенко (равно как и решенным вопрос объединения Украины) гетман Самойлович по-прежнему не мог, так как прежний гетман Правобережья присягнул перед одними запорожскими и донскими казаками кошевого атамана Ивана Серко и атамана Фрола Минаева. В то время как настоящей присягой могла быть клятва перед представителями царя Алексея Михайловича – боярином князем Ромодановским и самим Самойловичем в Батурине. Но и этого оказалось достаточно, чтобы казаки Запорожского Войска сделали свой выбор, а тесть Дорошенко – Павел Яненко привез в Москву и положил перед царем Алексеем Михайловичем «санджаки» (знаки власти) – бунчук и два знамени, полученные от турецкого султана.
Глава Посольского и Малороссийского приказов Артамон Матвеев не упустил возможности использовать эти поверженные регалии для демонстрации силы Московского государства. 17 января 1676 года, во время шествия посланцев гетмана Петра Дорошенко и кошевого атамана Ивана Серко, казаки ехали верхом «с Малороссийского двора в город» и везли бунчук и знамена «на левую руку положа и роспустя». В тот же день был назначен прием «галанского посла», и санджаки «положены были перед Посольским приказом на каменных перилах, для знаку». Когда знамена «внесли в Верх», их также «на левые руки положа и розвив, по земли тафты волокли Малороссийского приказу приставы перед столовую [палату]». Царь Алексей Михайлович смотрел на них из Столовой палаты, где принимали казачьих посланцев. Потом знамена, «свив», отнесли из дворца «в приказ Малыя Росии» и отдали на хранение сторожам{753}.