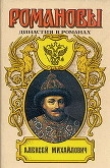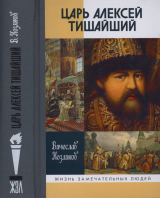
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 46 страниц)
Имя царевича Федора не случайно возникло в дипломатических контактах с литовскими магнатами. Приближалось его совершеннолетие. 1 сентября 1674 года в Кремле произошла официальная церемония «объявления» царевича Федора, которому шел четырнадцатый год (так же было с его отцом и старшим братом царевичем Алексеем). Сценарий объявления наследника остался прежний: совместный выход царя и царевича на богослужение в Успенский собор, переход к Архангельскому собору, праздничный стол и пожалования по случаю этого события придачами к денежным и поместным окладам. Царя Алексея Михайловича вели под руки спальники – стольник и ближний человек князь Иван Борисович Троекуров (зять Богдана Матвеевича Хитрово) и другой молодой приближенный, шурин царя Иван Кириллович Нарышкин. «Канцлер» Артамон Матвеев, конечно, тоже присутствовал, но не на первых ролях. «По правую руку» были князья Иван Алексеевич Воротынский и Юрий Алексеевич Долгорукий (он говорил речь, обращенную к царю), а «по левую руку» – бояре Кирилл Полуектович Нарышкин, Богдан Матвеевич Хитрово и названный после них окольничий Артамон Матвеев.
В самый день торжества Алексей Михайлович пожаловал новыми придачами жалованья своих бояр, особенно выделив и отметив заслуги «дядек» царевича Федора. Боярин князь Федор Федорович Куракин получил наибольшую придачу в 150 рублей, а второго «дядьку» Ивана Богдановича Хитрово царь, «по упрощению сына своего», пожаловал из думных дворян в окольничие. Сохранилась речь самого царя Алексея Михайловича к подданным и другим участникам церемонии. Хотя слова царя носили этикетный характер, они придавали всему действу эмоциональную окраску: «Се прииде время, и приспе день и час, нынешняго летоначального дня, индикта, нам великому государю втораго сына своего государева благовернаго государя царевича и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии отдати Господу Богу в послужение», привести в соборную церковь «и объявить его благоверного государя царевича» патриарху Иоакиму{728}.
Артамон Матвеев, как и все, должен был понимать, что права наследника престола переходят к царевичу Федору Алексеевичу. Вместе с этим оживали и надежды Милославских на возрождение их влияния при царском дворе. Поэтому «канцлер» продолжал бороться с постоянной оппозицией боярской аристократии своему влиянию на царя. Для этого он использовал любую возможность. Особенно заметно это в связи с редактированием разрядных книг (наиболее показательны книги за последние годы царствования Алексея Михайловича). Казалось, не осталось ни одной грамоты, полученной от бояр Голицыных или Шереметевых в Посольском приказе, сведения о которой не были вписаны в текст разрядов. Делалось это с дальним умыслом: везде подчеркивалось, что во главе приказа находился Матвеев. Появилось правило: записывать в книги сведения о судебных делах об убийствах или других тяжких преступлениях, если в них были замешаны люди, служившие во дворах знати. Конечно, серьезно никто бы никогда не стал считаться с такими своеобразными местническими аргументами. Но, как показывает казус с ярославским князем-Рюриковичем и боярином из рода Великих-Гагиных, вынужденным вернуться со службы в Киеве по болезни, на всякий случай он не стал лично показываться в приказе у Матвеева, отправив вместо себя сына. Такие попытки создать практически на пустом месте прецеденты для споров о боярской чести усиливали вражду Матвеева с представителями аристократических родов, устраненных из Москвы под благовидными предлогами подальше от царских глаз.
В дворцовых разрядах видны также следы целенаправленной работы Артамона Матвеева по созданию «молодого двора» царицы Натальи Кирилловны. Какое бы важное событие, связанное с праздниками, царскими выходами, столами, ни происходило при дворе царя Алексея Михайловича, следом в разрядных книгах повторялись сведения об участии в придворных церемониях царицы, а рядом с ней упоминались, как правило, три человека: царский тесть боярин Кирилл Полуектович Нарышкин, Артамон Сергеевич Матвеев и дворецкий царицы Авраам Лопухин. Но больше всего утверждению такого нового двора способствовало появление царских детей. В новой царской семье их уже было двое – царевич Петр и его младшая сестра Наталья, родившаяся в августе 1673 года. В дни объявления наследника – царевича Федора также ожидались роды царицы Натальи Кирилловны. Действительно, «за час до вечера» 4 сентября 1674 года родилась еще одна царевна, Феодосия Алексеевна, но торжества по поводу ее рождения были отложены на некоторое время{729}.
В сентябре 1674 года с помощью Матвеева решилось еще одно важнейшее для царя Алексея Михайловича дело. В Москву был привезен самозванец Лжесимеон, нашедший пристанище в Запорожской Сечи. В Москве долго добивались выдачи молодого человека, присвоившего себе имя царского сына (настоящему Симеону в момент объявления самозванца могло быть только семь-восемь лет). Казаки кошевого атамана Ивана Серко («Серика»), принявшие Лжесимеона, поверили в его рассказ о какой-то ссоре с боярином Ильей Даниловичем Милославским, последующей вражде и подмене «царевича». В исповедуемой самозванцем идее расправы с боярами-изменниками можно слышать отголоски событий разинской войны. Сам Лжесимеон прямо говорил, что жил у Степана Разина, а его объявление на Дону связано с поддержкой одного из разинских атаманов. После царской расправы над разницами «вино» в этих «мехах» перестало быть сладким для донских казаков, и только одни запорожцы снова согласились его отведать. И быстро распробовали вкус «уксуса», когда из Москвы подключили к делу нового гетмана Ивана Самойловича, а Запорожскую Сечь пригрозили лишить жалованья и поддержки, поставив условием выдачу самозванца. Лжесимеон был обречен, и запорожцы сами привезли его в Москву на суд и расправу по приказу кошевого атамана.
Въезд в Москву 17 сентября «из-за Тверских ворот» трехсот казаков Запорожского Войска, сопровождавших «высокую телегу», где стоял самозванец, намеренно был устроен по образцу въезда Степана Разина и его брата Фрола. Рядом с телегой также вели еще одного «пособника» самозванца (он будет оправдан); стрельцы шли с развернутыми знаменами и алебардами молчаливым строем, «а в сипоши не играли и в бурабуны не били». Царь Алексей Михайлович приказал всем боярам собраться «на земской двор, в 5-м часу дни»; указано было «их воров роспрашивать накрепко и пытать всякими жестокими пытками». Прежде всего царя Алексея Михайловича интересовало, не было ли заговора и переписки с другими людьми.
В деле о Лжесимеоне видна распорядительность окольничего Артамона Матвеева. Он привозил к царю расспросные и пыточные речи, а бояре в это время должны были ожидать царского указа. Судя по записи в разрядной книге, Алексей Михайлович принял решение о немедленной казни Лжесимеона именно по совету Матвеева. Происходившего из Польши семнадцатилетнего мещанина Ивана Андреева, по прозвищу Воробьева, назвавшегося именем царского сына, велено было «вершить» по образцу казни Степана Разина: «на Красной площади четвертовать и по кольем растыкать». Казнь, как и въезд самозванца в Москву на позорной телеге, должно было увидеть как можно больше людей. Напрямую обратились к жившим в столице иноземцам, чтобы они описали увиденное в своих письмах и отослали в другие государства. Послали грамоты в войско и к приказным людям в городах, «чтобы всем служилым людям и всяким чином было ведомо, и на их бы воровские прелести вперед не прелщались и не верили». С останками самозванца распорядились так же, как и с телом Разина: «как три дни минет», их надо было «перенесть на Болото и поставить его на кольях возле вора ж и изменника Степана Разина». «Туловище его» земские ярыжки (последние пьяницы, пробавлявшиеся подаянием) должны были схоронить, «отвезши от городу версты с три, во рву и кол воткнуть для знаку»{730}. Так потом и стояли «на Болоте» колья с головами главных поверженных врагов царя Алексея Михайловича – Разина и Лжесимеона.
Между тем день казни самозванца 17 сентября 1674 года совпал с именинами царевны Софьи, о чем Матвеев должен был помнить, но чего предпочел не заметить. Царя Алексея Михайловича в этот день даже не было на выходе в соборную церковь, он отстоял службу в дворцовой церкви Евдокии. Традиционная раздача «именинных пирогов» все-таки состоялась; в ней, кроме царя Алексея Михайловича, принял участие и брат Софьи, царевич Федор, но праздник царевны был, конечно, омрачен таким «подарком» ко дню именин. Вольно или невольно, Матвеев уводил «внимание» от поздравлений царевне. Из таких мелочей могла рождаться и настоящая вражда. Ибо ни для кого не были секретом действия Артамона Матвеева в пользу детей царицы Натальи Кирилловны.
8 октября 1674 года наконец-то Матвеев выслужил свой заветный боярский чин, достигнув высшей из возможных степеней царской службы. Произошло это в связи с торжествами по случаю крещения новорожденной царевны Феодоры. В отличие от именин старшей дочери Софьи, царь Алексей Михайлович в воскресенье 4 октября присутствовал в соборной церкви, а накануне подарил тестю боярину Кириллу Полуектовичу Нарышкину «с детьми» двор своего родственника по матери Василия Ивановича Стрешнева, символично распорядившись наследством. Торжества растянулись на несколько дней. 5 октября царь «поил воткою» своих бояр, окольничих, думных дворян и ближних людей, 6–7 октября успел побывать в Коломенском, где Матвеев когда-то спас царскую семью, а 8 октября состоялось давно ожидавшееся пожалование царского друга боярским чином. Правда, во всей Думе не нашлось боярина, который бы мог «сказать» боярство, и это было поручено думному дьяку Стрелецкого приказа Лариону Иванову. В действе также участвовал («у сказки стоял») думный дворянин Афанасий Иванович Нестеров. Но это не могло смутить Артамона Матвеева, ставшего одним из самых близких царю бояр и получившего право присутствовать в этот день на «крестинном» столе у царя Алексея Михайловича.
Именно отсюда можно отсчитывать еще один этап в истории взаимоотношений царя Алексея Михайловича и нового русского «канцлера». Трудно даже представить, чем могла завершиться траектория возвышения Матвеева, если бы земной век царя Алексея Михайловича продлился дольше. Современники видели возраставшее значение молодого двора Натальи Кирилловны. Контраст между прежним царем, ревностно и истово участвовавшим во всех церковных праздниках, и новым самодержцем, мало кого допускавшим до себя, часто проводившим время в дворцовых селах Коломенском, Измайлове, Воробьеве и Преображенском, был велик. Видимо, настолько, что заставил перейти в наступление «консерваторов» во главе с патриархом Иоакимом. Матвеева им было не достать, и они решили «проучить» царского духовника Андрея Савиновича, худо, по их мнению, заботившегося о душе царя Алексея Михайловича.
Воспользовавшись тем, что одно из представлений нового придворного театра состоялось накануне церковного праздника Казанской иконы Богоматери 21 октября 1674 года, когда царь «тешился всякими игры» и, вопреки своему обыкновению, допьяна напоил бояр, патриарх Иоаким строго наказал царского духовника Андрея Савиновича, посадив его в тюрьму. Сам духовник тоже присутствовал на том царском пире, сопровождавшемся своеобразным концертом, где «его великого государя тешили, и в арганы играли, а играл в арганы немчин, и в сурну и в трубы трубили и в суренки играли и по накрам и по литаврам били ж во все». Царь жаловал «протопопа своего» и остальных гостей, «которые были у кушанья вечернего, вотками, ренским, и романею, и всякими розными питии». После чего, как сказано в дворцовых разрядах, «пожаловал их своею государевою милостью: напоил их всех пьяных». Хотя царь Алексей Михайлович с молодости был не чужд веселья и шумных развлечений, но к пьянству, как известно, он относился нетерпимо. И вдруг такой совсем нехарактерный поворот, заставляющий вспомнить о будущих пьяных Всешутейших соборах его сына Петра! Высшие духовные власти быстро вмешались в дело, после чего царю, находившемуся в тот момент в одном из своих подмосковных походов, пришлось спасать благовещенского протопопа. Уговорить патриарха Иоакима сменить гнев на милость царю удалось лишь через два месяца к Рождеству{731}.
Царь Алексей Михайлович не только не отказался от полюбившихся спектаклей, но благодаря заботам Матвеева все глубже и глубже погружался в атмосферу новых праздников, с которыми стало ассоциироваться столь любимое потом его сыном Петром Преображенское. Новые «потехи» и театральные представления продолжались там вплоть до начала Рождественского поста. Краткое описание «комедий», представленных иноземцами и людьми Артамона Матвеева, тоже сохранилось в дворцовых разрядах: «как Алаферна царица царю голову отсекла», «как Артаксеркс велел повесить Амана, по царицыну челобитью и по Мардахеину наученью». Снова «немцы» играли «в арганы», а еще «на фиолях, и в страменты, и танцовали». Историки театра выяснили, что речь шла о пьесах на известные библейские сюжеты о Юдифи и Олоферне, а также о том же «Артаксерксове действе». Представления в Преображенском происходили в специально устроенной «храмине» в присутствии ближайшего боярского окружения. Они явно меняли правила этикета при дворе, и нетрудно было понять, кого следовало благодарить за небывалый поворот в дворцовой жизни.
25 января 1675 года царь Алексей Михайлович приказал жившему в Немецкой слободе учителю Юрию Гивнеру (впоследствии переводчику Посольского приказа) поставить «Темир-Аксакову комедию», в которой описывалась война Тамерлана, повергнувшего турецкого султана Бая-зида I, и недвусмысленно прославлялся возможный поход на Константинополь; «Что вы чаете: можем ли все турецкое царство приодолети?» – прямо обращались к царю Алексею Михайловичу актеры в самом конце пьесы. На Масленицу, между 7 и 14 февраля, спектакль был сыгран в Москве в палатах над «Аптекой». Понемногу складывались даже «сезоны» существования придворного театра – перед Великим и Рождественским постами. К осени 1675 года, как установил автор фундаментальной публикации документов о театре времен царя Алексея Михайловича историк Сергей Константинович Богоявленский, готовились целых шесть пьес, включая как уже представлявшиеся во дворе, так и новые: «Есфирь, Темир Аксакову, Иосифову, Егорьеву, Адамову и, может быть, Юдифь, или вместо шестой – балет». Театр в Преображенском был расширен пристройкой трехсаженной горницы с сенями, «чтоб в камидейное действо утеснению не было». Не был забыт в этих приготовлениях и полюбившийся «дурак» – скорее всего, тот самый шут, или чумазый Пикельгеринг, для которого сшили «особый костюм из пестрой крашенины»{732}.
Описывая «время» Матвеева при дворе царя Алексея Михайловича, приходится обращаться к тому, что он сам вспоминал в своих челобитных, написанных для освобождения из «невинного заточения». Одно из таких воспоминаний, относящихся уже к последним месяцам жизни царя Алексея Михайловича, связано с началом троицкого похода в Москве 19 сентября 1675 года. Традиционное шествие московских царей в Троице-Сергиев монастырь для поклонения мощам преподобного Сергия Радонежского в день его памяти 25 сентября ближний царский боярин тоже превратил в грандиозный «спектакль», адресованный присутствовавшим в Москве иностранным дипломатам. И они, как, например, секретарь имперского посольства Адольф Лизек, действительно многое запомнили в тот день. Особенно их поразила возможность разглядеть царицу Наталью Кирилловну. На первой аудиенции, устроенной для послов специально не в Кремле, а в Коломенском, они смогли случайно увидеть царицу и, возможно, стали свидетелями первого появления будущего царя Петра на «международной арене»… Правда, царевичу было всего три года, и он вряд ли понимал, что делает, когда случайно распахнул двери дворца. «Царица, находясь в смежной комнате, видела всю аудиенцию с постели, чрез отверстие притворенной двери, не быв сама видимой, – писал секретарь посольства Лизек, – но ее открыл маленький князь, младший сын, отворив дверь, прежде нежели мы вышли из аудиенц-залы»{733}.
Во время отъезда из Москвы в троицкий поход царица находилась в отдельной, богато украшенной карете с открытыми окнами. Обратили послы внимание и на специально приготовленные для шествия детские кареты царевичей Ивана и Петра. Замысловатую «карету черную неметцкую на дуге, стеклы хрусталными, а верх роскрывается на двое», украшенную дорогой иностранной упряжью, а еще две похожие маленькие кареты – царевичам Федору и Петру подарил («ударил челом») Артамон Матвеев. Своему любимцу, царевичу Петру, которому едва исполнилось три года, он распорядился нарисовать на хрустальных стеклах кареты «цари и короли всех земель». И здесь в самый ответственный момент чуть все не сорвалось, так как лошади не могли тронуться «от рундука» (крыльца). Тогда Артамон Матвеев по-мужицки бросился на помощь оплошавшим «возникам»: «И я, холоп ваш, в боярех будучи, угождая вашему государскому повелению, и чтоб не зазорно вашему государскому стоянию чрез чин пред вами великими государи, и перед всеми чинами, и иноземцы, карету впрягал и не отговаривался, что сижу в Посольском приказе и конюшня не мне приказана»{734}. Таков и был Матвеев, умевший принять на себя любую ответственность, не отговариваясь неумением или «невместностью» назначения, как делали большинство бояр. Не было никакой работы, какую бы «канцлер» не принял на себя по царскому указу. Пока это казалось диким, но уже следующее поколение увидит сына царя Алексея Михайловича Петра, не гнушающегося никакой «работой» на троне.
«Поход на Турского салтана»Так называемые «последние годы» жизни царя Алексея Михайловича ознаменовались новой большой войной – прямым столкновением России, Речи Посполитой, Крыма и Османской империи в борьбе за Правобережную Украину. Дореволюционные военные историки со свойственной им армейской определенностью видели в Первой русско-турецкой войне движение «к утверждению русской силы на берегах Босфора». Хотя начало войны датируется по-разному, ученые сходятся во мнении о ее поворотном значении для остановки османской агрессии в Европе в 1670—1680-х годах{735}. Когда Турция объявила войну Речи Посполитой в январе 1672 года, Московское государство вынуждено было поддержать союзника, исполняя обязательства по Андрусовскому договору. Но это еще не было прямым вступлением в войну. Московская сторона преследовала собственные интересы, а главный узел противоречий во взаимоотношениях с Речью Посполитой завязался в то время вокруг нерешенной судьбы Киева с Правобережьем и всей разделенной Украины. Причем удержать Киев за Москвой просили также глава Киевской митрополии Иосиф Тукальский и киево-печерский архимандрит Иннокентий Гизель, предлагавшие царю Алексею Михайловичу предпринять шаги по переводу Киева из подчинения Константинопольскому патриархату в юрисдикцию московских патриархов{736}. Православным людям на Украине снова и снова приходилось думать о том, как сохраниться между Речью Посполитой и Турцией, соглашаться ли на условия покровительства и подчинения, предлагаемые в Московском государстве. Русско-польско-турецкое столкновение за Правобережную Украину оказалось долгим. Окончания его царь Алексей Михайлович не застал, но именно война с Османской империей стала в ближайшее время побудительным мотивом всей политики.
Уже в Андрусовском договоре 1667 года существовали некоторые «зацепки», ставившие возвращение Киева в зависимость от продолжения переговоров между Московским государством и Речью Посполитой, объединявшимися против Крымского ханства и Османской империи. Для строительства нового дипломатического союза требовалось время; обмен посольствами и переговоры позволяли оттягивать передачу Киева, обвиняя противоположную сторону в невыполнении каких-либо обязательств. И здесь снова оказалась востребованной «находчивость» Артамона Матвеева, участвовавшего в сложнейших малороссийских делах, начиная еще с уговоров Богдана Хмельницкого о принятии присяги Войска Запорожского под «высокую руку» московского царя. Когда Матвеев сменил на посту главы Малороссийского приказа Ордина-Нащокина, ему пришлось выправлять главный «андрусовский» перекос в отношениях Речи Посполитой и Москвы, случившийся из-за нерешенной проблемы принадлежности Киева. Нерешенной, конечно, так, как того требовал царь Алексей Михайлович, а не так, как складывались обстоятельства на переговорах, когда Ордину-Нащокину пришлось записать в текст договора обещание вернуть столицу Правобережья.
Артамон Матвеев вспоминал, как ему удалось ловким маневром – хитростью с «пашквилем» на царя Алексея Михайловича – остановить исполнение двух самых спорных статей «Андрусовских договоров и Московского поставления», согласно которым царь брал на себя обязательства оказывать помощь Речи Посполитой 25-тысячным корпусом московских войск в случае военного нападения на нее кого-либо из неприятелей, а также отдать Киев после проведения мирных переговоров. В «Истории о невинном заточении» приводится челобитная Матвеева, где он рассказывал, что стал думать об этом еще тогда, когда все пребывали в эйфории от заключения мира и получали щедрые царские награды по случаю завершения войны. Находясь во главе Малороссийского приказа, он начал работу по сбору «компромата»: «посылал в Черкасские городы для листов королевских и сенаторских и книг укоризненных, ведая их неопасные нравы». Так он и нашел «книгу Пашквиль, речением Славенским: подсмеяние, или укоризна», печатную, которая печатана в Польше: «В той книге положен совет лукавствия их: время доходит поступать с Москвою таким образом, и время ковать цепь и Троян-скаго коня, а прочая явственнее в той книге». «Троянским конем» в Польше стали считать экспедиционный корпус, возглавить который мог при необходимости сам царь Алексей Михайлович. Появление московских войск в пределах Речи Посполитой, пусть даже под благовидным предлогом помощи подвергнувшемуся нападению союзнику, могло иметь далекоидущие последствия.
Первые сведения о готовящемся нападении Турции на соседние страны пришли в Москву в отосланной через «Виленскую» почту грамоте короля Михаила Вишневецкого еще 21 декабря 1670 года. В грамоте ничего пока не говорилось о том, на кого готовится напасть турецкий султан и где будут открыты военные действия, а только упоминалось о необходимости выполнения прежних договоренностей о союзе. Следствием стали решения царя и Думы об обмене «великими посольствами». Но тут было все не так просто, так как в Москве получили сведения о контактах гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко с главой коронной армии гетманом Яном Собеским, возглавлявшим оппозицию королю. Возможное объединение их сил несло угрозу царской вспомогательной армии: на территории Польши она могла оказаться в тисках турецкой армии, с одной стороны, и казаков Дорошенко и войска Собеского – с другой. (Позднее слухи о их союзе не подтвердились, но сами разговоры питали взаимное недоверие.) Поэтому Артамоном Матвеевым – конечно, с ведома царя Алексея Михайловича – и была проведена дипломатическая операция, чтобы остановить действие прежних договорных статей об отсылке вспомогательного корпуса московских войск в 25 тысяч человек, а также об отдаче Киева.
Сначала московский посол Иван Иванович Чаадаев, отправленный в Речь Посполитую 31 марта 1671 года, должен был получить гарантии общего союза Речи Посполитой, Московского государства и других стран. В Москву Чаадаев возвратился в конце сентября 1671 года. Скрытой целью его посольства стала отсрочка приезда в Москву «великих послов» Речи Посполитой. Короля Михаила Вишневецкого специально просили, чтобы он принял Чаадаева до отправки своих послов и дал согласие на обсуждение дополнительных статей, противоречивших прежним договоренностям. Как писал Артамон Матвеев в своей челобитной, «чтоб польских послов упередить, и застать их от королевскаго величества неотпущенных к Москве, к вам великим государям; а велено ему, будучи в ответе, сенаторам говорить, чтоб королевское величество велел дать своим великим и полномочным послам полную мочь на договаривание некаких новых статей, который явились противны договорам к стороне вашего, великих государей, царскаго величества».
В этом и содержался настоящий дипломатический подвох. Когда «великих послов» Речи Посполитой воеводу хелминского Яна Гнинского, Киприана Бжостовского и Александра Котовича принимали в Грановитой палате 8 декабря 1671 года, их уже ждали заготовленные «аргументы» и обвинения в нарушении Андрусовского договора и в «укоризнах» царю Алексею Михайловичу. Артамон Матвеев, по сути, повторил стратегию своего отчима и прежнего главы посольской службы думного дьяка Алмаза Иванова, сделавшего когда-то ставку на такие доказательства – публикацию «пашквильных книг» и «прописки» (искажения) титулов – в качестве предлога для разрыва Поляновского мирного договора и объявления войны Речи Посполитой в 1653 году. Кроме того, на переговорах с воеводой Яном Гнинским потребовали убрать из Посольской палаты королевского дворца в Варшаве «выображение» о победе под Клушином в 1610 году и представлении взятого в плен царя Василия Шуйского и его братьев королю Сигизмунду III. О том, насколько серьезно в Москве могли к этому относиться, в Речи Посполитой уже знали, и «великое» посольство Яна Гнинского, приехавшее подтвердить присягой и крестным целованием обещание царя Алексея Михайловича о военной помощи в войне против турок и возвращении Киева, вернулось, не исполнив своих задач. «И естьли б, великий государь, – писал в своей челобитной Артамон Матвеев, – не те прописные листы и книга укоризненная, нечего б было против записи и статей говорить с послами».
В ходе переговоров, проведенных с Яном Гнинским, обсуждали возможности поиска союзников для общей борьбы с турецким султаном, но польская сторона была не готова к созданию какой-либо коалиции. Обращаясь к царю Алексею Михайловичу, посол прославлял его как победителя «диких наследников Батыя и Темир-Аксака» и «защитника Европы», но речи эти целей не достигли. Вопреки словам дипломата, не было видно, чтобы из русского и польского народов сложилась «стена христианства». Сами переговоры были посвящены тактике действий в случае нападения османов. 30 марта 1672 года стороны все-таки заключили соглашение, подтвердившее прежний союз, но с указанием на существование между Москвой и Варшавой спорных вопросов. От идеи отправки русских войск на Украину отказались. Свои союзнические обязательства Московское государство должно было выполнить по-другому, организовав походы на османов силами казаков, калмыков и ногаев «сухим путем» и донских и запорожских казаков «на море», что было много выгоднее, чем дальний поход вглубь Речи Посполитой царских полков. Передачу Киева тоже отложили до 1674 года. В утешение королю Михаилу Вишневецкому был отправлен живой белый медведь в сопровождении специально обученных управляться с ним конюхов и псарей…{737}
Переговоры в Москве стали причиной перемен в настроении гетмана Демьяна Ивановича Многогрешного. Представители гетмана должны были быть допущены к этим переговорам, для чего гетман и отправил в Москву киевского полковника Константина Дмитриевича Солонину. Однако польская сторона категорически воспротивилась участию в переговорах казачьих «дипломатов». И это только подогрело подозрения гетмана в том, что московская сторона пытается его обмануть. Казаки боялись, что за их спиной решили договориться о сдаче Киева, чего гетман Левобережья и его сторонники ни в коем случае не хотели допустить.
Возникшее недоверие к царю Алексею Михайловичу и его посланникам в Батурине толкнуло гетмана на неверные шаги, истолкованные как измена. Демьян Многогрешный начал переписку с Петром Дорошенко, пошли разговоры о поиске другого, более сильного правителя, который мог бы защитить казаков Левобережья. Гетман Многогрешный зачем-то отгородил «шанцами» от московской стрелецкой охраны часть укреплений Чернигова и стал пугать старшину, что царь Алексей Михайлович хочет всю ее арестовать и переселить в Сибирь. Однако казачья старшина не стала дожидаться, пока Многогрешный повторит путь Брюховецкого.
В ночь на 13 марта 1672 года в результате заговора Демьян Многогрешный был арестован и под охраной отправлен в Москву. 14 апреля его уже допрашивали в Посольском приказе бояре и все тот же Артамон Матвеев. Допросы и пытки гетмана и его братьев продолжались до конца мая, пока 28-го числа бояре не приговорили казнить их на Болоте. Причем просили этого сами казаки, боявшиеся, что царь Алексей Михайлович отошлет гетмана обратно на раду. В этом случае последствия по обеим сторонам Днепра были бы непредсказуемыми. Обвиненного в измене гетмана Многогрешного и его брата Василия приводили к плахе, но царь Алексей Михайлович в последний момент отменил смертную казнь, ссылаясь на «упрощение» своих сыновей, царевичей Федора и Ивана. Важный момент преемственности подданства всегда принимался в расчет. Бывшему гетману и членам его семьи пожаловали милостыню и приказали отправить их в ссылку в Сибирь.
Может быть, сказалось то, что гетман Многогрешный не успел предпринять никаких действий, а в царской семье со дня на день ожидали первых родов царицы Натальи Кирилловны и не хотели омрачать это ожидание громкой казнью. Сказывались и уже начинавшиеся сполохи предстоящей большой войны с Турцией. 30 апреля началась подготовка к будущей раде, куда были назначены князь Ромодановский и незаменимый Матвеев. В Москве сформулировали статьи, которые должна была принять старшина. Первым пунктом стояло подтверждение подданства царю Алексею Михайловичу и его детям, а вторым – указание на то, что с послом Яном Гнинским договорились отложить решение вопроса о Киеве до 182-го (1674) года. Снимая главные подозрения Многогрешного, казакам прямо говорили о воле царя Алексея Михайловича: «А город Киев, за нарушением королевского величества стороны, великий государь, его царское величество уступить никогда не велит».
17 июня 1672 года преемником Многогрешного был выбран тридцатилетний генеральный судья Иван Самойлович – человек образованный и долгие годы, как и предполагал «выбравший» его еще ранее Артамон Матвеев, хранивший верность московским царям. На раде, состоявшейся в Казацкой Дубраве, между Путивлем и Конотопом, Иван Самойлович получил из рук князя Григория Григорьевича Ромодановского символы гетманской власти – знамя, булаву, грамоты. В связи с его избранием было принято десять дополнительных, так называемых Конотопских статей, корректировавших решения прежней Глуховской рады. Пункт об участии представителей казаков на переговорах с Речью Посполитой, Крымом и другими государствами был исключен. Казаки также лишались права на самостоятельное ведение любых «иностранных» дел. При этом значительно увеличивались права самой старшины, увидевшей, что даже московские воеводы в чем-то были лучше, чем ставленники Многогрешного, поэтому взявшие назначение на уряды в свои руки{738}. Очередная малороссийская «замятия» завершилась сравнительно мирно, а казаки успели восславить на раде рождение царевича Петра, конечно, не зная о той роли, которая была уготована будущему первому русскому императору в уничтожении самостоятельности Гетманщины.