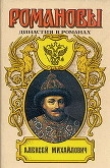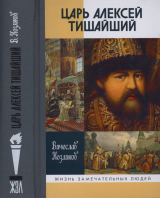
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц)
Для разговора с псковскими челобитчиками сначала был выбран жесткий тон. Царь Алексей Михайлович, скорее всего, тоже участвовал в составлении грамоты в Псков 19 мая. Ответный документ полон страсти, его формулировки ближе к устной речи, они далеки от обычно «вылизанных» и четко структурированных текстов приказных документов, что бывало, когда записывалась прямая царская речь. На каждый псковский «вопрос» был дан царский ответ, не оставлявший сомнения в том, что над мятежным городом нависла гроза. Происходившие в Пскове события прямо называли «мятежом», «смятеньем» и «гилем», случившимся по «воровскому заводу»: «и то затевают воры и заводчики на смуту». Псковичам напомнили их присягу царю Алексею Михайловичу и грозившее им казнью нарушение нормы Соборного уложения: «усоборовано всего Московского государства всяких чинов с выборными людьми написано, что самовольством, скопом и заговором на наших государевых бояр и окольничих и… на воевод… никому не приходити». Царь Алексей Михайлович отвергал стремление «худых людишек» вмешаться в дело «вечного докончанья», о котором договорились его послы с шведской королевой Христиной. «А мы, великий государь, з Божиею помощию ведаем, как нам, великому государю, государство свое оберегать и править». Стиль послания сильно напоминает интонации Ивана Грозного!
Конечно, царь Алексей Михайлович не только не выдал, но и оправдал боярина Бориса Ивановича Морозова. Даже в более сложные времена царь не отказывался от его поддержки. В ответе царя на Большую псковскую челобитную содержится целая апология боярину Морозову, его роду и предкам, отличившимся, как напоминали псковичам, в том числе и обороной их города от войска короля Густава-Адольфа (речь о службе его родственника боярина Василия Петровича Морозова в 1615 году). Этот раздел ответной грамоты дает много для понимания настоящих чувств, которые испытывал царь Алексей Михайлович к своему воспитателю, назначенному в «дядьки» еще его отцом: «И наше государское здоровье положил на нем». Характеризуя службу своего ближнего человека, царь Алексей Михайлович давал отпор «непристойным речам»: «И он, боярин наш, будучи у нас, великого государя, в дядьках, оставя дом свой и приятелей, был у нас безотступно, и нам служил и нашего государского здоровья остерегал накрепко, да и посяместа нам служит верно, и о наших и земских делах радеет». Нашлось место в царском ответе и для боярина Ивана Никитича Романова (отдельная псковская челобитная его тоже достигла, но привезшего ее казака боярин Романов отослал к царю): «А нам, великому государю, он боярин наш холоп, и служит нам, великому государю, с своею братьею, з бояры единомышленно». Обращения к одному из бояр «мимо царя» были особенно опасны: «посылаете челобитные мимо нас на смуту тайным обычаем».
Еще более возмутительным для царя Алексея Михайловича оказался призыв Большой псковской челобитной к совместному суду в Пскове царских воевод, с земскими старостами и выборными людьми. Только так, считали во Пскове, можно добиться суда «по правде, а не по мзде и не по посулам». Вероятно, эти слова челобитной стали основой для распространения слуха о стремлении псковичей возвратиться к «свободе, какую они имели до времен царя Ивана Васильевича», записанного шведским резидентом Поммеренингом{167}. В ответ в Пскове услышали апологию самодержавной власти, не терпевшей, чтобы кто-нибудь писал царю «с указом»: «И того при предках наших, великих государех, царех, николи не бывало, что мужиком з бояры и с окольничими и воеводы у росправных дел быть, и вперед того не будет».
Таково резюме словесного поединка царя Алексея Михайловича и его приближенных с псковским «миром» и отставным главой корпорации псковских площадных подьячих Томилкой Слепым, который умело и не без литературного таланта, как справедливо писал академик М. Н. Тихомиров, сформулировал просьбы и жалобы псковичей к царю. Но обида, нанесенная боярину Морозову, требовала мщения. Хотя посланников псковского «мира» допустили до царя и даже отпустили обратно с государевой грамотой, ничего доброго Пскову в будущем это не сулило. От них по-прежнему требовали повиниться, «от такова воровского заводу отстать» и выдать «воров и завотчиков», первым из которых и был назван составитель челобитной Томил-ка Слепой. В противном случае была обещана отсылка в Псков «больших наших бояр и воевод» князя Алексея Никитича Трубецкого и князя Михаила Петровича Пронского. И это была не пустая угроза: сведения о таких приготовлениях отразились в дворцовых разрядах. Но в итоге войско и артиллерия привычно отправились, «по вестям», защищать южную «украйну»{168}.
Трудно определить, когда и почему произошел поворот в отношении требований псковских «мужиков». Но в итоге ставка на силовое подавление мятежа не оправдалась. Не последнюю роль сыграло то, что восставшие в городе затворились и организовали вооруженное сопротивление расположившимся лагерем под псковскими городскими стенами ратным людям во главе с боярином князем Иваном Никитичем Хованским. 18 июня 1650 года псковичи даже решили совершить вылазку против правительственного войска, но в сражении у Снетной горы уступили и потеряли многих людей, попавших в плен. Царь Алексей Михайлович, рассматривая воеводскую отписку об этих событиях, еще был настроен решительно. 26 июня 1650 года он лично распорядился наградить сеунщика (гонца) за радостное известие и ответить князю Ивану Никитичу Хованскому, чтобы тот продолжал войну с псковичами: «боярина и воевод, и ратных людей похвалити, и над псковскими изменниками промышляти, сколько милосердый Бог помочи даст»{169}. По мысли царя, пленным «языкам», кого отправляли обратно в Псков на обмен с дворянами, надо было приказывать, чтобы они «свою братью наговаривали» сдаться и впустить в город царского боярина. То было достаточно наивное представление, не учитывавшее остроты противостояния. Внутри Пскова власть перешла к всегородной избе во главе с выдвинувшимся лидером псковского посада Гаврилой Демидовым. Восставшие действовали с помощью силы, обязывая всех круговой порукой. Так, видимо, реализовывалась ярко выраженная в Большой псковской челобитной мысль о всесословном протесте Пскова, при участии настоятелей псковских монастырей, соборного протопопа и других священников псковских церквей, дворян и посадских людей.
В Москве долго еще продолжали думать, что удастся заставить восставших отказаться от их борьбы. В начале июля 1650 года был созван Земский собор, принявший решение отправить в Псков «выборных людей»: коломенского и каширского епископа Рафаила, стольника Ивана Васильевича Олферьева и других представителей столичных чинов Государева двора, вместе с городовыми дворянами, гостем, купцами Гостиной и Суконной сотен, жителями посада и слобод. По царскому наказу они должны были уговорить восставших принести свои вины царю Алексею Михайловичу. Сделано это было вовремя, так как противостояние боярина князя Ивана Никитича Хованского с жителями Пскова достигло апогея. 12 июля царский воевода разгромил неумелое вооруженное ополчение псковичей, самонадеянно атаковавшее его позиции – острожек на реке Великой. Получив известие об этом, царь Алексей Михайлович снова распорядился послать грамоту «к боярину и воеводам с своим государевым милостивым словом и с похвалою и ратных людей похвалить». Однако в ответ восставшие устроили террор и казнили десять человек псковских дворян, заподозренных в «измене». Был отстранен от управления своей кафедрой – «Троицким домом» – псковский архиепископ Макарий, какое-то время ему запретили служить и посадили в заточение на цепь. Обсуждался даже план обращения за помощью в Литву или, что не лишено вероятия, к самозванцу Тимошке Анкудинову (позднее остались записи о полученном в Пскове письме от не названного по имени «вора»).
Мирная миссия епископа Рафаила и других посланников Земского собора оказалась в итоге успешнее, чем военные угрозы. Но для этого пришлось пойти на уступки и царю Алексею Михайловичу, созвавшему еще одно заседание Земского собора «о псковском воровском заводе» в Столовой палате 26 июля 1650 года. Тон речей с подробным перечислением вин восставших жителей Пскова, объявление о намерении направить в Псковскую землю ратных людей для обороны ее от «воров шишей, которые в тех уездех воюют», казалось бы, не оставляли сомнений в стремлении царя и Думы проявить силу. На соборе хотели еще и дать острастку тем, кто под влиянием слухов о псковских событиях «вмещал» в мир разные воровские речи, «что носитца площадная речь на Москве, будто будет грабеж». Но самое неожиданное прозвучало в конце соборного акта. Царь Алексей Михайлович согласился отвести правительственные войска от Пскова – при условии «обращения» псковичей и признания ими своих «вин». После того как псковичи поцелуют крест присланному от Земского собора епископу Рафаилу и выборным людям, боярину князю Ивану Никитичу Хованскому «ото Пскова с ратными людьми отойти велено». А собор должен был гарантировать мирный исход событий – «всем про то объявлено уж»{170}.
Споры, приведшие к отмене первоначальных решений о выдаче четырех или пяти «заводчиков» псковского дела, остались за строкой архивных документов. Академик М. Н. Тихомиров видел причины такого поворота к мирному разрешению противостояния в борьбе придворных партий, противодействии патриарха Иосифа и «стоявших за его спиной» боярина Никиты Ивановича Романова и князя Якова Куденетовича Черкасского. Сначала видно, что и в ответе на Большую псковскую челобитную, и в письме патриарха Иосифа, и в первом наказе епископу Рафаилу и другим выборным – везде речь вели о наказании главных «воров». Все изменилось, когда по дороге в Псков епископ Рафаил встретил 19 июля бежавших оттуда людей, сообщивших в расспросных речах о начавшемся непримиримом противостоянии в Пскове. Между 22 июля – временем получения донесения в Москве, и 26 июля – датой соборного заседания и произошел перелом, причины которого лучше всего объяснил патриарх Иосиф в письме архиепископу Рафаилу, сославшись на то, что царь Алексей Михайлович был «зело кручинен» из-за псковских дел. И все же главную заслугу в изменении решения стоит приписать новгородскому митрополиту Никону. Как писал еще Сергей Михайлович Соловьев, именно Никон раскрыл царю истинное положение дел и убедил пощадить четырех зачинщиков восстания, «пущим ворам вместо смерти живот дать». Иначе, говорил он, «тем промыслом Пскова не взять, которые люди под Псковом и тех придется потерять, а Новгороду от подвод и ратных людей будет запустенье». Никон ссылался на свои уговоры новгородцев и обещания обратиться с челобитной к царю, а также указывал на то, что розыск и арест участников новгородского восстания князем Иваном Никитичем Хованским привел к тому, что псковичи перестали верить увещеваниям, говоря: «И нам то же будет»{171}. Поэтому так важно было подтвердить соборным решением отвод войска от Пскова после «крестного целованья» псковичей. Грамота об этом была послана боярину князю Ивану Никитичу Хованскому немедленно после собора. Но, готовясь к миру, царский боярин больше думал о войне: он методично продолжал окружать город, стремясь к полной блокаде Пскова, что могло обеспечить бóльшую сговорчивость его жителей.
В итоге отказ от казней «воров» и штурма города, уговоры псковичей сыграли определяющую роль. Посылка епископа Рафаила и других посланцев Земского собора оказалась дальновидным решением. Первым в город вошло московское посольство, договорившееся о присяге псковичей. Она растянулась на несколько дней 17–21 августа и происходила совсем не в мирной обстановке: город не сразу избавился от вражды и взаимного недоверия. Большинство посада и служилых людей, конечно, понимали, что вместо всесословного союза, обещавшего учет интересов «мира», в Пскове и его пригородах – Изборске, Печерах, Гдове и Острове, тоже затронутых восстанием, воцарились социальная рознь, грабежи и бессудные казни. Но и жестокость ратных людей боярина князя Ивана Хованского была чрезмерной, чего не мог скрыть один из участников посольства стольник Иван Олферьев. При въезде в город с депутацией Земского собора он якобы говорил с сокрушением псковичам, укоряя царского боярина: «Какие де он враг, злодей, над вами беды многие поделал». 24 августа боярин князь Иван Никитич Хованский ушел со своим войском от Пскова, а на следующий день городские ключи были возвращены прежнему воеводе окольничему князю Василию Петровичу Львову.
Увы, одним из первых его дел стал донос на Ивана Олферьева. Подоплека действий псковского воеводы понятна из объяснений вернувшегося в Москву члена депутации от Земского собора стольника Ивана Олферьева. Дело было в местнических тонкостях, окольничему князю Львову не понравилось, что государева стольника не написали у него «в товарищах». Оказывается, он мало что понял из того, что происходило вокруг, сидя на своем дворе. Воевода князь Львов едва не провалил всё дело с присягой, заметив при встрече с епископом Рафаилом и другими членами московского посольства, что оно долго добиралось до Пскова, а грамота послам была дана недавно, когда они были в пути. Депутаты от собора дело замяли: иначе оно грозило тем, что псковичи не поверили бы царским грамотам, привезенным епископом. И еще неизвестно, как бы повернулись события, если бы псковичи нашли первые грамоты с требованием казни «заводчиков»! Доносу на стольника Олферьева всё равно дали ход, выговорили ему за неуважение царских бояр и окольничих, но в итоге простили и дозволили (хотя и не сразу) быть у государева стола 1 октября вместе с епископом Рафаилом и другими депутатами собора. Еще через неделю, 8 октября, состоялось заключительное заседание Земского собора. Царь Алексей Михайлович принял заручную челобитную псковичей о своих винах и допустил «к руке» их представителя старосту Ан-кудинку Гдовленина. Последним актом псковской драмы стало снятие с Рыбницкой башни всполошного колокола, отправленного в своеобразное «заточение» в Зелейную палату – туда же, где обычно хранились порох и свинец. Арест бывшего всесословного старосты Гаврилы Демидова и автора текста Большой псковской челобитной Томилки Слепого тоже последовал, но нарушать соборное обещание не могли, поэтому их с семьями выслали из Пскова, но не казнили.
История наказания виновников восстаний в Новгороде и Пскове по-своему поучительна и показательна для первых лет правления царя Алексея Михайловича. Всего по обвинению «в воровском заводе» в Новгороде было арестовано более двухсот человек, «по государеву указу и боярскому приговору» 190 человек приговорили к битью кнутом и отдаче на поруки, «пущих воров и мятежников и всякому воровству заводчиков» насчитали 22 человека, пятерых из них приговорили к смертной казни, а остальных – к битью кнутом и ссылке в Астрахань, Терек и Коротояк. Но здесь в дело вмешался новгородский митрополит Никон, снова просивший 15 марта 1651 года помиловать участников мятежа. Их не стали ссылать и разрешили жить по-прежнему в Великом Новгороде. В итоге, как установили публикаторы Следственного дела о новгородском восстании 1650 года, сохранили жизнь даже главному обвиняемому – Ивану Жеглову, проклятому в дни «мятежа» митрополитом Никоном. Позднее бывший приказной служитель новгородского Софийского дома оказался на службе в далеком Якутске{172}.
Никон – патриархУспешное завершение новгородского и псковского «дела» должно было еще больше утвердить авторитет митрополита Никона в глазах царя Алексея Михайловича. Царь не забыл о жертвах псковского мятежа и указал написать имена погибших дворян в вечный синодик в Успенском соборе Московского Кремля, учредив отдельное поминание 18 июля – в день наивысшего противостояния и казней в осажденном Пскове{173}. Между царем и митрополитом происходило явное сближение, как обычно бывает между людьми, пережившими общую опасность. Царь поверил в духовную силу митрополита, оказавшего неоценимую услугу своими советами в мирских делах. Сами обстоятельства направляли царя Алексея Михайловича к мысли о том, что именно Никон станет лучшим преемником патриарха Иосифа, чей возраст земной жизни клонился к закату.
Сохранилось предание о том, как во время приветствия Никоном смененного им и отправленного на покой прежнего новгородского митрополита Афония два владыки долго препирались, кто к кому должен подойти под благословение. Пока прежний новгородский митрополит не сказал: «Благослови мя, патриарше», пророчески указав Никону на то, что тот будет патриархом{174}. На самом деле за этим благочестивым рассказом скрыт не до конца ясный сюжет с отправкой на покой новгородского митрополита Афония, чтобы освободить кафедру для Новоспасского архимандрита Никона (при избрании патриарха Иосифа в 1642 году митрополит Афоний был одним из главных участников выборов и открывал жребий, указавший на нового патриарха).
Духовные дела плохо поддаются определениям с помощью слов «политика» или «программа», однако нечто подобное можно усмотреть в действиях царя Алексея Михайловича и его советника митрополита Никона. Начиная с 1651 года Успенский собор в Кремле стал превращаться в своеобразный пантеон славы выдающихся иерархов Русской православной церкви. В 1651 году состоялось перенесение в кремлевский собор мощей первых патриархов: Гермогена из Чудова монастыря и, на следующий год, Иова из Старицкого Успенского. Но более всего известна поездка митрополита Никона на Соловки для перенесения мощей митрополита Филиппа в 1652 году. Царь Алексей Михайлович вникал во все подробности дела, участвовал в напутственном молебне, и вряд ли случайным было определение в смешанную, церковно-светскую комиссию двух усмирителей «мятежей» в Новгороде и Пскове – митрополита Никона и боярина князя Ивана Никитича Хованского. Воспоминание о столкновении царя Ивана Грозного и митрополита Филиппа по поводу опричнины должно было помочь устранить случившийся в прошлом диссонанс в «симфонии» власти царя и первосвятителя церкви{175}.
Посольство отправилось из Москвы на Соловки в Великий пост 1652 года. С собою оно везло необычный документ – грамоту царя Алексея Михайловича в Соловецкий монастырь «с молением по мощи» митрополита Филиппа, скрепленную «вислой» печатью «красного воску» с двуглавым орлом. Царь обращался к святому как к живому, называя себя «царь Алексей, чадо твое». Он говорил о своей «печали» и молил митрополита Филиппа «приити» к Москве, чтобы стала возможной общая молитва всех первоиерархов церкви «с прежебывшими тебе, и по тебе святители» в Успенском соборе. Царь был убежден в силе такой общей молитвы: «Не бо и мы своею силою или многооружным воинством укрепляемъся, но Божиею помощию и вашими святыми молитвами вся нам на ползу строятся». В Москве царь Алексей Михайлович хотел «разрешити согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, нанесенное на тя неразсудно завистию и неудержанием ярости». Из этого становится ясно, чего сам царь хотел избежать в своем правлении: он обещал святителю Филиппу, «аще и неповинен есмь досаждения твоего», покаяться за своих предков ради прощения прежних грехов и «разделения». Завершалась эта необычная грамота словами: «Царь Алексей, желаю видети тя и поклонитися мощем твоим святым»{176}.
О том, что происходило в Москве после отправления посольства на Соловки, можно узнать из большого «статейного списка» о принесении мощей патриарха Иова и о преставлении патриарха Иосифа, написанного самим царем Алексеем Михайловичем. Исследователи называют этот документ «Повестью о преставлении патриарха Иосифа», подчеркивая литературные достоинства царя-писателя. Действительно, необычный стиль и образность письма дают большой простор для толкований, но при этом забывается, что царь Алексей Михайлович предназначал свое писание в мае 1652 года только для одного читателя – митрополита Никона, чтобы тот скорее приехал в Москву, где должны были состояться выборы нового патриарха, «именем Феогнаста» (то есть того, чье имя знает Бог). «А без тебя отнюдь ни за что не примемся», – писал царь об ожидаемом им приезде Никона. Переписчикам царского письма (скорее всего, в канцелярии архива Посольского приказа, где сохранялся царский архив до образования Тайного приказа) этот документ показался ближе всего именно к делопроизводственному стилю отчетов послов. С одной стороны, царь пишет Никону о делах церкви, где он уже мог считаться своеобразным приказным судьею: «А как великий отец наш и пастырь, святейший Иосиф патриарх, встречал Иева патриарха, и как на осляти ездил вход Иерусалим, и как ево не стало – и то писано под сею грамотою». Однако «статейный список», написанный царем Алексеем Михайловичем, – не только отчет о делах в церкви, произошедших за время отсутствия Никона в столице, но и письмо о душевных переживаниях царя. Поэтому правы те, кто пишет об использовании царем Алексеем Михайловичем канонических описаний смерти духовных лиц, что, конечно, не подходит сухое определение «статейного списка». И хотя царь даже в таком тексте не чужд был «литературной игры», в монастыре, когда митрополит Никон читал его письмо, все слушающие плакали.
«Повесть», или «статейный список», царя Алексея Михайловича митрополиту Никону с описанием преставления патриарха Иосифа предваряла личная грамота царя «собинному другу», раскрывающая его отношение к «избранному и крепкостоятельному пастырю». Этикет требовал в таких грамотах своеобразного уничижения «отправителя» по отношению к «адресату», и царь Алексей Михайлович пишет здесь в превосходной степени о качествах Никона-богомольца, сравнивая его с «солнцем, светящим по всей вселенней». О себе же, напротив, говорит, выказывая полнейшее христианское смирение: «А про нас изволиш ведать: и мы по милости Божии и по вашему святительскому благословению как есть истинный царь християнский наричеся, а по своим злым, мерским делам недостоин и во псы, не токмо в цари». Описание событий в Москве начинается с 5 апреля – времени встречи мощей патриарха Иова в Москве, положенных сначала в Страстном монастыре. Царь сам был на этой встрече вместе с патриархом, Освященным собором и «со всем государством, от мала и до велика». Алексей Михайлович любил такие образные определения, описывая то, что он видел своими глазами. О том, какое огромное количество людей пришло встретить мощи патриарха Иова, он замечает в письме Никону: «яблоку негде было упасть». Вся Красная площадь была запружена, поэтому царь «Кремль велел запереть», и без этого в тесноте мощи патриарха Иова едва пронесли в Успенский собор. «Старые люди говорят, – замечал царь Алексей Михайлович, – лет за семьдесят не помнят такой многолюдной встречи», то есть со времен Ивана Грозного, к которым постоянно мысленно возвращался царь Алексей Михайлович. Царю запомнились слова слабеющего патриарха Иосифа, говорившего ему со слезами: «Вот, де, смотри, государь, каково хорошо за правду стоять – и по смерти слава!» Другой разговор состоялся при устройстве саркофага патриарха Иова в Успенском соборе. На вопрос: «кому ж в ногах у нево лежать?» – царь ответил: «Ермогена тут положим» – еще одного патриарха, умершего в Чудовом монастыре во времена Смуты в 1612 году. Но патриарх Иосиф попросил у царя Алексея Михайловича оставить это место для него: «Пожалуй, де, государь, меня тут, грешнаго, погресть».
Дальше должны были начаться «свидетельство» мощей патриарха Иова и запись чудес, происходивших от них в Успенском соборе. Но все остановилось из-за смерти патриарха Иосифа, случившейся через десять дней после перенесения мощей. Последняя патриаршая служба пришлась на Вербное воскресенье, когда патриарх Иосиф участвовал в традиционном «шествии на ослята». На наступившей Страстной неделе, в среду вечером, царь Алексей Михайлович сам решил прийти в Крестовую палату для встречи с патриархом. Патриарх уже тяжело болел и сначала даже не узнал царя. Алексей Михайлович передавал свой разговор с патриархом Иосифом: «Такое то, великий святитель, наше житие: вчерась здорово, а ныне мертвы», – говорил царь Алексей Михайлович. В ответ патриарх Иосиф молвил: «Ах, де, царь-государь, как человек здоров, так, де, мыслит живое. А как, де, примет инде, ни до чево станет». Царь писал об этом еще и для того, чтобы объяснить, почему он в тот же день не заговорил о духовной грамоте патриарха Иосифа и судьбе патриаршей келейной казны. Все думали, что патриарх Иосиф болен «лихорадкой» и еще поправится.
В описании ухода из жизни патриарха Иосифа царь Алексей Михайлович приводит много бытовых деталей. Рассказ его напоминает известные страницы романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» о смерти старца Зосимы и отношении монастырской братии к этому событию: все ожидали кончины чуть ли не нового святого, а умер, как оказалось, обычный человек. Когда царь Алексей Михайлович узнал, что патриарх Иосиф при смерти, то немедленно «сам с небольшими людьми побежал к нему». Царь участвовал в соборовании патриарха вместе с рязанским архиепископом Мисаилом, тоже оказавшимся в тот момент в патриарших палатах. «И мы со архиепископом кликали и трясли за ручки, – писал царь Никону, – чтоб промолвил – отнюдь не говорит, толко глядит. Алихаратка та знобит, и дрожит весь, зуб о зуб бьет». Даже в этот момент царь разбирается и расспрашивает патриаршего протодиакона, «для чево вести ко мне не поведали и ко властям», и передает его рассказ о том, как ему пришлось настоять на «поновлении» умирающего патриарха, выгнавшего своего духовника из кельи. Во время причастия патриарха Иосифа присутствовали несколько архиереев и игуменов монастырей, царь Алексей Михайлович тоже стоял у его изголовья. А дальше случилось то, чего мало кто мог ожидать: в беспамятстве умирающий патриарх «повел очьми» и «стал жатца к стене». Царь понял это так, что патриарх перед смертью «видение видит». И рассказывал митрополиту Никону: «Не упомню, где я читал: перед разлучением души от тела видит человек вся своя добрыя и злыя дела». По словам царя, «походило добре на то, как хто ково бьет, а ково бьют – так тот закрываетца». Это были уже последние часы жизни патриарха Иосифа; царь простился с ним, когда тот затих. «И я перед ним, проговоря прощения, да поцеловал в руку, да в землю поклонился».
Царь продолжал всем распоряжаться: уходя из патриарших палат, «казну келейную в чуланех и в полатех и домовую везде сам перепечатал после освящения масла», то есть принял меры к тому, чтобы патриаршая казна оставалась в целости и сохранности. Царь должен был успеть к службе, начинавшейся в его домовой церкви. Там ему вскоре и сообщили: «патриарха, де, государя не стало», о чем возвестили три удара большого кремлевского колокола. «И на нас, – пишет царь Никону, – такой страх и ужас нашел, едва петь стали, и то с слезами. А в соборе певчие и власти все со страху и ужаса ноги подломились, потому что хто преставился да к таким дням великим, ково мы, грешные, отьбыли, яко овцы бес пастуха, не ведают, где детца. Так-та мы ныне, грешные, не ведаем, где главы приклоните, понеж прежнево отца и пастыря отстали, а нового не имеем». Царь просил молитв Никона и достаточно прозрачно говорил ему, что выбор преемника уже сделан, надо только, чтобы Никон вернулся в Москву: «Дожидаем тебя, великого святителя, к выбору. А сего мужа три человека ведают: я, да казанской митрополит, да отец мой духовной, тайне в пример. А сказывают, свят муж». То есть в тайну были посвящены всего трое человек, не считая самого царя, митрополит Казанский Корнилий, духовник Стефан Вонифатьев и сам митрополит Никон.
Но это был не конец царского рассказа. Как писал царь Алексей Михайлович, в начале прощания с телом патриарха Иосифа все было достойно: «лежит, как есть жив, и борода розчесана, лежит, как есть, у живова. А сам немерна хорош». Однако уже поздно ночью, несмотря на сделанные распоряжения, царь увидел в церкви рядом с телом умершего патриарха только одного человека, испуганно читавшего Псалтырь. Все остальные или быстро покинули службу, или попросту разбежались. Царь не мог не отметить пример людской неблагодарности: «Да такой грех, владыко святый, – ково жаловал, те ради ево смерти; лутчей новинской игумен, тот первой поехал от нево домой… А над ним один священник говорит Псалтырь, и тот говорит во всю голову, кричит, и двери все отворил». Рассказывал он и о своих переживаниях и даже испуге от вида разлагавшегося на глазах мертвого тела: «Да и мне прииде помышление такое от врага: побеги, де, ты вон, тот час, де, тебя, вскоча, удавит». Царь справился со своими страхами, но все описание погребения патриарха Иосифа было еще и оправданием мирского отношения к его смерти и деталям прощания: «Ведомо, владыко святый, тело персстно [тленно] есть, да мы, малодушнии, тот час станем осуждать да переговаривать. Для того и не открыли лица». Погребение прошло в общем плаче и рыдании, усугублявшемся тем, что была Страстная суббота; царь особенно укорял себя, что забыл распорядиться о «звоне»: «…а прежних патриархов з звоном погребали…»{177}
Итак, в самый разгар дела с перенесением мощей митрополита Филиппа, 15 апреля 1652 года, Русская церковь осталась без пастыря. Но «вдовела» она не долго, и вскоре стали готовиться к выборам нового патриарха. Кто им будет, стало ясно, когда 9 июля 1652 года в Москве встретили мощи митрополита Филиппа, привезенные новгородским митрополитом Никоном из Соловецкого монастыря, и состоялось их перенесение в Успенский собор в Кремле. На известной исторической картине художника Александра Литовченко «Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский, у гроба чудотворца Филиппа, митрополита Московского» (1886), хранящейся ныне в Государственной Третьяковской галерее, видно торжество опытного Никона, наблюдавшего, как молодой царь на коленях просил прощение у гроба святителя Филиппа, чья мученическая кончина стала следствием опалы Ивана Грозного. Иногда яркий художественный образ может повлиять даже на историков, которым все же надо опираться на факты и сохранившиеся документы. Так и в этом случае художник создал образ раскаяния царя Алексея Михайловича перед гробом митрополита Филиппа и одновременно торжества Никона. Однако сохранилось письмо царя Алексея Михайловича казанскому воеводе боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому от 3 сентября 1652 года с подробным описанием событий. Даже два месяца спустя царь по-прежнему ярко переживал обстоятельства встречи мощей митрополита Филиппа, пронесенных до Лобного места. Он рассказывал, как сам во всем принимал участие, как сразу начались чудеса, а повсюду «не мочно было ни яблоку пасть» (любимое сравнение). Мощи митрополита пребывали в соборе десять дней, и всё это время стоял колокольный звон, напоминавший царю о празднике Пасхи.