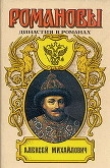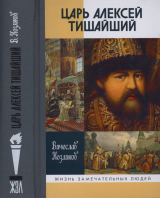
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 46 страниц)
После отмены похода главной царской армии в июне 1675 года ближайшей задачей стала подготовка завоевания Крыма. Такой поворот во внешней политике может быть понят только в контексте продолжавшейся русско-турецкой войны. Давление на Крым стало частью стратегии царя Алексея Михайловича и Боярской думы, понимавших, что именно оттуда исходит самая большая опасность внутренним уездам Московского государства и территории слободских полков. Начиная с 1672 года и особенно в 1673 году крымцы угрожали населению Белгородской черты, их отряды проникали через реку Оскол и разоряли близлежащие уезды. Уже на переговорах с Яном Гнинским в Москве была выработана стратегия ведения военных действий на Дону и в Крыму в качестве замены посылки войска в помощь Речи Посполитой. Московское правительство вернуло из ссылки в Тобольск кошевого атамана Ивана Серко, неудачно оспаривавшего гетманскую булаву при выборах в гетманы Левобережья Ивана Самойловича, и снова отправило его воевать с Крымом. Запорожские казаки Серко стали настоящим «бичом» для крымских улусов. Они помогали сдерживать агрессию орды на Правобережной Украине. Причем атаман следовал прямому указу царя Алексея Михайловича, известившего запорожцев о совместном походе царских воевод, донских казаков и калмыков «для промысла над городом Азовом» 8 июля 1674 года: «И вам бы против прежняго нашего великого государя указа над крымскими юрты потому ж всякой промысл чинить, сколько милосердый Бог помощи подаст».
Соглашались на поход царских войск на Крым и в Речи Посполитой, имея в виду облегчение задач королевского войска, воевавшего с османами и татарами на Правобережье. О посылке части русских войск в Крым, чтоб не дать крымской орде присоединиться к очередному походу турецкого султана на Польшу, договорился, например, посланник короля Яна Собеского Александр Кладницкий, находившийся в Москве с 13 по 30 апреля 1675 года и торжественно принятый царем Алексеем Михайловичем. Во исполнение этого договора князь Касбулат Муцалович Черкасский, соединившись с калмыками, донскими и запорожскими казаками, успешно воевал в Крыму в сентябре 1675 года. Их участие в крымском походе заслужило похвалу царя Алексея: «Ходили в нашу великого государя службу для промысла в Крым через Гнилое море за Перекоп и были у Каменнаго мосту, и заставы, которыя поставили, проведав о приходе их, крымские салтаны, сбили, и крымских людей побили многих, и бунчук и шатры взяли и крымские улусы повоевали». Донским казакам, ранее не сумевшим выполнить указ о постройке города в устье реки Миус, после крымской службы простили прежние вины{754}.
В военной терминологии Московского государства слова «промысл», «служба» и «поход» имели различные оттенки смысла. Бои на крымском театре военных действий до 1675 года хотя и были важными, но они относились к локальным задачам предупреждения татарских нашествий на юг Московского государства или демонстрации союзнических действий с Речью Посполитой. Совсем по-новому должен был восприниматься крымский разворот, когда с июня 1675 года, по словам Артамона Сергеевича Матвеева, стали «войну готовить на Крым…». В уже упоминавшихся десяти «статьях» боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского и гетмана Ивана Самойловича подробно говорилось не только о времени и сроках похода, но и о возможном маршруте, необходимой подготовке и финансировании. Если суммировать ответы боярина и гетмана, то поход «великим войском обозным ополчением» мог занять больше трех недель и начинать его надо было ранней весной, в «самое Светлое воскресенье». Одновременное же наступление за Днепр и в Крым было признано ими опасным или даже невозможным.
Получив такой ответ, царь Алексей Михайлович и его советники в Москве решили лучше подготовиться к грядущей войне и «устроить» войско. С одной стороны, оно нуждалось в жалованье, с другой – следовало поддерживать дисциплину и готовность служилых людей к выходу на службу, тем более после отмены двух уже обещанных государевых походов в 1674/75 году. Не был ли неким предвестием намеренно строгий запрет служилым людям носить немецкое платье, изданный в августе 1675 года? Одного из членов Государева двора, стряпчего князя Андрея Михайловича Кольцова-Мосальского, даже разжаловали в низший чин, написав «по жилецкому списку», – за то, «что он на голове волосы у себя подстриг» (видимо, на иноземный манер). 6 августа 1675 года всем членам двора и жильцам был сказан царский указ: «чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, тако ж и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили и людем своим потому ж носить не велели». Ослушникам обещали опалу и перевод в низшие чины. На ситуацию с царским стряпчим князем Кольцовым-Мосальским можно посмотреть и с другой стороны: подражание иноземной моде распространилось настолько широко, что уже было не отличить, где русский дворянин, а где иноземный офицер. В мирное время на это можно было не обращать внимания, а при начале военных действий такой разнобой в одежде мог привести к путанице в порядке войск{755}.
Осень 1675 года традиционно посвящалась подготовке к троицкому походу, совпавшему с приездом нескольких иностранных посольств в Москву. В преддверии задуманной большой войны с Крымом все эти события приобретали дополнительное значение. Если раньше Москва искала себе союзников в Европе для борьбы с Турцией, то теперь в ней самой были заинтересованы, чтобы привлечь к союзу против вступившей в войну Швеции. Дважды в 1675 году приезжали посольства из Бранденбурга, подвергшегося нападению Швеции (весной Христофора Георги, а осенью Иоахима Скультета). Сторонники продолжения линии Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина на решение «балтийского вопроса» оставались в Боярской думе, и даже русский резидент в Варшаве Василий Тяпкин советовал царским войскам вступить в союз с немецкими государствами и заставить шведов «заиграть около Риги». Но позиция главы дипломатической службы Артамона Матвеева оставалась незыблемой. Благодаря его настойчивости состоялся поворот Московского государства на восток: были отосланы посольства в Китай и даже в далекую Индию. Когда все с тем же намерением привлечь Московское государство к союзу в войне против Швеции в Москву от императора Леопольда I прибыло посольство во главе с Аннибалом Боттонием, оно не достигло своих целей.
Благодаря секретарю имперского посольства Адольфу Лизеку, оставившему подробное описание поездки, хорошо известны детали приема имперского посольства. Началось оно с «повестки», возникшей в ходе последнего русского посольства в Вену. В Москве была составлена «запись» о том, чтобы впредь обмен верительными и отпускными грамотами происходил в присутствии цесаря, а в титуле царя Алексея Михайловича было слово «величество», а не «пресветлейшество». В октябре 1675 года, по сведениям хорошо осведомленного датского резидента Магнуса Ге, в Москве происходили какие-то постоянные съезды ближних советников царя Алексея Михайловича. Несмотря на просьбы представителей Империи, Бранденбурга и Дании, в Москве не желали открывать второй, «шведский» фронт. Как писал Магнус Ге в донесении датскому королю, «в Сенате (то есть среди тех, кого царь допускает к себе, а их совсем немного) это дело выносилось на обсуждение несколько раз, но безрезультатно – так многочисленны разные мнения»{756}. Более того, попытка датского резидента наладить связи с имперским посольством привела в ярость Матвеева и стала причиной острого конфликта (имевшего отдаленные последствия и для судьбы самого Матвеева).
К имперскому послу Боттонию Матвеев, напротив, благоволил и даже принял его у себя в доме. Имперские дворяне увидели здесь много занимательного, включая «изображения святых, немецкой живописи», часы, по-разному отсчитывавшие начало дня, как это принято в других странах, на западе и востоке. Как выразился Адольф Лизек, «едва ли можно найти что-нибудь подобное в домах других бояр. Артамон больше всех жалует иностранцев (о прочих высоких его достоинствах говорить не стану), так, что немцы, живущие в Москве, называют его своим отцом; превышает всех своих соотчичей умом и опередил их просвещением». Подтверждают наблюдения дипломата и русские источники, свидетельствующие о подарках Артамона Матвеева царевичам. Наследнику престола царевичу Федору Матвеев подарил «Библею неметцкую в лицах, да клевикорты, да две охтавки», а также сделал особый подарок – «снегиря Неметцкаго»{757}.
В итоге никакие приемы послов и дополнительные обсуждения не поменяли общего настроя на продолжение войны с Турцией. В конце октября 1675 года сначала бранденбургское, а затем и имперское посольства отбыли домой, не договорившись о прямой помощи войсками. Какие-то дипломатические демарши и движения войск на своей территории поближе к границам со Швецией московское правительство допускало, но не более того. А на подходе было уже новое посольство – Голландских Генеральных штатов, во главе с Кунраадом фан Кленком. Как только бранденбургское и имперское посольства покинули Москву, были даны распоряжения о встрече «галанского» посла.
Освободившись от дипломатических приемов, царь и его советники переключили свое внимание на подготовку Крымской войны. 19 ноября было объявлено об организации общего смотра Государева полка и других полков во главе с боярами, для чего разосланы грамоты воеводам и приказным людям по уездам, предлагавшие немедленно высылать на службу всех стольников, дворян, стряпчих и жильцов: «быть к Москве тотчас, бессрочно». Дворянам и детям боярским Замосковного края и других уездов был объявлен указ о «разборе» – смотре служилых людей городовых чинов, проводившемся обычно боярами, окольничими и стольниками на местах, с участием представителей местной дворянской корпорации. Такие смотры становились частью подготовки к большим войнам, но последний «разбор» был очень давно, еще в 1649 году. С тех пор выросло целое поколение служилых людей, не знавших, что это такое, хотя раньше для многих дворян запись в разборной десятне становилась точкой отсчета службы и надежным основанием передачи прав на поместье в своем роду.
Новый «разбор» должен был навести порядок в учете служилых людей. В наказе разборщикам, выданном в декабре 1675 года, говорилось, «чтоб они были в домех своих, и к службе строились, и запасы свои готовили, и лошади кормили, и совсем были на готове»{758}. Словом, все должны были понять, что грядет война и надо ждать «государева указу».
Получив 14 декабря 1675 года новые «статьи» боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского и гетмана Ивана Самойловича, царь Алексей Михайлович и его советники сделали основные распоряжения по организации крымского похода. Частично принятые решения пересекались с предложениями июльских статей, но с тех пор многое уже определилось, успешно завершилась кампания против гетмана Петра Дорошенко, поэтому в декабрьских статьях дело дошло до рассмотрения деталей, а по пометам о решениях царя Алексея Михайловича можно понять, какой ему виделась будущая война за Крым.
Первая статья, очень интересовавшая боярина князя Ромодановского – о разрешении его сыну князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому по-прежнему возглавлять Севский полк, – была сразу подтверждена: «быть». Далее уточнялись назначения в Севский полк: его усилили и «в прибавку к прежнему указу» назначили солдат выборного полка Матвея Кровкова. По царскому указу предлагалось: «в Крымском походе быть 8 приказам стрелецким, да выборному полку; и будет выборный Агеев полк Шепелева и пехоты с тот промысл будет». В Москве следили за тем, чтобы не «оголить» тылы и оставить достаточное количество сил в Белгородском разряде. Для этого стремились мобилизовать как можно больше людей, снова вызывали в поход смоленскую шляхту и рейтар, привлекали к походу башкир, князя Касбулата Черкасского и калмыцких тайш. С Ногайской ордой было сложнее, так как она разделилась и ее улусы «разошлись» (откочевали): одни «за Кубу реку к Черкессам, а иные к Калмыкам». Князь Черкасский и калмыцкие тайши со своим войском на этот раз должны были воевать в составе большой московской рати во главе с князем Григорием Григорьевичем Ромодановским и гетманом Иваном Самойловичем. Им велено было «послать об указном сроке», чтобы они «сходились заранее к Светлому Христову воскресению к новопостроенному Соляному городу, к Северскому Донцу, где ныне строят на Турских озерах». Предполагалось, что боярин князь Григорий Ромодановский должен был сначала собираться с войском в Белгороде, а гетман Самойлович в это время – в Батурине. Для общего сбора сил боярина и гетмана тоже предлагался срок «с праздника Светлаго Христова воскресения» и свое особое место: «…а собрався, сходиться и случаться под Колонтаевым у реки Мерла, и сшедчись, идти на Крым, смотря по времени, в которых числех трава поспеет». Предложения были приняты царем Алексеем Михайловичем, по его указу велено «сбираться на указанных местех; а идти с указных мест, как поспеет конской корм». Определялась и точная дата начала похода: «идти апреля в 8 число».
Важный пункт содержался в 13-й статье. Боярин и гетман предлагали: «чтоб великий государь своей великаго государя грамоты к королевскому величеству о вспоможеньи посылать не указал». Однако в помете сказано о царской резолюции: «писать», что означало несогласие с этим предложением, выгодным прежде всего гетману Самойловичу, именно в это время приблизившемуся к своей цели – объединению Левобережной и Правобережной Украины. Представитель короля Яна Собеского на Правобережной Украине Евстафий Гоголь тоже вступил в переговоры с Самойловичем. Но, в отличие от казаков Войска Запорожского, стремившихся к полному отделению от «ляхов», царь Алексей Михайлович был связан договорами с Речью Посполитой. Скрыть готовившийся поход было невозможно, о нем заранее известили польского резидента Павла Свидерского, рассказавшего об этой новости даже приехавшему в Москву голландскому послу Кунрааду фан Кленку. В ответ на намерение Турции напасть на Польшу весной «с 300 000 войска» царь, по словам Свидерского, «обещал полякам устроить большую диверсию в Крым для отвлечения опасности от Польши»{759}. Действительно, в это время уже искали «лекаря с лекарствами» для похода, а значит, дело подготовки войны в Крыму вступало в последнюю стадию.
Но наступил январь 1676 года, оказавшийся последним месяцем жизни царя Алексея Михайловича. Первые дни все шло как обычно, царь присутствовал на водосвятии в день Крещения Господня 6 января. Как всегда, была выказана особая милость находившимся в Москве представителям иноземных дворов. Дипломатов, прибывших в составе голландского посольства, «спрашивали о здоровье» посланник Емельян Украинцев и переводчик Андрей Виниус. Одновременно царь пожаловал и постоянных представителей («резидентов») польского и датского королей, персидских «купчин», татар и калмыков. Церемония сопровождалась демонстрацией «пехотного строя, пушек и всяких нарядов». Офицеры, приехавшие в свите «Галанских Статов посла Кондрата Клинкина», высоко оценили московскую пехоту и строй царских стрельцов, давая им преимущество даже перед гвардейцами французского короля Людовика XIV: «и такой-де надворной пехоты богатой и строю изученного и у Францужскаго короля нет».
В следующие дни состоялся прием посланцев гетмана Петра Дорошенко, положивших перед царем Алексеем Михайловичем турецкие «санджаки», но главным образом все было посвящено торжественному приему голландского посольства. Представителей Генеральных штатов принимали по «королевскому» чину, так же, как послов шведского или английского королей, что было отмечено членами посольства. Цель голландского посольства была такой же, как и у имперских послов, недавно уехавших из Москвы – вовлечь Московское государство в противостояние со Швецией, чтобы ослабить главного союзника французского короля, ведшего войну с Голландией. Однако и в этом случае московские дипломаты стояли на охране своих интересов, переговоры не должны были привести к войне со Швецией (не случайно в это время распространились слухи о победах шведов над союзниками и даже о каком-то «брачном сближении Швеции с Москвой»). В политике самого царя Алексея Михайловича все было полностью подчинено задачам продолжения войны с Турцией.
В среду 19 (29) января 1676 года состоялась вторая аудиенция голландских послов. Как записал нидерландский дворянин Бальтазар Койет, «мы видели государя; он был свеж и здоров, и мы не могли ожидать ничего дурного». Даже на следующий день по просьбе царя Алексея Михайловича во дворец прислали мальчика-пажа из посольской свиты, «который искусно играл на разных инструментах». Он принял участие в постановке очередной «комедии», «играл здесь в присутствии цариц и вельмож», доставив «заметное удовольствие» своей игрой царю Алексею Михайловичу; его угостили конфетами и даже «вкусным вином» и отвезли в санях домой{760}. Достойная внимания картина: маленький паж, играющий перед царем Алексеем Михайловичем «на палочках, а также и на скрипке, и на органе» перед завершением земного пути великого московского царя, снова возвысившего свою державу в Европе…
Уход «Тишайшего»Сказать, что известие о болезни и кончине царя Алексея Михайловича поразило подданных, – наверное, не сказать ничего. В одночасье рухнул ставший привычным мир, пошла прахом привычная жизнь последних тридцати лет. Тем более что беда была внезапной и никто не мог быть готовым к переменам на московском троне. За исключением самого ближнего царского окружения, наблюдавшего развитие царской болезни. Члены голландского посольства рассказали о диагнозе царя – «цинге» и «водянке», осложнившихся простудой и лихорадкой. Царь был болен уже тогда, когда их принимали во дворце. В таких дальних местах, как Киев и Новгород, узнали о царской болезни еще в середине января и совершали молебны «о государском многолетнем здравии» (а ведь только для того, чтобы доставить известие об этом, требовалось порядка пяти-шести дней!). Автор «Новгородского хронографа» так писал о болезни царя Алексея Михайловича: «Генваря в 16 день разболелся великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, и бысть болезнь сия ему к смерти, и боляше сего ж месяца до 30-го числа».
Сначала во дворце, видимо, рассчитывали, что с болезнью удастся справиться обычными средствами. Царь продолжал участвовать в приеме посольств и дворцовых развлечениях, а от лечения отказывался. Нидерландский дворянин Бальтазар Койет рассказал о нараставшем отчаянии докторов: «Никаким образом не удавалось убедить его величество, человека очень тучного, принять какие-нибудь лекарства». Вместо них Алексей Михайлович лечил жар холодным квасом и «велел класть на живот толченый лед, а также и в руки брал лед». 21 января можно датировать серьезное ухудшение, начинавшее угрожать жизни царя.
Находившегося в Москве голландского посла сразу же предупредили, что в течение двух ближайших недель никаких «конференций», то есть приемов посольства специально назначенными «в ответ» боярами, не будет. Несмотря на то что дело с царской болезнью держалось в тайне от иностранных дипломатов, вскоре стали появляться признаки чего-то чрезвычайного, происходившего во дворце. Речь шла уже о последних земных делах умиравшего царя, по евангельским словам, прощавшего своих должников ради того, чтобы были прощены и его долги в этом мире. Сверх обычного, во дворце несколько дней раздавали милостыню, причем первые такие раздачи произошли еще 16 января. Начиная с субботы 22 января, на Аптекарском дворе закупили тысячу хлебов для «розвоски по улицам». 24-го числа самые близкие «комнатные» люди царя Алексея Михайловича продолжили раздачу милостыни, уже прямо связывая ее с болезнью царя. 26-го состоялось последнее примирение с патриархом Никоном, к которому послали в Ферапонтов монастырь просить письменного прощения для умирающего царя. Скоро дело дошло до соборования и причастия. В торговых рядах разом исчезли все черные ткани, началась подготовка к трауру{761}.
Смерть царя наступила 29 января 1676 года, «на память святаго священномученика Игнатия Богоносца с субботы на воскресенье в четвертом часу нощи в первой четверти» (как указано в надписи на надгробии царя Алексея Михайловича в Архангельском соборе Московского Кремля).
Всю эту ночь во дворце – «в Передней» и Столовой палатах, а также в Успенском соборе происходила присяга наследнику престола, следующему царю, Федору Алексеевичу. Об этом вечером в день смерти царя Алексея Михайловича сообщал в своем донесении датский резидент Магнус Ге: «Тотчас после смерти государя, в тот же вечер, бояре посадили нового царя на отцовский престол». Царя Федора Алексеевича благословил патриарх Иоаким, а дальше ему присягали Дума, двор и служилые люди, находившиеся в Москве. Печальная участь принять присягу выпала боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому, его сыну Якову Никитичу, архимандриту кремлевского Чудова монастыря Павлу, думному дьяку Лукьяну Голосову и дьяку Приказа Тайных дел Даниле Полянскому. Кроме них присягу принимали еще несколько лиц, в частности окольничий князь Григорий Афанасьевич Козловский и боярин Петр Васильевич Шереметев. Присяга была на верность не только новому царю Федору Алексеевичу, но и всей царской семье, включая мачеху царя Наталью Кирилловну и других наследников – царевичей Ивана и Петра. Особо оговаривалось, что решение о передаче престола принято самим царем Алексеем Михайловичем: «отходя сего света», «скифетродержавство свое, Московское, и Киевское, и Владимирское государство, и всеа Великия и Малыя и Белыя Росии державу пожаловал, приказал и на свой государского величества престол благословил сына своего государева, благоверного государя царевича и великаго князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии, быти великим государем царем и великим князем, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем»{762}. Это и была официальная формула передачи «скипетродержавства» следующему царю, вошедшая в грамоты о присяге, разосланные по городам.
30 января, в воскресенье, состоялись вынос тела и погребение в Кремлевском Архангельском соборе. Царя Алексея Михайловича похоронили рядом с сыном царевичем Алексеем Алексеевичем и отцом Михаилом Федоровичем. Присяга в Успенском соборе и в приказах шла до раннего утра, толпы людей заполнили Соборную площадь, и в это время, «около десяти утра», как сообщил присутствовавший на погребении участник голландского посольства Бальтазар Койет, из патриарших палат двинулся в сопровождении церковного собора патриарх Иоаким. Траурная процессия вышла из дворца с гробом, укрытым золотой парчой. «Почти невероятно, какой плач и какие рыдания раздались в толпе народа при виде государя в гробу. Крики и вопли присутствовавших, казалось, могли бы даже облака разорвать; можно было подумать, что со смертью этого государя подданные лишились единственного своего утешения и надежды».
Современникам тяжело было наблюдать за похоронной процессией. На носилках, или на специальном «стуле», несли юного царя Федора, так же «скорбевшего ножками», как и его дед. Молодую царицу Наталью Кирилловну везли в черном закрытом возке, но датский резидент Магнус Ге узнал, что «убитая горем царица… лежала, протянувшись во весь рост и положив голову на колени сидевшей возле нее придворной дамы». Следом в ее свите ехало «множество царевен, боярынь и боярышень». Все они вошли в Архангельский собор, где началось прощание, и дальше «недель около шести», или сорок дней, по обыкновению царских погребений, у гроба «дневали и ночевали» члены Думы и двора.
Внезапность ухода «Тишайшего» поразила всех. Следующему царю, Федору Алексеевичу, не исполнилось еще и пятнадцати лет. Пошли разговоры об участии в управлении царицы Натальи Кирилловны, но «время» канцлера Матвеева и Нарышкиных завершалось. Артамон Матвеев, принимая во вторник 1 февраля пришедших выразить ему сочувствие членов голландского посольства, еще говорил о том, «что ввиду малолетства его царского величества четверо знатнейших будут управлять наряду с ним». Но все эти расчеты были уже не столь важны, они лишь подчеркивали растерянность и неготовность к передаче власти. Поразительнее выглядит другое свидетельство – о неподдельном горе в доме Матвеева, когда прямо во время приема «вельможа и все находившиеся в комнате разразились рыданиями»{763}. Этот плач стоял по всей стране, когда в ней узнавали о смерти царя Алексея Михайловича.