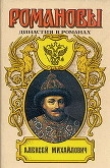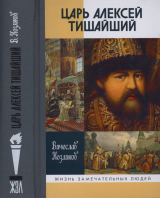
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 46 страниц)
3 октября князь Барятинский подошел с ратными людьми к городу: «стал блиско Кремля и Синбирск выручил и от осады освободил». Пока оба воеводы, князь Барятинский и Милославский, договаривались друг с другом о совместных действиях, Разин «стоял по ту сторону города у Казанских ворот, а в остроге все воровские люди в собранье». В разинском войске насчитывалось около 20 тысяч человек, но первое же серьезное поражение от царских войск разбило их уверенность в своих силах. Ночью с 3 на 4 октября тяжело раненный накануне Разин бросил свое воинство без надежды на какую-либо поддержку. Барятинский писал торжествующе: «И на нево де вора Стеньку, пришло такое страхованье, что он в память не пришел и за 5 часов до свету побежал в суды с одними донскими казаками». Оставшееся без вождя, обманутое разинское воинство не могло оказать сопротивления царским войскам. Пехота, пущенная «на обоз Стеньки Разина и в острог», добилась долгожданной победы: «воров и изменников, которые под городом были и в остроге, побили наголову да языков взяли болыпи 500 человек». Пытавшихся спастись с поля боя и пробиться к судам, как сказано в воеводском донесении, «и тех в Волге всех потопили». Воевода князь Барятинский имел все основания написать: «А как бы де он того числа к Синбирску не поспешил, и Синбирск бы был взят»{705}.
Для Алексея Михайловича такая победа означала многое. Главный враг – вор Стенька Разин – был повержен. 12 октября 1670 года были разосланы победные грамоты о взятии Симбирска. Тогда впервые отчетливо прорвалось скрытое объяснение царского гнева, связанное с использованием казаками имени умершего царевича Алексея Алексеевича. Следом за сообщением об отступлении разинцев от Симбирска говорилось о распространении волнений на Алатырь и Арзамасский уезд, где поверили «прелестным письмам»: «Да он же, вор и богоотступник Стенька Разин, в прелесных своих письмах в городы и по селам пишет к незнающим и простым людем, будта он, вор и богоотступник, идет снизу рекою Волгою с сыном нашим государевым с благоверным царевичем и великим князем Алексеем Алексеевичем. И то он, вор и богоотступник, лжет и затевает на соблазн незнающим людям». От имени царя Алексея Михайловича в грамоте еще раз напоминали о погребении царевича в Архангельском соборе Московского Кремля «с протчими нашими государскими родители» 18 января 1670 года. Потом эта вина, оскорблявшая отцовский траур по умершему наследнику, повторится и в главном обвинении – в приговоре, зачитанном Степану Разину перед казнью.
Начатое Разиным движение трудно было остановить, его продолжили другие «воровские» атаманы. Они разошлись с Волги в разные места, поднимая повсюду людей для осуществления, адресованной «миру» разинской программы: «бояр выводить». Все территории, так или иначе соприкасавшиеся с Войском Донским, в первую очередь стали местом боевых действий с царскими войсками. «Языки» разинской войны доходили до Макарьева Унженского монастыря в Костромской земле и Макарьева Желтоводского монастыря на Волге. Собиравшиеся в селах и волостях Нижегородского уезда «воры» хотели идти на Нижний Новгород, говоря «что де конечно Нижней им сдастся». На юго-востоке разинцы воевали близко к рязанской «украйне», подходя к Шацку, где был организован еще один пункт сбора войск и куда были направлены рейтарские полки и московские и городовые дворяне. В это время в округе Шацка орудовал некий атаман Нечай, приказавший отпущенному им крестьянину «молить Бога за Нечая, царевича Алексея Алексеевича, да за патриарха Никона, да за Стеньку Разина» (перед этим казаки убили сына его помещицы). История волжского похода разинских сил тоже еще не завершилась, Астрахань оставалась в руках восставших, да и к Симбирску разинцы еще вернутся{706}.
Главный воевода боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий исполнял свое «государево и земское» дело в худших традициях гражданских войн, с помощью террора. 10 октября, когда воевода еще находился в Арзамасе, к нему были привезены «статьи» из Приказа Казанского дворца, предписывавшие «посылать посылки для промыслу на воров» в Нижегородском, Курмышском уезде, к селам Лысково и Мурашкино (бывшие нижегородские вотчины боярина Бориса Ивановича Морозова) и в Темников. В царских статьях сформулированы и цели похода: «чтоб за милостию Божиею воров от воровства унять и искоренить воровство».
Ничего не знали в Приказе Казанского дворца и о судьбе Симбирска, предлагая князю Долгорукому пока что действовать совместно со своим «товарищем» воеводой князем Юрием Никитичем Барятинским. При этом существовало лишь самое общее представление, что тот должен был «из Казани… путь очистить». Вскоре ему это удалось: справившись с главной задачей – освобождением Симбирска от осады разинских повстанцев, Барятинский пошел дальше на соединение с войском главного воеводы князя Долгорукого. Совместными действиями с отправленным им навстречу воеводой стольником Василием Паниным князь Барятинский в декабре 1670 года освободил Алатырь, Саранск и Атемар. Уже 18 января 1671 года на смотре в Саранске царский окольничий награждал служилых людей своего полка золотыми и золочеными копейками за Симбирск и последующие бои.
Можно было бы и дальше подробно рассказывать о разинском движении в Поволжье, например, вспомнить знаменитую Алену Арзамасскую. Она покинула монашеский сан и вровень с другим разинским атаманом Федором Сидоровым управляла Темниковом, воюя с царскими войсками во главе своего отряда. Существует целая летопись осады Макарьевского Желтоводского монастыря на Волге, взятого и разграбленного разницами после ряда приступов. Но все эти и другие известные сюжеты «крестьянской войны» приводили к неизбежной расправе с восставшими, розыскам и массовым казням. Около Темникова повесили даже одного священника, «молившего Бога» в соборной церкви «за бывшего Никона патриарха и за воровских казаков».
Начатый террор трудно было остановить даже после принесения повинной, приказные избы и остававшиеся на местах ратные воеводы продолжали творить свой суд. Особенно страшную картину представляли целые поля «божедомок» – небольших часовенок ниже человеческого роста в поле на Ивановских буграх в Арзамасе, где в месте пребывания ставки главнокомандующего князя Долгорукого казнили участников разинской войны. Они еще и несколько веков спустя оставались символичным напоминанием о плахах и о том, как власть расправляется со своими врагами{707}.
Ратные силы под командованием главного воеводы Белгородского полка боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского также успешно воевали с разницами на юге и в Слободской Украине, вытеснив восставших обратно на Дон. Сначала разинцы сумели захватить один из форпостов в степи – Царев-Борисов, другие города на Северском Донце. Существовала большая опасность подключения к движению казаков Войска Запорожского и других «черкас», поэтому гетмана Демьяна Многогрешного просили помочь справиться с мятежным казачеством. Против разинцев, собравшихся во главе со своим атаманом Леской Черкашенином (Алешкой Хромым), отправили воеводу полковника Григория Ивановича Касогова, и тот жесточайшим образом расправился с неповиновением царю. Среди казненных им оказались даже женщины – «названой матери» Степана Разина Матрене Говорухе отрубили голову в Цареве-Борисове, а ее родной сын и зять были повешены; расправлялись с женами и детьми восставших, приказывая их «побивать и в воду сажать». Царю пришлось даже ввести прямой запрет на казни казачьих семей{708}.
Царь Алексей Михайлович снова вынужден был брать все бразды правления в свои руки. Во время затянувшегося траура он мог откладывать многие дела, но стерпеть посягательство «воров» на царскую честь и на устои царства было нельзя. 29 января 1671 года в Передней палате состоялись встреча и прием «у руки» возвратившихся с победой воевод боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукого и его «товарища» окольничего князя Юрия Никитича Барятинского. 7 февраля 1670 года князя Барятинского пожаловали в бояре, это было первое после долгого перерыва в связи с царским трауром пополнение Думы. Прошло всего пять месяцев с того времени, как главный воевода боярин князь Долгорукий, также «у руки», прощался с царем и отправлялся в поход. Теперь и он, и остальные царские воеводы вернулись в другую страну. Не случайно прием воевод происходил сразу после свадебных торжеств и появления во дворце новой царицы Натальи Кирилловны.
Оставалось поймать ускользнувшего от царских войск в Симбирске Степана Разина. Еще 20 сентября 1670 года на Дону была получена грамота с требованием «чинить промысл над Стенькою Разиным». Но что могли сделать старые «прямые казаки»? Они разрывались между следованием главному принципу казачества – «с Дону выдачи нет» и долгом царских слуг. 4 января 1671 года от Войска Донского были отправлены в Москву посланцы атамана Корнилия Яковлева: атаман Родион Осипов и войсковой дьяк Марк Львов. «Согрешили, государь, мы холопи твои, пред Богом и пред тобою», царя «на гнев привели» – только и могли сказать они. Донских казаков в Москве встретили не так, как в прошлые времена. Царь распорядился расспросить посланников с Дона не в Посольском приказе, которому до сих пор были подчинены «донские дела», а в Приказе Казанского дворца. Именно здесь была собрана вся главная информация о разинской войне, именно оттуда отсылались распоряжения и статьи воеводам.
После расспроса Родиона Колуженина (Осипова) и Марка Львова 27 января 1671 года им была объявлена «сказка». Если кто-то и надеялся, что остававшиеся на Дону казаки не будут ни в чем обвинены, то это оказалось не так. От царя Алексея Михайловича были переданы многие упреки – прежде всего, в опоздании с присылкой грамот и станиц, что помешало послать царских людей на Царицын и предотвратить распространение воровства: «А нынешнее кровопролитие учинилось все вашим нерадением». По таким «винам» казаки объявлялись «чюжи его государской милости и жалованья». Единственное, чем могли вернуть казаки царское расположение, – доставить в Москву братьев Степана и Фрола Разиных. То было еще одно следствие разинской войны – история вольного Дона завершалась, начиналась история казаков – государевых слуг.
12 марта 1671 года в первую неделю Великого поста – «еже нарицаетца Православная» – состоялось символичное действо «соборного» объявления анафемы Разину и его атаманам. Оно происходило «на площади у Соборныя церкви за алтарями». Церковный суд шел впереди светского, ставя Разина в один ряд с Лжедмитрием, Тимошкой Анкудиновым, нераскаявшимися сторонниками «старой веры» и другими врагами церкви. Если доверять официальным сведениям «Выписи» Разрядного приказа, «совет» об анафемствовании Разина предложил царю Алексею Михайловичу патриарх Иоасаф, хотя, как уже было показано, с момента объявления разинской войны это была еще и война с «врагом креста Христова». Царь Алексей Михайлович, «советуясь» с патриархом и Освященным собором, говорил, «что по многому долготерпению Божию вор Стенька от злобы своей не престал и на святую церковь воююет тайно и явно и православных християн тщитца погубляти пуще прежняго». Свидетельствовало об этом и приехавшее донское посольство, поэтому царь «тому вору болыпи того терпеть не изволяет». Патриарх Иоасаф и члены Освященного собора, «яко едиными усты соборне того Стеньку и единомышленников ево проклята и от церкви отгнаша, чего они сами восхотели». В тексте анафемы, включенном в монастырские и церковные синодики, содержалось еще упоминание об «обругании» Разиным имени царевича Алексея Алексеевича. Теперь каждый год церковь должна была проклинать зачинателя братоубийственной войны: «на все государство Московское зломысленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубивец, кровопиец, новый вор и изменник донский козак Стенька Разин»{709}.
14 апреля 1671 года разбойничье счастье окончательно оставило атамана. В этот день, после недолгих боев, он был вынужден сдаться в Кагальнике другим донским казакам, сохранявшим присягу царю Алексею Михайловичу. В правительственной версии событий подчеркивалось, что Разина поймали его бывшие единомышленники. Но это было только общее обвинение всем донским казакам, потерявшим царское расположение: «…на Дону изыман и связан узами железными от донских казаков, которые обратились от злоб своих и по своему челобитью и прошению получили от Господа Бога милость и от великого государя отпущение вин своих». Казаки привезли Разина в Черкасский городок в пятницу предпоследней недели Великого поста, а уже после Пасхи, во вторник на Светлой неделе – 25 апреля, тронулись в путь в Москву, чтобы самим передать закованного в железные кандалы предводителя бунтовщиков царю Алексею Михайловичу.
Для этого снарядили целое посольство – 76 человек, поехавших в Москву вместе с прежним донским атаманом Корнилой Яковлевым и охранявших важных пленников. С собою они везли отписку нового атамана Войска Донского Логина Семенова «и всего Войска», поданную в Приказ Казанского дворца. В ней царя Алексея Михайловича извещали, как по царскому указу и грамоте «ходили мы, холопи твои, всем войском вверх по Дону до Кагальника городка для вора и изменника Стеньки Разина с товарыщи». Казакам пришлось сжечь Кагальник «со всеми куренями», разинскую старшину судили войсковым судом и «под страхом смертной казни» велели ей покинуть эти места и «селитца в ыном месте». Своих товарищей казаков, бывших с Разиным в Кагальнике «в осаде», явно пытались оправдать, говоря о их действиях «поневоле». Сначала Фролу Разину удалось вырваться и уйти вверх по Дону, но за ним была послана погоня на десяти стругах, и вскоре, как написано в отписке атамана Логина Семенова, «брата вора и изменника Стеньки Разина Фролка верховые атаманы и казаки, поймав, прислали, к нам к войску». И младшего Разина, сковав, как и брата, отослали в Москву. Атаман также отчитывался о продолжении действий по розыску и наказанию участников разинской войны: «Да для утверждения послали вверх по Дону покамест наш казачей присуд из своих низовых станиц». Впредь казаки обещались «служить» и «во всем твое государское повеление исполнять, сколько нам, холопем твоим, милосердый Бог помощи подаст».
Отсылка с известием в Москву войскового атамана Корнилы Яковлева позволяет связать с его именем решительные действия на Дону, приведшие к разорению Кагальника и поимке Степана Разина. Как только это произошло, началась обычная в московской приказной практике гонка сеунщиков: кто первым известит о важных переменах в войне с Разиным в Москву. Первые вести послали, не дожидаясь поимки Фрола Разина, но любой человек с Дона теперь не мог пройти мимо застав воеводы боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского. Он и был первым, кто 4 мая сообщил царю Алексею Михайловичу о поимке Степана Разина на Дону и о том, что атамана везут скованным в Москву, заслужив «милостивое» царское слово и отсылку в Курск специально назначенного царского стольника «спросить о здоровье». В день получения сеунча праздновались именины старшей сестры царя Алексея Михайловича царевны Ирины Михайловны. В царскую семью понемногу возвращались мир и веселье. 5 мая царь снова, как в прежние времена, жаловал «именинными пирогами» членов Думы и своих ближних людей – «спалников». Раздача «именинных пирогов» повторилась и в день именин царевны Феодосии Алексеевны 29 мая. Конечно, пока в торжествах участвовал не весь двор, но уже и такая перемена в настроении царя была характерной.
Весь май 1671 года в городах узнавали из царских грамот о поимке Степана Разина. Царь ждал теперь, когда в Москву привезут главных предводителей бунта. 25 мая Алексей Михайлович получил в подмосковном походе в селе Остров от оставшегося ведать Москву боярина князя Григория Сунчалеевича Черкасского с товарищами известие о доставке Разина с братом в Курск. Глава Белгородского полка боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский отпустил братьев Разиных из Курска на «государских подводах» и в сопровождении «дворянина». Царь распорядился довести их до Серпухова, где они должны были ждать новых распоряжений. Степана и Фрола Разиных требовали привезти в Москву целыми и невредимыми: «Однолично б у тех воров сторожа была самая крепкая, чтоб те воры в дороге и на станех сами они над собою какова дурна не учинили и до Москвы б довесть их вцеле, и никого к ним припускать не велел»{710}.
Казнь Степана Разина хотели сделать публичной, чтобы не дать повода говорить о возможном спасении Разина, чье имя и так уже подняло на бунт многие тысячи людей. Позаботились и о том, чтобы жившие в Москве иностранцы как можно лучше рассмотрели расправу с предводителем бунтовщиков. Из многочисленных иностранных свидетельств можно выделить письмо англичанина Томаса Гебдона (брата тайного царского комиссионера Джона Гебдона), написанное в день казни Разина, где с репортерской точностью записаны детали «явления» Стеньки в Москве. Томас Гебдон писал о последующих пытках и казни: «Впереди шел конвой из 300 пеших солдат с развевающимися знаменами, зажженными факелами, но опущенными книзу дулами мушкетов. Позади Разина тем же порядком шло почти то же число солдат, но знамен было всего шесть. Окружал Разина отряд захвативших его казаков, перед ним верхом ехал со своим знаменем казачий предводитель (по имени Корнила Яковлев), остальные казаки, числом 50, а то и 60, были тоже на лошадях».
В письме Томаса Гебдона, как и в других свидетельствах иностранцев, приведено описание поразившего современников «помоста», на котором везли Разина: «А сам Разин на помосте под виселицей стоял с цепью вокруг шеи, и конец цепи был переброшен через верхнюю перекладину виселицы, у самой петли. От его пояса шла другая цепь, прикованная к обоим столбам виселицы, к тем же столбам были прикованы и руки его. Ноги (в одних только чулках) тоже были закованы. От помоста тянулась еще одна цепь, которая охватывала шею его брата, шедшего в оковах пешком. Помост везли три лошади. Разин был привезен между 9 и 10 часами утра и тотчас же предан пытке…» Смысл шествия был понятен. Яков Рейтенфельс сравнил провоз Разина с «триумфальной колесницей – так, чтобы все его видели»{711}.
А где же в это время был царь Алексей Михайлович? Он еще накануне, 1 июня, вернулся из Преображенского в Москву. Ему захотелось в этот день побывать в Вознесенском монастыре, где была похоронена царица Мария Ильинична. Но во все следующие дни царь не покидал дворец, хотя и направлял боярский сыск, составив упомянутые десять статей для допроса Разина. Как уже говорилось, первый вопрос был о шубе боярина князя Прозоровского. Царя Алексея Михайловича интересовали любые возможные связи бояр и церковных иерархов с Разиным, поэтому далее следовало спросить еще про астраханского митрополита Иосифа: «По какому случаю к митрополиту ясырь присылал?» Следующие вопросы касались «умыслов» Разина, его контактов с князьями Черкасскими, бывшим патриархом Никоном и, самый последний, семьи Разина: «На Синбир жену видел ли?» (то есть, идя походом в Симбирск, виделся ли с семьей?). Записей ответов Разина не существует, возможно, их и не было. Судя по всему, и бояре пытались выместить свой страх в пытках поверженных предводителей бунта. По «сказке» Фрола Разина, «как де ево пытали во всяких ево воровствах, и в то де время он в оторопях и от многой пытки в память не пришел».
Бояре, по одному из свидетельств, все дни посвящали допросам и пыткам Степана и Фрола: «безпрестанно за тем сидят», приезжая, как только рассветало, и разъезжаясь «часу в тринадцатом дни». У следователей не было цели доказывать вину прóклятого церковью бунтовщика; по царским вопросам можно было лишь уточнить детали будущего смертного приговора, составленного в Земском приказе: «Сказка, какова сказана у казни вору и богоотступнику и изменнику Стеньке Разину». Наибольшее негодование из всех разинских вин, исключая разорение Астрахани и осаду Симбирска, вызывало объявление «живым» царевича Алексея Алексеевича: «А ты, вор и изменник, забыв страх Божий, такое великое дело умыслил, хотя народ возмутить и крови пролить, чего и помыслить страшно». По указу царя «бояре приговорили»: братьев Разиных «казнить злою смертью – четвертовать».
Местом казни Степана Разина заседавшие несколько дней с утра до ночи бояре выбрали Красную площадь. Там заранее были «изготовлены ямы и колы вострены». По свидетельству Рейтенфельса, «площадь, на которой преступник понес свое наказание, была по приказанию царя окружена тройным рядом преданнейших солдат, и только иностранцы допускались в средину огороженного места, а на перекрестках по всему городу стояли отряды войск». 6 июня 1671 года наступил момент самой казни. Братьям Разиным был прочитан приговор, но неожиданно Фрол Разин сказал в это время «слово и дело государево». Хотя и для него уже были изготовлены колья, его увели на дополнительный допрос в Приказ Тайных дел, где он рассказал о зарытых письмах Степана Разина «на острову реки Дону, на урочище, на прорве, под вербою» и об оставшейся «рухляди» – имуществе брата[6]6
Разинский «архив» и «сокровища» (?), зарытые на донском острове, так и не были найдены. Считается, что Фрола Разина после этой «сказки» держали в тюрьме еще несколько лет и казнили уже после смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году, когда его, ведомого на казнь, случайно увидел один из иностранцев в Москве. Однако по смыслу разрядной «выписи» Фрола Разина казнили почти одновременно с братом.
[Закрыть]. Разин принял смерть молча. Рассказывали, что он, перекрестившись, сам лег на плаху. Последним, что он произнес, был окрик брату: «Он был так непреклонен духом, что не слабел в своем упорстве и не страшился худшего и, уже без рук и без ног, сохранил свой обычный голос и выражение лица, когда, поглядев на остававшегося в живых брата, которого вели в цепях, окрикнул его: «Молчи, собака!»…» Из Москвы теперь могли торжествующе рассылать грамоты с известием о казни «богоотступника Стеньки Разина», который «за свое воровство на Москве четвертован и разбит на колье».
В разрядной «выписи», подводившей итог разинской войне, в рассказе о казни братьев Разиных «на Москве на Красной площади», говорилось и о судьбе останков, перенесенных на Болотную площадь: «отсечены им руки и ноги, а остаток и головы, на показание всем те их воровские головы и руки и ноги збиты на высокие деревья и поставлены за Москвою рекою на площади до исчезнутия». Водруженные на колья, они простояли до конца царствования Алексея Михайловича, служа напоминанием и предостережением тем, кто хотел бы повторить дело Разина, и только после этого были захоронены, но не рядом с православным, а рядом со Старым Татарским кладбищем, располагавшимся по Калужской дороге в Москве{712}.
Пока Астрахань оставалась в руках разинских атаманов, война не была окончена. Скоро в Москве узнали об убийстве митрополита Иосифа, замученного и брошенного «с роскату». 27 ноября 1671 года боярин и воевода Иван Богданович Милославский, отстоявший ранее Симбирск, вынудил после ряда боев «воров астраханских сидельцев» «целовать крест» царю Алексею Михайловичу. Боярин вошел в Астрахань с царской иконой Богоматери, врученной ему перед походом; «устроясь ратным ополчением», он совершил со своим воинством «молебное пение» в соборной церкви, пришел в приказную палату, получил городовые ключи и запечатал остававшуюся пороховую и свинцовую «казну», расставил караулы по стенам и башням Астраханского кремля. Так закончилось «воровское разоренье» в Астрахани…
15 января 1672 года у Посольского приказа в присутствии членов Государева двора, полковников и офицеров войск иноземного строя, стрелецких начальников, городовых дворян и иноземцев, рядовых стрельцов, жителей московских слобод и черных сотен было объявлено «о здаче Астараханской, как да били челом великому государю о винах своих». Снова и снова возвращаясь к действиям «вора и богоотступника» донского казака Стеньки Разина и его товарищей, напоминали об анафеме Разину и об успешных действиях воеводы Милославского, приславшего с сеунчом о своей победе 1 января 1672 года. Царь Алексей Михайлович «слушал соборного моления» о небесном заступничестве «Росийскому царствию» и о победе над «врагами церкви» и «государскими изменниками», благодаря чему «толикое не-начаемое дело совершилось». Искоренение «воровства и злых замыслов», как говорилось в «сказке» служилым и посадским людям, было достигнуто молитвами патриарха Иоасафа и всего Освященного собора, «а его государские полаты бояр и окольничих и думных людей единодушным совокуплением и твердым советом». Отмечались «служба, радение и промысел» всех служилых людей, участвовавших в боях с «ворами», «вспоможенье в денежных податях» на жалованье ратным людям. Призывая всех к общей молитве, говорили о милосердии царя Алексея Михайловича, «хотя во время того воровства и в печалех пребывали (выделено мной. – В. К.)». Теперь вся разинская война наконец-то завершалась: «И тем своим государским долготерпением врагов Божиих и изменников своих государских одолел и под нозе свои покорил»{713}.
Невероятно, как должен был переломиться ход истории, чтобы разинская война превратилась в главное событие XVII века, сделав Стеньку Разина более известным историческим героем, чем царь! К несчастью, на время царствования Алексея Михайловича пришлась великая сшибка мстителей за нищету, бедность и судебный произвол со своими обидчиками – «боярами», а точнее, с любой властью. «Воля», обещанная «кабальным и опальным», оказалась привлекательнее обновления царства, задуманного царем в год Андрусовского триумфа. Занятые государевыми походами, важными дипломатическими делами, удержанием Малой и Белой России, власти предержащие забыли о народе. Народ жил, как мог, но только до поры, когда несколько лет пребывания в Стенькиных «работничках» казались лучше, чем вся оставшаяся жизнь. Главный урок разинской войны состоял в том, что справиться с начавшимся бунтом сложнее, чем предотвратить его. Потом начинается взаимная жестокость, ведущая к еще одному Расколу – между Государством и Землей.