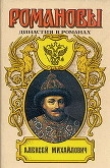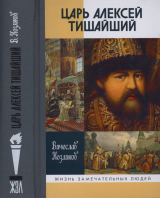
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 46 страниц)
Военная цель похода не была достигнута, но путь был показан, и русские войска еще дважды будут осаждать Ригу, пока она не будет взята в 1710 году Петром I. Пока же «демонстрации силы» хватило для послов польского короля Яна Казимира в Вильно. Своеобразная острастка была устроена и еще одному «недругу» – королю Карлу X. Оказалось, что с другой стороны шведский «Потоп» упирался в надежную плотину на русской границе.
Виленские переговоры 1656 года о закреплении за царем Алексеем Михайловичем завоеванной территории Великого княжества Литовского и земель Короны для Войска Запорожского под управлением гетмана Богдана Хмельницкого продвигались трудно. Неожиданно для польской стороны на первый план вышла идея избрания Алексея Михайловича или его сына царевича Алексея в наследники короля Яна Казимира. Разговор об этом посол князь Никита Иванович Одоевский начинал в шутку, неофициально, смотря на возможную негативную реакцию королевских дипломатов. Но идея царского избрания на удивление легко была воспринята комиссарами Речи Посполитой, они даже испытали облегчение, узнав о главном желании царя. Начатые переговоры о таком тесном соединении Московского царства и Речи Посполитой даже рассорили послов с посредниками, представлявшими императора Фердинанда III. Спасая Речь Посполитую от полного разгрома, в Империи явно были не готовы встречать у своих границ московского царя, стремившегося еще и встать на Балтике.
Главным военным успехом рижского похода стали действия рати боярина князя Алексея Никитича Трубецкого на другом направлении, у Юрьева (Дерпта). Древний русский город, основанный князем Ярославом Мудрым, был уже однажды завоеван русскими войсками во времена Ливонской войны. Потом по результатам мира город достался Речи Посполитой, но стал «переходящим призом» в ее войнах с Швецией. Новое завоевание Юрьева царскими войсками 12 октября 1656 года имело тем самым двойной смысл – поражение шведов и «возвращение» древнерусского наследства. Известие о сдаче города Юрьева Ливонского Алексей Михайлович получил, «прошед Дисну город», на стане в деревне Горки, уже на подходе к Полоцку, где царя снова встречал «в поле» игумен Игнатий Иевлевич. Игумен поздравлял царя с большой победой – получением «Ливонской митрополии», «столичный, глаголю, град Юрьев земли Ливонския». Алексей Михайлович написал из Полоцка семье и патриарху Никону, которые выехали в Вязьму. Но как ни спешил он увидеться с родными, быстро это произойти не могло: «А скорее тово поспешить никак нельзя: сами видите какая по дороге расторопица стоит и груда и облом».
31 октября в Полоцк приехал сеунщик с известием от великих послов боярина князя Никиты Ивановича Одоевского, договорившихся об избрании царя «королем Польским и великим князем Литовским». Конечно, царь Алексей Михайлович понимал, что это еще не окончательное решение, но не удержался и поддался общему поздравительному настрою. Он не стал хранить известие в тайне и объявил о предварительном договоре, хотя переговорам надо было еще продолжаться и продолжаться. Но это была возможность привлечь под свою «высокую руку» еще больше новых подданных и повлиять на будущие выборы в Великом княжестве Литовском: ведь литовская шляхта должна была голосовать в дальнейшем за кандидатуру царя на сейме в Варшаве. Царь дозволил сбор местных сеймов, но, правда, только с участием шляхты, присягнувшей ему в подданство.
1—3 ноября 1656 года в Полоцке по этому случаю были устроены большие торжества, состоялись молебны в Софийском соборе и Спасо-Преображенском монастыре; на царские «столы» пригласили в один день полоцкую шляхту, а в другой – полоцких мещан. Снова понадобилось красноречие игумена Богоявленского монастыря Игнатия Иевлевича, обращавшегося к царю с новым титулом: «нареченный Королю Польский, Великий Княже Литовский, Русский, Прусский, Жмудский, Мазовецкий, Инфляндский и прочая». Звучали слова о торжестве белорусского православия: после «тмы» приходил «свет», свершался поворот от власти «зело враждующей на благочестие», к власти царя «ревнующего» о нем, великого государя «не токмо Малыя и Белыя России, но всего победами прежде повсюду славнаго Королевства Польскаго и Великаго Княжения Литовскаго». Кто после этого мог сказать, что царский поход закончился неудачей?
4 ноября царь Алексей Михайлович вышел из Полоцка. Его следующей остановкой стал Витебск. Царь спешил к семье в Вязьму и привел утешительный подсчет оставшихся верст на своем пути в письме из Витебска 10 ноября: «А от Витепска до Смоленска полтораста, а от Смоленска до Вязьмы полтораста». Действительно, он уже нигде не задерживался: 12 ноября вышел из Витебска, 20-го был в Смоленске, а 26-го приехал в Вязьму. Долгожданное воссоединение царя с женой, детьми и сестрами состоялось. В Вязьме ждал царя и «собинный друг» патриарх Никон. Алексею Михайловичу явно нужна была передышка, чтобы справиться с валом обрушившихся на него событий. Кроме того, ему хотелось бы появиться в Москве, «обранным» на престол Речи Посполитой, поэтому в Вязьме продолжались контакты с представителями двух гетманов Великого княжества Литовского – Винцентия Госевского и Павла Сапеги. Но контакты эти были не такими обнадеживающими, как ожидал царь. После виленских переговоров стали нарастать и трения с гетманом Богданом Хмельницким, посчитавшим себя обманутым. В Запорожском Войске полагали, что на переговорах в Вильно не были учтены интересы казаков и царь предал их, пойдя на соглашение с королем. Богдан Хмельницкий, напротив, не желал мириться с ним ни при каких обстоятельствах. Конечно, он лучше московских дипломатов понимал и призрачность надежд на избрание царя в короли Речи Посполитой{382}.
14 января царь Алексей Михайлович вернулся в Москву. Торжественно встречал его опять патриарх Никон. Царь завершил свою войну; теперь пришло время испытать завоеванное на прочность. Но какие бы события ни происходили потом, отменить победы Московского царства они уже не могли.
Часть вторая

РОЖДЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ РОССИИ
НОВАЯ СТЕПЕНЬ РОССИЙСКОГО ЦАРСТВИЯ
166-й годС возвращением царя Алексея Михайловича из рижского похода начинается новый период его царствования. Грань 166-го (1657/58) года не слишком видна в биографических трудах, а между тем именно этот год можно считать определяющим для Московского царства. Посмотрим внимательнее на все значимые события этого года, дополнив обычную хронологию еще и «погодным» видением. И узнаем, какие перемены начались после завершения трех государевых походов.
Московское государство вновь превратилось в одного из участников большой европейской политики. Императоры, короли, лорд-протекторы, папа римский, кардиналы и архиепископы, канцлеры и дипломаты – все они развернулись лицом на восток, чтобы разглядеть появившуюся там почти что из исторического небытия фигуру «московита». Достаточно еще раз привести отзыв одного из самых ярких героев событий на рубеже 1640—1650-х годов гетмана Януша Радзивилла, ожидавшего в начале первой кампании, что «москва» «по-рачьи» вынуждена будет двинуться назад от смоленского рубежа, и вспомнить, в чьих руках (и уже навечно!) оказался Смоленск и в каких иных краях пребывал сам гетман, перед смертью разрушивший единство Литвы и Короны. Повестка дня в европейских делах спустя несколько лет после завершения Тридцатилетней войны снова изменилась: при живом короле Польши Яне Казимире все заговорили о его наследстве – королевской короне. И главным в хоре претендентов оказался голос царя Алексея Михайловича, которому эта корона была обещана, согласно Виленскому договору.
Оставалось только подтвердить на сейме Речи Посполитой решение, достигнутое на переговорах. В этом и будет основное препятствие для кандидатуры московского царя на польский трон. Как и в случае с историческим прецедентом избрания на московский престол королевича Владислава Сигизмундовича в 1610 году, неразрешимым окажется вопрос о вере. Католического царя не хотели в Москве, а православного – в Польше. Появится «21 причина», чтобы не избирать царя Алексея Михайловича или его сына царевича Алексея Алексеевича в короли Речи Посполитой{383}. Ближайшие годы, как мы увидим, заполнены борьбой вокруг этого главного вопроса: будут достигаться немыслимые ранее соглашения и союзы – например, отказ польского короля от шведской короны и общий союз Польши с мятежным Запорожским Войском и крымскими татарами против Москвы. Новая война заберет немало сил, и в конце концов противники избрания царя Алексея Михайловича на польский трон добьются своего и победят. Но исторический разворот к объединению России, Украины и Белоруссии под властью одного правителя уже состоялся, а дети царя Алексея Михайловича заключат Вечный мир с Речью Посполитой.
Побывав за пределами Московского царства, увидев чужие города и их население, встречая на приемах и праздничных «столах» новых подданных из «Литвы», царь Алексей Михайлович должен был пересмотреть свои прежние мысли о начатой им войне за веру в 1654 году. Современный исследователь Сергей Владимирович Лобачев замечает: «Это было первое путешествие русского царя на Запад, которое по своему значению, пожалуй, можно сравнить с Великим посольством Петра I»{384}. В действительности, как это обычно и бывает, все оказалось несколько иным, чем воображалось молодому царю в Кремле еще несколько лет назад. Призрак Иерусалима так и остался призраком, а успехи в Литве не продвинули царя к Константинополю. Хотя именно вера помогала царю в его походах, и в знак расположения и для успеха в делах он отсылал воеводам христианские святыни, а особо чтимые иконы, кресты и реликвии из Вильно, Люблина и других покоренных городов собирались по царскому указу в Москве. Было ли это достаточной основой для продолжения походов и их прямого разворота с запада на восток? Очевидно, что в Москве понимали: продолжение войны за веру могло случиться не ранее завершения войны с Речью Посполитой. На это и были направлены все усилия, но путь к Андрусовскому мирному договору оказался длинным, а обсуждение его условий тянулось годами. Царь Алексей Михайлович был молод и еще мог рассчитывать дела своего царства на десятилетия вперед, но никто не мог предсказать, удастся ли и дальше успешно продвигаться на пути утверждения превосходства московского Православия во всем христианском мире. Такая цель неизбежно вела к грядущему столкновению с турецким султаном – а эта задача совсем непосильная для одного московского царя, без союза с австрийским императором и другими христианскими странами. В это время патриарх Никон начинает строить свой Новый Иерусалим на реке Истре под Москвой – как зримый символ и напоминание о предназначении российского Православия.
У любой войны всегда есть и внутренняя повестка дня. Когда Московское царство воевало, все было подчинено военным задачам. С мая 1654 года по январь 1657 года царь Алексей Михайлович пробыл в Москве всего несколько месяцев, также занятых по преимуществу частыми приемами послов или царскими паломничествами. В системе управления, где все замыкалось на царе и требовало его личного участия, это могло привести только к одному – остановке дел (вспомним еще несчастные обстоятельства «морового поветрия»). Да, в Москве оставались специально назначенные бояре, но они не были самостоятельны в своих действиях, лишь извещая царя о важнейших событиях, происходивших в столице, и пересылая ему приходившие грамоты, чаще всего опять-таки по иностранным делам. Царь поручал также на время своего отсутствия во всех делах писать челобитные на имя своего сына царевича Алексея Алексеевича. Это могло иметь хоть какой-то смысл, если бы царевич участвовал в делах, но этого никак нельзя было сказать о трехлетием мальчике. Значит, снова текущими делами должны были заниматься царские приближенные, а не сам царь. Чаще всего это приходилось делать патриарху Никону, называвшемуся в документах, по разрешению царя, «великим государем» (скоро это станет одним из обвинений). Но и патриарху не все удавалось, когда рядом не было царя. Напротив, резкие и самовластные действия патриарха отвращали от него людей; нарастало недовольство бояр, вынужденных униженно искать решения своих дел уже не в приказах, а в новых патриарших палатах, где их часами держали, выражаясь современным языком, «в приемной». Рядовым же челобитчикам вообще негде было находить управу, пусть служилым людям и дана была отсрочка во всех делах на время их участия в военных походах. Но ведь оставалось еще немало других жителей Московского царства – посадских людей, крестьян, городовых стрельцов и казаков. У них тоже были свои нужды, между ними случались ссоры, возникали дела о бое, грабеже или убийствах, и в этом случае начинались судебные тяжбы. Телега же московского правосудия «не ехала», у нее даже не было колес, которые в обычное время можно было «подмазать» для лучшего хода.
Возвращение царя Алексея Михайловича в Москву 14 января 1657 года и его личное участие в делах снова должны были «устроить» жизнь в стране. Достигнув главного для себя результата – избрания на польский трон, царь больше не стремился воевать. Напротив, вся его последующая политика была перенаправлена на закрепление достигнутого. В биографии царя, написанной И. Л. Андреевым, говорится, что Алексей Михайлович был убаюкан своими победами, что его «переиграл» более опытный дипломат король Ян Казимир. Это суждение может быть справедливо, если вести речь об общих итогах царствования. Московское государство так и не получило обещанной короны, что свидетельствует о переоценке царем собственных сил. Но совсем по-другому история с предложением польской короны выглядит с учетом влияния царя на политику на рубеже 1650—1660-х годов. Виленский договор 1656 года о династической унии стал дипломатическим документом, подтвержденным сеймом Речи Посполитой, от него уже невозможно было просто взять и отказаться. Само присутствие договора о выборе царя Алексея Михайловича в преемники короля Яна Казимира меняло дипломатическую повестку дня, заставляло действовать иначе, ведя дело к союзу двух государств. Заключение договора не оставило другой альтернативы, кроме движения к Вечному миру и созданию новой коалиции России, Речи Посполитой и Австрийской империи, направленной против османской Турции. И царь Алексей Михайлович еще примет участие в ее создании.
Но вернемся к истокам этого нового дипломатического порядка, ко времени окончательного возвращения царя Алексея Михайловича из своих военных походов. С января 1657 года почти ежедневно стали вестись «Дневальные записки» Приказа Тайных дел, охватившие всё дальнейшее время его царствования. В них, как в летописях, описывались будни царской жизни, участие царя в богослужениях и «столах» в Кремле, говорилось о его поездках на богомолье, записывались для памяти назначения и местнические челобитья. Алексей Михайлович наконец-то мог вернуться к своей любимой охоте; немало записей говорит о том, как он ездил «тешитца в поля». Становится известно почти всё о том, кто и когда из стрелецкой охраны царя стоял на карауле и даже какая в тот день была погода{385}. Читая «Дневальные записки» о досугах царя, трудно соотнести их с тем, что называется в историографии временем русско-польской войны. Да, военных действий впереди будет еще немало, но в отличие от предшествующих царских походов в Москве прочно поселится уверенность в своих силах.
Лучше всего самосознание власти объясняет создание в Москве нового Записного приказа осенью 1657 года с поручением «записывати степени и грани царственные» от царя Федора Ивановича до царя Алексея Михайловича. Можно было бы даже установить своеобразный «день историка» 3(13) ноября, когда царский указ о создании приказа был отдан дьяку Тимофею Кудрявцеву. Если бы только это первое поручение написать историю было успешно выполнено! Как и все самое важное в царстве, работа Записного приказа направлялась из Тайного приказа, а это значит, что царь Алексей Михайлович имел прямое отношение к обсуждению идей о том, какой должна быть эта история. Начало «степеней» с правления царя Федора Ивановича, умершего в 1598 году, отвечало традиции отсчитывать новое время именно с его царствования. Тем более что прежняя «Степенная книга», составленная при Иване Грозном, на его правлении и заканчивалась, освещая успехи начала Ливонской войны. Последней записью в ряде списков «Степенной книги» стало взятие Полоцка в 1563 году (тоже перекличка с новейшим временем, когда царя Алексея Михайловича самого встречали в Полоцке). В историю, написанную в Записном приказе, должны были войти описания царствований Бориса Годунова, Василия Шуйского (и даже Расстриги!), а также «33 лета» царствования Михаила Федоровича «и наше великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, все Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, по нынешней по 166-й год».
Вряд ли этот год выбран как простая дата или время создания самого Записного приказа. Вся история последних семидесяти лет должна была подвести к некому логическому результату, и им видится готовившееся решение об избрании царя Алексея Михайловича в короли Речи Посполитой. Однако дело было разрушено неудачным поручением написать историю «записному» бюрократу, каким был дьяк Тимофей Кудрявцев. Он много заботился об устройстве места работы приказа, его штате и жалованье, но мало преуспел в сборе источников для такой истории. Из работы Записного приказа в 1657–1658 годах ничего не вышло, но веха эта осталась, и, безусловно, надо оценить начавшееся движение к созданию новейшей истории Российского царства. Пусть тогда даже мало кто понимал способы и задачи такого историописания{386}.
Посмотрим и мы, что такое в русской истории «166-й год» (1 сентября 1657 – 31 августа 1658). Можно считать, что начался он даже несколько ранее 1 сентября, когда царь Алексей Михайлович вернулся в Москву из рижского похода, и возобновилась обычная жизнь царского двора. Два главных источника – дворцовые разряды и «Дневальные записки» Приказа Тайных дел – дополняют здесь друг друга, приводя достаточно полную придворную летопись. К сожалению, составители этих текстов, записывая сведения о происходивших событиях, уделяли главное внимание церемониалу, не приводя никаких оценок. В первые месяцы 1657 года из царских дел выделяются по-прежнему текущие события войны и дипломатии. Царь Алексей Михайлович награждал тех, кого еще не успел наградить, принимал новых подданных, среди которых, например, оказались потомки «эмигрировавших» в Смуту князей Трубецких и Мосальских{387}. Состоявшееся в середине XVII века воссоединение княжеских родов очень показательно, оно закрывало тяжелую страницу в истории русской аристократии.
Продолжалась, хотя и не слишком успешно, война со Швецией. 9 июня 1657 года в бою под Валком (на границе современных Латвии и Эстонии) был пленен и погиб от ран воевода стольник Матвей Васильевич Шереметев. До этого посланные им из Пскова отряды смогли предотвратить потерю Псково-Печерского монастыря, бои за который, намеренно или нет, начались в день ангела царя Алексея Михайловича – 17 марта. В любом случае речь шла о демонстрации силы со стороны шведского наместника в Ливонии графа Магнуса Делагарди, отказавшегося искать путь к миру{388}. Попытка развить ответное наступление русских войск в шведские земли окончилась поражением под Валком. Насколько царь Алексей Михайлович переживал текущие события войны, показывает его письмо двоюродному брату стольнику и ловчему Афанасию Ивановичу Матюшкину, близкому царскому приятелю. Матвей Шереметев был другом Матюшкина, поэтому, еще не зная достоверно, что случилось с молодым воеводой в шведском плену, Алексей Михайлович писал, чтобы утешить его: «Брат! Буди тебе ведомо: у Матвея Шереметева был бой с немецкими людми. И дворяне издрогали и побежали все, а Матвей остался в отводе и сорвал немецких людей. Да навстречю иные пришли роты, и Матвей напустил и на тех с неболшими людми, да лошадь повалилась, так его и взяли!.. А людей наших всяких чинов 51 человек убит да ранено 35 человек. И то благодарю Бога, что от трех тысяч столько побито, а то все целы, потому что побежали; и сами плачют, что так грех учинился!» При этом, по полученным сведениям, «немец», то есть шведов, было всего две тысячи человек. Как писал царь, «наших и болши было, да так грех пришел». Царь думал, что Шереметев остался жив, а потому поддерживал друга: «А о Матвее не тужи: будет здоров, вперед ему к чести! Радуйся, что люди целы, а Матвей будет по-прежнему»{389}.
Надежда на польскую корону и на исполнение обещания польских комиссаров в Вильно созвать специальный сейм по этому поводу пока не исчезала. Хотя особенной веры в искренность польско-литовской стороны не было. Еще одним камнем преткновения оставался вопрос статуса и границ Войска Запорожского, которое в Речи Посполитой пытались привлечь на свою сторону. Гетману Хмельницкому даже были посланы поддельные статьи Виленского договора, чтобы разорвать его союз с Москвой. Казаки и так были недовольны тем, что договор был заключен без их участия, а их еще намеренно стали убеждать в предательстве царя Алексея Михайловича. Однако придуманная королевскими представителями интрига не вполне достигла своей цели. Из Москвы в гетманскую ставку в Чигирин постоянно ездил стольник Василий Петрович Кикин – один из тех воевод, кто после Переяславской рады вместе с боярином Василием Васильевичем Бутурлиным приводил к присяге на подданство города Киевского воеводства (например, Чернобыль, где случилась громкая история с отказавшимся присягать протопопом). Кикин показал гетману Богдану Хмельницкому настоящие договоренности, заключенные в Вильно, советовался, где быть границе Короны и Войска Запорожского, по-прежнему обнадеживая милостивым царским словом. Казакам напоминали, что они сами убеждали московскую сторону в том, что «ляхи» только обманывают и не исполняют своих обещаний; теперь этот аргумент возвращался гетману. Но разлад с Богданом Хмельницким после договора в Вильно о выборе царя Алексея Михайловича в преемники короля Яна Казимира обозначился; в Войске Запорожском немедленно развернулись в сторону поддержки притязаний на польскую корону трансильванского князя Дьердя Ракоци, действовавшего в союзе с шведским королем Карлом X. Царский посланник вынужден был тайно собирать сведения о настроениях гетмана и старшины, их контактах с польским двором, крымским ханом и шведским королем{390}.
Смерть Богдана Хмельницкого в конце июля 1657 года остановила нараставшее обоюдное разочарование и положила конец целой эпохе. При всех бурных поворотах русско-польских отношений середины XVII века первый самостоятельный гетман Войска Запорожского, отвоевавший территорию будущей Украины у Речи Посполитой, не поднимал оружия против московского царя-единоверца. Хотя на словах он был готов сделать это не раз, всё списывалось на счет необузданного характера Хмеля. Иметь предводителя «черкас» в союзниках было выгоднее, чем во врагах – несмотря на его непостоянство, неисполнение обещаний и известное стремление выстроить особенные отношения с врагами Московского царства.
Новый год начинался в XVII веке, как известно, со дня Семена-летопроводца. Новолетие обычно отмечалось большим празднеством. Не стало исключением и 1 сентября 1657 года, когда начался 7166-й год по эре от Сотворения мира. Тем более что последний раз царь Алексей Михайлович праздновал новолетие в Москве еще четыре года назад, до начала своих военных походов. На этот раз торжество было дополнено пожалованием воеводы боярина Василия Петровича Шереметева – покорителя Полоцка. За его службу «в Литовских походех» он был награжден богатой шубой – «отласом золотным», а также кубком, 500 рублями денег и придачей к денежному окладу. Царь как будто извинялся перед отцом погибшего воеводы стольника Матвея Васильевича Шереметева. Во время осады Витебска Шереметев-старший прогневил царя Алексея Михайловича своей мягкостью по отношению к витебской шляхте, выпущенной им из города вопреки недвусмысленному указанию не щадить тех, кто сопротивлялся царским войскам. Царь все-таки послал тогда к воеводе с «милостивым словом и о здоровье спросить и с ратными людьми». Но хотя два витебских острога царские войска и взяли, показав «прилежною службу», организовать успешный штурм укреплений, где затворились оставшиеся защитники города, они смогли не сразу. Самого воеводу Василия Петровича ждал царский разнос за нарушение указа: «…позабыв нашу государскую милость к себе, нас, великого государя, прогневал, а себе вечное безчестье учинил, начал добром, а совершил бездельем». В общем, тогда, в апреле 1655 года, царь едва не казнил воеводу за ослушание и был готов отправить его в казанскую ссылку{391}. Но в итоге распорядился всего лишь «пошуметь гораздо»: достаточным наказанием была потеря должности одного из главных полковых воевод русской армии в государевом походе. Геройская смерть сына всё изменила, и от прежнего царского гнева не осталось и следа{392}.
17 сентября 1657 года в семье царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны родилась дочь Софья, знаменитая в будущем своим регентством в Московском царстве и нарушившая многолетнюю традицию молчания женской половины Теремного дворца. Не было ли ожидание ребенка одной из причин, заставивших Алексея Михайловича остаться в столице и не ходить больше в далекие военные походы? Подобные умозрительные предположения имеют право на существование, но чаще всего они лишь уводят в сторону и вредят историческим исследованиям. Можно вспомнить другие обстоятельства, которые не могли не приниматься в расчет: они связаны с распространением новой волны чумной эпидемии. Например, летом 1657 года смоленских гонцов не пропускали далее Дорогомиловской заставы в Москве из-за боязни «морового поветрия», а привезенные ими документы переписывались, чтобы не занести с ними случайно болезнь во дворец. В итоге царь Алексей Михайлович указал войску оставаться на своих местах на Украйне{393}. Мор в это время свирепствовал и в Вильно, по-прежнему находившемся под контролем царских воевод, и Риге, еще недавно осаждавшейся русской армией во главе с самим царем. Заставы, следившие за тем, чтобы не занести болезни в столицу, были поставлены в Новгороде. Москва оказалась наиболее безопасным местом по сравнению с разрушенными войной землями, где сложно было отыскать корм для войска в случае отправления его в новый поход, не говоря уже о постоянной угрозе эпидемии.
Грядущее пополнение в царской семье, наверное, ожидалось с особенным чувством. Царю нужен был еще один наследник по мужской линии, чтобы иметь возможность передать ему права на королевский престол Речи Посполитой{394}. Но родилась дочь, названная в память святой Софии. Спустя несколько дней состоялся традиционный осенний троицкий поход, в который царь выступил 22 сентября. Из-за войны Алексей Михайлович в течение нескольких лет пропускал его; на этот раз он отправился в Троицу в сопровождении своих ратных воевод – бояр князя Алексея Никитича Трубецкого, князя Юрия Алексеевича Долгорукого и окольничего князя Семена Романовича Пожарского. Именно они были приглашены к праздничному царскому «столу» в Троице-Сергиевом монастыре «на празник Сергия чюдотворца» 25 сентября. Возвратившись из Троицы на праздник Покрова 1 октября, Алексей Михайлович снова устроил праздничный «стол» в Золотой палате Кремля, куда пригласили патриарха Никона, грузинского, касимовского и сибирских царевичей, всех бояр и окольничих; они были «без мест», чтобы не омрачать торжество возможными спорами. 4 октября после крещения царевны в Успенском соборе царь снова принимал патриарха Никона. Внешне в отношениях царя и патриарха все выглядело замечательно, и казалось, ничто не предвещало разрыва. Но среди бояр, приглашенных к крестильному «столу», были создатель ненавистного патриарху Никону Соборного уложения и один из самых последовательных в будущем его противников боярин князь Никита Иванович Одоевский, а также Родион Матвеевич Стрешнев. На торжестве по поводу крестин своей внучки присутствовал и боярин Илья Данилович Милославский.
Патриарх не желал налаживать отношения с боярами из окружения царя Алексея Михайловича, одинаково держал всех в страхе и послушании, надеясь на царскую защиту. При этом он умел показать своим противникам, что пользуется неограниченным доверием царя. 16 октября 1657 года царь Алексей Михайлович отправился из Москвы «в Воскресенской монастырь, на Истру реку», – на освящение знаменитого «Нового Иерусалима». Хотя потом, на соборе 1666/67 года, патриарха Никона и обвиняли в самовольном присвоении этого наименования строящейся им обители, царь Алексей Михайлович согласился с его выбором, отвечавшим всей логике крестового похода за православную веру, начатого в 1654 году. 18 октября царь присутствовал на освящении Воскресенской церкви{395}, а спустя некоторое время был издан уже упомянутый указ о создании Записного приказа. Можно ли назвать такое совпадение случайным?
Хотя в 166-м (1557/58) году вопросы войны отошли на второй план, военные действия у шведской границы по-прежнему требовали внимания царя. Швеция тем временем тоже втянулась в невыгодную войну на два фронта. Сказались успехи русской дипломатии и посольства князя Данилы Ефимовича Мышецкого в Данию, с которой шведский король Карл X вынужден был вступить в войну после завоевания Варшавы и Кракова. Страны Европы следили за тем, что происходит вблизи Балтики, соблазн использовать слабости Речи Посполитой был велик, но еще опаснее становились чрезмерное усиление Швеции и появление на море нового конкурента – Московского царства.
Главным военачальником на русском фронте у шведов остался прежний руководитель рижской обороны генерал-губернатор Ливонии граф Магнус Делагарди. Сначала он сделал попытку отвоевать Юрьев, но был отбит. А потом, собрав отряды из Риги, Колывани (Таллина) и Ругодива (Нарвы), перешел «королевский рубеж» в Сыренске (Васкнарве) по наведенным мостам на реке Нарве, угрожая захватить Гдов, расположенный на берегу Чудского озера. Еще летом 1657 года, после гибели воеводы Матвея Шереметева, в Друю был отправлен с войском стольник князь Иван Андреевич Хованский, носивший прозвище Тараруй (тот самый, с кем впоследствии будет связана знаменитая «Хованщина»). Он успел принять меры к укреплению Гдова (скрыть такой большой поход шведов было невозможно) и разбил противника. В челобитной ратных людей Псковского полка, участвовавших в сражении под Гдовом, об этой победе было сказано даже поэтично: «Господь Бог немецким людем убегнути не дал – ту нощь осветил месяцем, подобно дню мрачному». Участники битвы ярко описывали ее последствия: «…побили немец отто Гдова города на пятнадцати верстах. По смете трупу немецких людей, подобно неве якой, навоз на поле мечющей в грудки».