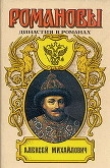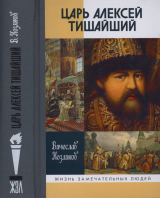
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 46 страниц)
Желающих «поломать ханские стрелы мушкетами своими» оставалось немало и в Запорожской Сечи. Они звали Дорошенко на общую раду, обещая ему поддержку, но исход таких прямых выборов был мало предсказуем. Наказной гетман Многогрешный – представитель гетмана Дорошенко на Левобережье – тоже должен был выбирать, кому служить. При поддержке крымской орды он встал на Липовой долине недалеко от Путивля. Расклад сил на Левобережье поменялся; теперь северная его часть контролировалась армией князя Ромодановского, а южная подчинялась гетману Суховеенко, стремившемуся вытеснить ставленников Дорошенко, в первую очередь наказного северского гетмана Демьяна Многогрешного. Никакой единой и свободной Украины опять не получилось.
Ответ от царя Алексея Михайловича на обращение Многогрешного и Рославченко был передан архиепископом Лазарем Барановичем быстро. Царь подтвердил предварительное соглашение Ромодановского и Многогрешного, основанное «на водностях» статей Богдана Хмельницкого, и «вины» казаков «в забвение пустил». Уже 9 октября 1668 года в ответном письме гетман Многогрешный писал о царе Алексее Михайловиче как о «великом государе нашем, его царском пресветлом величестве», обещая, что теперь «не токмо сия сторона Днепра, но и другая сторона к тем выше помянутым статьям приступит жити в подданстве у царского пресветлого величества»{657}.
10 октября 1668 года из полков боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского в Москву к царю Алексею Михайловичу отправились сеунщики во главе с сыном князя Андреем Григорьевичем Ромодановским, а вместе с ними послы наказного северского гетмана Демьяна Многогрешного – его брат Василий и бывший нежинский полковник Матвей Гвинтовка (смененный Брюховецким и посаженный им в тюрьму в Гадяче) – под охраной двух рейтарских полков. Однако в пути на них напал большой татарский отряд. Князь Андрей Ромодановский был схвачен и уведен в Крым (там он, как и боярин Василий Борисович Шереметев, стал еще одним заметным родовитым пленником). Послы гетмана Демьяна Многогрешного едва спаслись, загнанные татарским отрядом в болото; вместе с оставшимися рейтарами они снова собрались под знамена и с боями прорвались обратно к обозам князя Григория Григорьевича Ромодановского.
Рассказывая об этом в Москве, один из участников посольства, нежинский протопоп Симеон, приводил красочные детали их чудесного спасения, когда под натиском татар пришлось спешиться и спасаться в болоте. Протопоп Симеон убеждал рейтар стоять «за веру православную и за благочестивого царя». Вместе с полковыми знаменами рейтарами был сохранен и полковой «образ Спасителя». Как говорил протопоп Симеон, явно рассчитывая, что его речи дойдут до царя Алексея Михайловича, к образу «все с верою прикладывались, и праведными молитвами благочестивого царя вооружився, стали на болоте и бой учинили». Ночью послы в сопровождении нескольких сотен рейтар решили прорываться из окружения «оборонною рукою»: «а татары с обоих сторон идучи кричат: галла! галла! А наши себе кричать: церковь! церковь!» Выбравшись из промерзшего за ночь болота, рейтары вырубили «жерди вместо пик» и, сохраняя строй, на рассвете прошли «отводом» к обозам боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского{658}.
Армии Ромодановского, двинувшейся к Путивлю, пришлось продолжить бои с крымской ордой «калги-салтана» и «изменниками-черкасами» во главе с Григорием Дорошенко. 26 октября в Москву пришло донесение воеводы боярина князя Григория Семеновича Куракина об успехах его «товарища» князя Григория Григорьевича Ромодановского, посланного воевать «для промыслу над изменники черкасы». Боярин сообщал о победах под Нежином и, особенно, Черниговом, где «два города больших взяли жестоким приступом и выжгли и высекли», о боях под другим городом Седневом, где, кстати, располагалась ставка наказного северского гетмана Демьяна Многогрешного: «Изменников черкас и волох и татар побили многих… и сами к Путивлю отошли в деле же»{659}. Военные действия в Малой России завершились. Оставалось договариваться об условиях примирения с изменившими казаками Левобережья. Точнее, с теми, кто готов был пойти за черниговским архиепископом Лазарем Барановичем и гетманом Демьяном Многогрешным.
Находясь зимой 1668/69 года в Москве, послы наказного северского гетмана договорились о созыве новой рады, прошедшей в Глухове. Налаживать дела туда были отправлены по царскому указу 12 февраля сам воевода и белгородский наместник боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский, полковник и «серпуховский наместник» Артамон Сергеевич Матвеев, получивший к этому времени чин стольника, и дьяк Григорий Богданов. Для царского друга Матвеева эта служба стала прологом к передаче ему от вернувшегося в Москву после своего курляндского провала боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина сначала руководства Малороссийским, а потом и Посольским приказом.
Обстоятельства проведения Глуховской рады 3–6 марта 1669 года всесторонне исследованы поколениями исследователей, статьи утвержденного там договора опубликованы впервые еще в «Собрании государственных грамот и договоров» и «Полном собрании законов Российской империи». Как и желали казаки, вольности Богдана Хмельницкого были подтверждены, их вины им отданы, вопрос о царских воеводах тоже решился. Правда, не совсем так, как требовали казаки, желавшие вывести всех царских воевод из малороссийских городов. Московские воеводы были оставлены в Киеве, Переяславле, Нежине, Чернигове и Остре, но местное население им больше не подчинялось; их суд распространялся только на ратных людей московского царя. Число реестровых казаков устанавливалось в 30 тысяч человек, был выбран новый гетман «сее стороны Днепра» Демьян Многогрешный и определено его новое местопребывание в Батурине. Казаки Левобережья должны были убеждать казаков Правобережья, в последней, 27-й статье постановлений Глуховской рады говорилось: «Писать на ту сторону Днепра, Коруны Польской и Великаго Княжества Литовскаго, к гетману Войска Запорожскаго к Петру Дорошенку, и ко всей старшине, и к козакам». Согласно этой статье, казаков Правобережья следовало убеждать «оставить всякие сорные и непотребные слова», «познав истинную милость и благодеяния» царя Алексея Михайловича, «добить челом на вечное подданство неподвижно». На Глуховской раде постановили, «чтобы межды себя ся сторона, с тою стороною Днепра войны не имети и пребывати в любви и совете». Отдельные статьи договора касались мещан Нежина и Киева.
Покрытую «малиновым атласом» книгу на 56 листах с собственноручным подтверждением по листам архиепископа Лазаря Барановича, игумена Максаковского монастыря Иеремии Шириневича, гетмана Демьяна Игнатовича Многогрешного, старшины и чиновников Войска Запорожского боярин князь Григорий Григорьевич Ромодановский подал царю Алексею Михайловичу 21 марта 1669 года. «И третья смута малороссийская, и третья измена гетманская, – завершал рассказ о Глуховской раде С. М. Соловьев, – не отняли Восточной Малороссии у Москвы». И все же итог был компромиссным: Украине возвращалась широкая автономия, а Москва получала контроль над землями на Левобережье, необходимый для продолжения борьбы за оставление Киева в составе Московского царства{660}.
Семейный крахЗимой 1669 года, с разницей всего в три дня, голос большого Успенского колокола прозвучал над Москвой дважды. Первый раз в колокол стали бить 28 февраля – один раз: умерла новорожденная царевна Евдокия, и ее сразу же похоронили. Во второй раз трижды ударили в большой колокол в Кремле 3 марта: в «последнем часе того дня» умерла царица Мария Ильинична. 4 марта, «на память преподобнаго отца нашего Герасима иже на Иордани», состоялись похороны{661}.
Жизнь во дворце на время остановилась, все погрузилось в траур после смерти царицы от неудачных родов. То, что раньше казалось важным, перестало быть таковым, какие-либо усилия потеряли смысл, построенный для семьи дворец в Коломенском тоже стал не нужен. Устроение «благочиния» любимого сокольничего пути, чему в 1668 году царь Алексей Михайлович посвятил столько сил и внимания, выезды на охоты, любые забавы могли только ранить воспоминаниями. Царь Алексей Михайлович весь сорокадневный траур (часть его пришлась на Великий пост, а другая – на первые недели после Пасхи) раздавал большую милостыню всем, кто участвовал в погребении царицы, посылал деньги для поминовения по монастырям и церквям, кормил нищих и даже выпустил тюремных сидельцев из Тюремного и Земского дворов, приказав заплатить их долги из денег Приказа Тайных дел. С 20 апреля Алексей Михайлович указал «править другую четыредесятницу», и поминовение царицы Марии Ильиничны продолжилось, были наняты священники для пения панихид «в год по вся дни»{662}.
В 177-м (1668/69) году снова замолчал составитель «Дневальных записок» Приказа Тайных дел. Последние записи датированы 22 августа 1668 года и сообщают о больших пожарах в Москве. Сначала «в шестом часу ночи за Москвою рекою был пожар велик, выгорела Якиманская улица по Болота, а горело до света». А потом уже «в 5-м часу в ысходе дни загорелось в Китае у Москворецких ворот… и от того выгорел Китай и ряды все и в Белом городе от Варварских ворот Кулишки, и Покровка и Мясницкая от Китая до Белого города, и на городе на башнях и на стене кровли погорели, а горело до ночи». Видя кругом следы недавнего пожара, Алексей Михайлович еще тяжелее должен был переживать утрату. Любое бедствие воспринималось людьми той эпохи как «наказание за грехи», а ответственность за все, что делалось в царстве, лежала на царе. Следующие записи в «Дневальных записках» начнутся только несколько лет спустя – 1 сентября 1672 года, а остальные известия буквально представлены в книге белыми листами!
Первая и единственная запись дворцовых разрядов несчастливого для царя 1669 года датирована 19 июня. Но и она сделана в связи с другой трагедией во дворце – смертью четырехлетнего царевича Симеона Алексеевича и новым сорокадневным трауром, в который опять погрузился весь царский двор. Царевич умер «в пятом часу нощи», его тело погребли в день смерти в Архангельском соборе. Гроб, покрытый «объярью золотой» из «царских хором», несли комнатные стольники, «переменяясь»; сам царь шел за гробом «в печалном в смирном платье», рядом были грузинский и сибирский царевичи, «думные и ближние люди», члены Государева двора, дьяки и жильцы «в однорядках и в охабнях в черных со свещами». Гроб царевича встретили в Архангельском соборе вселенский патриарх Паисий и московский Иоасаф, на погребении присутствовали члены Освященного собора. Как сказано в разрядной записи, это были те же митрополиты, и архиепископы, и епископы, «и иные власти и священницы», что были «на выносе и на отпевании» царицы Марии Ильиничны 4 марта. Они даже не успели разъехаться из Москвы…
Многое в это трудное время зависело от царского окружения, именно ближние бояре должны были сделать так, чтобы жизнь в Московском царстве не останавливалась и дела шли своим чередом. О их роли можно судить по тому, как в дворцовых разрядах расписано их участие в траурных церемониях, продолжавшихся 40 дней. С 19 июня все члены Думы в сопровождении стольников «дневали и ночевали» у гроба царевича в Архангельском соборе. Записи о назначениях в «печальную комиссию» в первые дни траура отсутствуют (несколько листов разрядной книги по каким-то причинам утрачено). Они начинаются лишь с 23 июня, когда были назначены боярин Петр Васильевич Шереметев и окольничий Андрей Васильевич Бутурлин. Но чуть ниже говорится, что с 19 июня, в первые дни после смерти царевича Симеона, когда в Архангельском соборе должен был молиться царь Алексей Михайлович, «у гроба» царевича был боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий; повторно он был назначен туда 3 и 17 июля. Причем указ о назначении его в собор на смену 3 июля был передан от самого боярина князя Юрия Алексеевича Долгорукого, что позволяет думать о нем как о распорядителе всей траурной церемонии.
Среди боярских назначений отсутствовало имя Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. И это вряд ли было случайно. Еще весной, после смерти царицы Марии Ильиничны, он заговорил с царем Алексеем Михайловичем об оставлении всех чинов и уходе в монастырь.
Последний раз царь Алексей Михайлович был на панихиде по царевиче Симеоне 27 июля. Он приехал для этого в Москву из Преображенского. На следующий день, «на празник Пресвятые Богородицы Смоленские», царь, по своему обыкновению, был в Новодевичьем монастыре. Из Успенского собора в Кремле принесли крестным ходом иконы, царь сначала встречал их «поблизку монастыря на поле», а потом там же провожал, после чего «изволил иттить в село Преображенское». Бояре и все, кто с ними «дневал» у гроба покойного царевича, были «сведены», как говорилось в разрядной книге, «потому что по преставлении благовернаго государя царевича в том числе четыредесятница совершилась»{663}.
Сохранилось совсем немного документов этого времени, из которых можно видеть, что царь, как и прежде, занимается делами. Из-за отсутствия разрядных книг и «Дневальных записок» единственным источником, содержащим подробную дворцовую летопись, остаются «Книги выходов», где фиксировались все «выходы» и выезды царей из своих хором. Записи велись, чтобы фиксировать выдачу царского наряда и инсигний власти – царских «шапок», диадемы, посохов и т. д. Самым скрупулезным образом фиксировались все элементы царской одежды – шубы, опашни, зипуны, подробно описывалось качество «вини-циейского» или «кизылбашского» бархата, шелка, камки и других драгоценных тканей, их цвета. Указывались и цели царских выходов, по преимуществу на богомолья и в связи с выездом в Преображенское, Коломенское, Воробьево и в более дальние походы в Троице-Сергиев, Саввино-Сторожевский или другие монастыри. Попутно встречаются и детали, имевшие отношение к дворцовой жизни и повседневным занятиям царя. «Книги выходов» являются вполне определенным свидетельством глубокого траура, наступившего при дворе: если царь где-то и появлялся, то только в траурном и «смирном» платье. Празднества были отменены, а именины всех царевен – сестер царя Алексея Михайловича и его дочерей – проходили без традиционной раздачи именинных пирогов. Не было и никаких выходов к приему послов или царских столов.
После смерти царевича Симеона Алексей Михайлович еще более усиленно стал поминать царицу Марию Ильиничну. Свидетельства этому остались в приходо-расходных документах Тайного приказа, где записывались многочисленные милостыни, розданные царем, и упомянуты панихиды по царице Марии Ильиничне. 18 июня 1669 года в Коломенском деньги «для поминовения» царицы Марии Ильиничны получили стрельцы под командованием головы Афанасия Левшина, вернувшиеся со службы в Киеве. 21 июня, «за четверть часа до дни», царь пошел в Вознесенский монастырь и «слушал панихиды» по царице. 22 июня он был в Успенском соборе и пожаловал причту 100 рублей. 23 июня «в оддачю часов ношных» царь Алексей Михайлович совершил «выход» в московские монастыри – Знаменский, Златоустовский, Ивановский, Петровский и «в Петровскую богадельню». Всюду он «жаловал из своих государевых рук» деньги монастырским властям и рядовым старцам, священникам и причту. «Да в тех же монастырех и в дороге, – сказано в расходном столбце Приказа Тайных дел, – жаловал великий государь нищих безщотно». Всего было потрачено 429 рублей, из которых царь наградил каждого из шестидесяти нищих в Петровской богадельне. Повезло и оказавшейся у Петровского монастыря вдове Варваре – жене князя Ивана Ивановича Путятина, получившей сразу 30 рублей «на прокорм». 29 июня «в 1 часу ночи» 12 нищих кормили «в деревянных хоромех», раздав каждому по полтине. 1 июля, «за два часа до вечера», царь «изволил кормить» в «передней» 34 священника московских церквей, служивших годовые поминальные службы по царице Марии Ильиничне, каждый из них получил от царя по три рубля и добрую ткань на платье: «им же дан по киндяку ис Персицких».
Царь Алексей Михайлович указал и сыну царевичу Алексею Алексеевичу раздать милостыню нищим: «кормить для поминовения» матери «в Золотой государыни царицы». Он также выдал из своих рук по полтине 72 нищим. 10 июля царь снова раздавал милостыню «для поминовения» царицы Марии Ильиничны протопопам и священникам кремлевских церквей. 13 июля царевич Алексей Алексеевич кормил нищих. 18 июля в память о царице деньги были розданы стрелецким вдовам и сиротам, потерявшим своих мужей и отцов на службе в Киеве. 22 июля были отосланы деньги «на сорокоусты» священникам сел Павловское и Дмитровское. 7 августа были выданы деньги «патриархова чину поддьяконом и певчим дьяком и поддьяком», всем, кто участвовал в погребении царицы Марии Ильиничны и царевича Симеона Алексеевича и поминальных службах по ним. Продолжились и обычные для царя раздачи денег в богадельнях и тюрьмах, 28 августа 1669 года, «в ночи», по царскому указу были розданы деньги 1130 человекам. Царь и сам 31 августа – «в вечеру» последнего дня трагичного 177-го года – отдал из своих рук милостыню безногому нищему, встреченному им по дороге в Вознесенский монастырь. Тот сидел «у двора боярина Бориса Ивановича Морозова», некогда сосватавшего царю Марию Ильиничну…{664} Царь по-прежнему тяжело переживал потерю жены, и ее «поминовения» и «устройство души» продолжались еще долгое время.
Между тем порядок ведения дел требовал постоянного участия царя Алексея Михайловича в заседаниях Думы, приеме докладов из приказов, обсуждении разных вопросов. Но следов такого участия царя в повседневном управлении почти не видно, и это не случайно, учитывая переживаемые им трагические обстоятельства. Например, в апреле 1669 года состоялся отдельный приговор окольничих и дьяков, самостоятельно решивших несложный вопрос о «закладах», взимаемых тюремными сидельцами. Даже челобитные нельзя было, как раньше, подать во время царских выездов из дворца. В июне 1669 года стряпчий Иверского монастыря доносил монастырским властям из Москвы: «Государю свету нашему отнюдь бить челом нельзя, и на выходе нихто не смеет подавать челобитен, потому что время кручинное».
В действиях царя Алексея Михайловича в тот момент можно видеть сосредоточенность на молитве, и любое оскорбление такого настроя строго каралось. 7 июня стольник князь Григорий Венедиктович Оболенский был послан в тюрьму по именному указу царя «за то, что у него июня в 6 числе, в воскресенье недели Всех святых, на дворе его люди и крестьяне работали черную работу, да он же князь Григорий говорил скверныя слова». Алексей Михайлович лично вмешался вдела с умножившимся ростовщичеством, куда были вовлечены подьячие московских приказов, использовавшие для этого казенные деньги. Были введены ежемесячные отчеты за расходование денег, усилен надзор над ними дьяков, запрет на прием таких закладных в уплату налогов.
Одобрение царя удавалось получить только для самых очередных дел и там, где не требовалось никаких подробных обсуждений. В этом случае царь утверждал решение, подготовленное его ближайшим окружением. 8 мая 1669 года, одними из последних, были пожалованы дворяне и дети боярские, ведомые в Приказе Казанского дворца, участвовавшие «во всех Литовских походех», а также бывшие на службе с воеводой боярином князем Федором Никитичем в Саратове и участвовавшие в 1664–1665 годах в подавлении башкирского восстания в полках боярина и воеводы князя Федора Федоровича Волконского. Они получили такое же право на перевод поместий в вотчину, как и служилые люди из центральных уездов, правда, некоторым дворянам, если они воевали «близко домов своих», или «в тех городех по приказом были», никаких придач не полагалось.
Ряд распоряжений касался «черкасского вопроса». Здесь тоже заметно стремление подвести определенную черту под событиями последних лет. Харьковского полковника Белгородского полка Григория Донца «и его полку старшину и все поспольство» пожаловали 3 мая 1669 года за их службы и «за разорение, что им учинилось от изменников черкас и от крымских и от нагайских татар, после измены Ивашка Брюховецкого и за осадное сидение». Способ вознаграждения оказался весьма своеобразным: вместо полагавшегося годового жалованья им отдали недополученные оброки с винных и пивных промыслов, а также «шинков». С 1665 года, когда сам прежний гетман договорился о таком обложении, недоимок набралось более двух тысяч рублей; правда, в остальных городах не было и такого «белгородского оклада» и жители держали промыслы «безоброчно». Иными словами, слободским казакам отдавали то, что не могли взять, не думая, как в будущем они воспользуются своей привилегией (скоро пошли жалобы на спаивание ими людей из других уездов Московского государства, где иначе взимали кабацкую пошлину).
22 мая 1669 года состоялось назначение главным военачальником в Севске победителя «черкас» боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского. Князь должен был «ведать» и «разбирать» ратных людей «Севского и Белгородского полку», распределив каждого «в полковую службу и в копейной, и в рейтарской, и в драгунской, и в солдатской строй»; главное, что интересовало Разрядный приказ, чтобы все служили и «в избылых никто не был». Правда, из-за смерти царевича Симеона отпуск боярина на службу затянулся, «у руки» царя Алексея Михайловича ему было велено быть только 22 июля 1669 года, после чего он вскоре выступил на службу. Дворяне украинных городов, служившие в Белгородском и Севском разрядах, должны были съезжаться к нему для «разбора» (проверки окладов, вооружения, служебной годности), «где им по наряду быти велено, без мотчанья», и дожидаться царского указа.
Воспользовавшись редким во время траура по царевичу Симеону царским присутствием, 22 июля вручили давно заслуженные награды боярам князю Григорию Семеновичу Куракину и тому же князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому за их службы в походах «176 и нынешнего 177 года», то есть в 1668/69 году. Бояре получили придачи денежного жалованья, «бархат золотной» на шубы и соболей. Среди награжденных был и «товарищ» воеводы князя Ромодановского стольник и полковник Артамон Матвеев, ездивший на Глуховскую раду. За свою службу Матвеев получил 50 рублей денежной придачи (10 рублей из этой суммы составляла компенсация за пожалованную поместную «придачу», превышавшую установленный для членов Государева двора максимум в 1000 четвертей). Рядовые участники боев в малороссийских городах тоже были пожалованы придачами к окладам{665}.
Впервые после смерти царицы Марии Ильиничны царь вышел из дворца в светлых одеждах 15 августа 1669 года, накануне праздника Успения. Царевич Алексей Алексеевич в этот день был в Преображенском. Примерно тогда же царь Алексей Михайлович читал и правил «Сказание об Успении Богородицы»{666}. Иногда по этой причине его даже называют автором новой редакции этого сочинения, но работа над «Сказанием…» не выходила за рамки составления нового текста из уже готовых фрагментов. Скорее, стоит обратить внимание на то, что сюжет произведения был связан с личной потерей царя – смертью царицы Марии Ильиничны.
Наступавший с 1 сентября 178-й год принес мало изменений в застывшую дворцовую жизнь, подчинявшуюся медленному ритму продолжающегося траура. 1 сентября царь был «у действа многолетнего здоровья», но рядом опять не было царевича Алексея Алексеевича. Белый цвет в одеждах царя упомянут и на праздник Рождества Богородицы 8 сентября, но и в этот большой праздник царевич Алексей был не с отцом, а опять в Преображенском, где «ходил на освящение новыя деревянныя церкви и слушал обедни»{667}. Как оказалось, это было последнее упоминание о царевиче в «Книге выходов» при его жизни. После этого царевич заболел, и болезнь его продолжалась несколько месяцев. Косвенным образом о приближении новой беды может свидетельствовать отсутствие в этом году традиционного царского троицкого похода.
Именно в это тяжелое время царь Алексей Михайлович дал разрешение начать подбор невесты для нового царского брака. Брак царя влиял на судьбу всего царства, а дела в царской семье шли всё хуже и хуже. Историк Павел Владимирович Седов обратил внимание на то, что время начала смотрин совпало с первыми известиями о начале болезни царевича Алексея Алексеевича, а потому «выбор царем новой супруги становился делом государственной необходимости»{668}.
Первые распоряжения о подготовке к новой свадьбе датированы 28 ноября 1669 года: «178 года, ноября в 28 день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца указу, девицы, которые были в приезде в выборе и в котором месяце и числе, и им роспись»{669}. Царский указ об организации традиционного смотра невест лишь фиксировал начало самого процесса, растянувшегося во времени до 17 апреля 1670 года. А сама свадьба с Натальей Кирилловной Нарышкиной была сыграна 22 января 1671 года и состоялась в присутствии самых близких придворных. И это не случайно! О приготовлениях к свадьбе знали немногие, а само поручение было возложено на ближайших придворных – боярина и дворецкого Богдана Матвеевича Хитрово и Артамона Матвеева.
Почти в то же самое время, когда начались «приезды» невест, 29 ноября 1669 года, последовал указ о новой организации заседаний Боярской думы, регламентировавший по дням доклады думных дьяков из главных приказов. Рассматривать ли это как стремление к административному порядку, идущему от царя, или за этим кроется еще и стремление ближних бояр позаботиться, чтобы даже в отсутствие царя текущие дела не останавливались? «К бояром в Золотую палату» предлагалось «дела взносить к слушанью и к вершенью из приказов» в следующие дни: в понедельник – Разрядный и Посольский приказы, во вторник – приказы финансового ведомства – Большой казны и Большого прихода, в среду – Казанский дворец и Поместный, в четверг – Приказ Большого дворца и Сибирский приказ, в пятницу – «судный день»: рассматривались дела из Московского и Владимирского судных приказов. Именным указом 3 декабря определялось время заседания Думы в Золотой палате «по вечерам», с первого часа ночи, то есть с началом темноты. 15 декабря такой же указ о заседаниях с первого до восьмого часа ночи «во все дни» получили судьи и дьяки в приказах. Судя по тому, что уже в следующем году, 14 марта 1670 года, царь Алексей Михайлович вовсе распорядится убрать приказы из Кремля в Китай-город (помещения приказов все сразу как-то «обветшали» и стали представлять угрозу для сидевших там дьяков и подьячих){670}, причина, возможно, в другом: для Алексея Михайловича, занятого болезнью сына, сама суета в приказах на кремлевских площадях должна была быть невыносимой.
Приближенные царя, напротив, использовали подготовку царской свадьбы для того, чтобы повлиять на царский выбор и обеспечить себе в будущем преимущество при дворе. Сохранившийся в архиве Тайного приказа список невест подтверждает ведущую роль Артамона Матвеева, давно выступавшего распорядителем в самых разнообразных делах и царских поручениях. Например, трудно чем-то другим, кроме родственных отношений Матвеева с его отчимом думным дьяком Алмазом Ивановым, объяснить появление в «Росписи невест» уже 30 ноября имен обеих внучек «печатника Алмаза Ивановича» – Анны и Анастасии (дочерей сводного брата Артамона Матвеева, то есть его племянниц). Первые привезенные к смотру невесты, дочери служилых людей Капитолина Викентьева, Анна Кобылина, Марфа Апрелева, жили в домах голов московских стрельцов – Ивана Жидовинова, Ивана Мещеринова и Юрия Лутохина. Но среди ближайших приближенных и заинтересованных лиц, с самого начала знавших о планах женитьбы царя Алексея Михайловича, были и другие люди. В первый же день была записана к смотру Евдокия, дочь Льва Ляпунова: учитывая родство Волынских и Ляпуновых, здесь можно видеть особенный интерес давнего царского приближенного окольничего Василия Семеновича Волынского. Клан князей Долгоруких имел свою претендентку – Анну, дочь князя Григория Долгорукого. Мало известно имя Авдотьи Беляевой, в самый последний момент появившейся на смотре невест «в Верху»: на нее царь тоже обращал свое внимание, как и на Нарышкину. Отец Авдотьи служил в Вологде, а дела в Москве вел ее родной дядя Иван Шихарев, обращавшийся к посредничеству чудовского архимандрита и принятый в домах членов Думы. Позднее Иван Шихарев (Жихарев), несмотря на несчастливые обстоятельства появления его племянницы при дворе (об этом речь впереди), даже поступил на службу во двор князя Якова Никитича Одоевского.
Впрочем, ориентироваться только на фамилии претенденток, изучая «предвыборную борьбу» почти семидесяти невест и их родственников, – дело неблагодарное, какой-либо «системы» отбора не заметно. Придворные пытались собрать самых лучших из тех, кто мог понравиться царю Алексею Михайловичу, обращая внимание даже на самых неродовитых претенденток, не имевших заметных покровителей при дворе. Только этим можно объяснить появление в списке Федоры – дочери истопничего (младшего дворцового служителя) Ивана Протопопова. Даже осведомленные современники до последнего терялись в догадках относительно «фавориток» царского выбора: например, голландский посланник Николас Гейнс писал на родину 11 января 1670 года: «Так как продолжительная болезнь старшего сына царского, царевича Алексея Алексеевича, со дня на день увеличивается, может быть, в непродолжительном времени она будет иметь прискорбное окончание. Его царское величество сильно горюет, и намерение его вступить в брак, вероятно, по сей причине все откладывается. До сих пор наверное нельзя узнать, на кого особенно может пасть выбор царя»{671}.
В это время все дела с выбором царской невесты были остановлены. В понедельник 17 января 1670 года случилось непоправимое – старший сын и наследник царя Алексея Михайловича умер «в шестом часу того дни». Хотя за время долгой болезни царевича отец мог приготовиться к мысли о его уходе, примириться с потерей и полным крахом неосуществившихся надежд на обновление царства было трудно, если вообще возможно. Траурный ритуал при дворе был уже привычен, его подробности сохранились в «Церемониале» погребения, повторяющем то, что известно из описания похорон царевича Симеона Алексеевича. Царь Алексей Михайлович снова был одет в «смирное» платье, а внешнее отличие было одно: тело и гроб царевича Алексея Алексеевича были покрыты «объярью серебряной», а не «золотой», как у царевича Симеона. Царь отдал для погребения умершего сына и наследника «свое» место с левой стороны от могилы отца – царя Михаила Федоровича. Около гроба царевича также дневали и ночевали бояре и окольничие до окончания «четыредесятницы» 26 февраля, после чего царь, отслужив панихиду по царевичу, приказал их «свести»{672}. Воспитатель царевича и еще один верный слуга окольничий Федор Михайлович Ртищев попросил разрешения царя уйти в монастырь, видимо, виня себя в том, что «не уберег» царевича{673}.