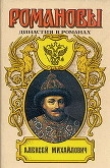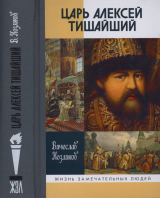
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 46 страниц)
ОРЕЛ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
В истории христианских стран и народов есть даты, являющиеся бесспорными вехами культуры и самосознания. Начало книгопечатания в России относится, как известно, еще к середине XVI века, и прошло почти сто лет, прежде чем в 1663 году вышло в свет московское издание Библии. До этого момента, кроме рукописей, с Библией на славянских языках можно было познакомиться только по двум пражским изданиям (впрочем, труд Франциска Скорины 1517–1519 годов не вполне соответствовал каноническим требованиям к изданиям церковных текстов) и Острожской библии Ивана Федорова 1581 года. На «перевод с Библии Острожской типографии» как на источник своего издания ссылались московские книжники и на первом листе книги, изданной по «повелению» царя Алексея Михайловича. В предисловии к московской Библии 1663 года говорилось о том, что царь увидел «велий недостаток сих божественных книг в державе царствия своего, ниже бо рукописныя отнюдь обретахуся, в мале же и едва где уже печатным острозским обрестися, им же от многа времени оскудети». Приводился новый титул царя Алексея Михайловича – «Великия, и Малыя, и Белыя России». Дата указывалась двойная, чтобы книгу могли читать во всех православных землях: в лето «от создания мира» – 7172-е, а «от воплощения же Бога слова» – «1663, индикта 2, месяца декемврия в 12 день»{539}. Издателям пришлось выходить из затруднительного положения, так как они должны были упомянуть действующего патриарха, но Никон, как известно, оставил свой трон. Поэтому, говоря о «благословении» издания Библии, они сослались на общий церковный синклит «преосвященных митрополитов, и архиепископов, и епископов». Не случайно Никон был недоволен этим изданием.
В начале московского издания Библии содержались целая программа и обоснование нового положения Москвы, достигнутого в царствование Алексея Михайловича. В «написи на тривенечное» упоминалась «Московия» и содержался ответ о символической трактовке трех венцов (царских корон): «яко воздержавствует Европою, Асиею, землею тричастныя Ливии». Но главный «посыл» миру содержался в трактовке герба, помещенного на одной из первых страниц: двуглавый орел с расправленными крыльями, со щитом в центре, где символически изображен царь Алексей Михайлович, поражающий копьем змея, как Георгий Победоносец{540}. Над главами три короны – одна большая и две поменьше, в лапах орла – скипетр и держава. Под изображением герба – план Москвы. В текстовой части приведены слова из 102-го псалма: «обновится яко орля юность твоя». И дальше помещены «стихи на герб»:
Орла сугубоглавство, образ сугубодержавства,
Алексия царя над многими странами началства.
В десней скиптр, знамение царствия.
В шуей же, держава его самодержавствия.
Выспрь глав, трегубии венцы,
Троицы содержащия земли концы…
Образ государственного герба – орла – становится центральным, не только утверждая своей символикой защиту веры от еретиков, но и обосновывая широкую программу новой России как защитницы вселенского Православия. Еще в 1660 году Симеон Полоцкий в кратком рифмованном диалоге, прочитанном перед царем, стал использовать этот образ, называя будущего наследника царя Алексея Михайловича – царевича Алексея: «Орел Русси всея». Представитель польской школы учености, сначала писавший по-русски латиницей, появился в Москве, видимо, в то же время, когда там завершалась работа над печатанием Библии. Не было ли в предисловии к ее изданию и его авторского вклада? Символично название еще одной книги, созданной Симеоном Полоцким несколько лет спустя в честь «объявления» царевича Алексея Алексеевича наследником престола 1 сентября 1667 года, – «Орел многоликий». В ней также помещено изображение герба, повторяющее изображение из Библии 1663 года, правда, с одним важным изменением: вместо державы орел держит меч{541}.
Известна и знаменитая икона «государева изографа» Симона Ушакова – «Древо государства Московского». Она прославляла образ Владимирской Богоматери, перенесенный Андреем Боголюбским из Киева во Владимир, а затем ставший главной святыней Московского царства. Образ Богоматери в центре вписан в древо, вырастающее из Кремля и посаженное митрополитом Петром и Иваном Калитой. Отрасли древа – главные святые Русской земли, ее великие князья и цари. Икона утверждала родство и преемственность правящей династии с прежними временами: от царя Федора Иоанновича до царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета. Внизу иконы, за стеной Московского Кремля, помещены портреты царя Алексея Михайловича с левой стороны и его семьи – царицы Марии Ильиничны с детьми царевичами Алексеем и Федором. Долгое время икона, происходившая из церкви Троицы в Никитниках, датировалась 1668 годом, и только совсем недавно была установлена новая дата ее написания – 171-й (1662/63) год{542}. Следовательно, издание Библии и появление иконы «Древо государства Российского» совпадают по времени.
Этот настойчивый поиск новых символов Московского царства требует объяснений.
Поход короля Яна КазимираГод 172-й (1663/64) оказался переломным для всей русско-польской войны. За десять прошедших лет уже можно было понять, что получилось, а что нет. Обе стороны – Русское государство и Речь Посполитая – подошли к определенному рубежу. Усталость населения, отягощение казны, истощение ресурсов – все это было справедливо как для Москвы, так и для Варшавы. Но едва обе стороны дошли до обсуждения контуров будущего договора о мире, случился бунт в Москве. Утаить сведения о событиях в Коломенском было невозможно, а для врага они были признаком очевидной слабости царя Алексея Михайловича. Можно говорить об «отложенном эффекте» слухов о московском восстании, сопровождавших отправленного из Москвы в октябре 1662 года думного дворянина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Он рассчитывал на поддержку отпущенного из Москвы гетмана Винцентия Госевского, но того убили, как и его брата и других ближайших сподвижников, невзирая ни на какие их заслуги перед Литвой (казнили даже героя виленской обороны 1655 года Казимира Жеромского). В Речи Посполитой мечтали одним королевским походом на Москву решить исход войны и продиктовать свои условия мира.
Здесь уместно вспомнить о побеге за рубеж сына думного дворянина – Воина Афанасьевича Ордина-Нащокина, служившего королю Яну Казимиру с начала 1660 года{543}. Царь Алексей Михайлович утешил своего советника особым посланием, говоря, что измена сына никак не повлияет на отношение к самому Афанасию Лаврентьевичу. Правда, к моменту отъезда посольства в Польшу «блудный сын» одумался и написал покаянную челобитную царю, а в ответ получил приказ оставаться при польском короле Яне Казимире «для вестей». Воин Нащокин оказался в итоге в составе королевской армии. Хотя позднее о нем говорили как об изменнике, именно он смог передать в Москву сведения о планах королевского похода. Возвратившийся с неудачных переговоров с королем Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин привез тревожные известия. Патрик Гордон записал тогда в своем дневнике: «Царский фаворит Афанасий Лаврентьевич Нащокин, отправленный в Польшу, возвратился с малым успехом и сообщил, что в Польше идут великие приготовления к нашествию»{544}.
Афанасий Лаврентьевич составил подробную записку царю Алексею Михайловичу: «О миру Великой Росии с Польшей, чтобы разсудительство иметь к прибыли Московскому государству и впредь нерозорвано было». Для прояснения своей мысли он несколько раз использовал риторический оборот: «Великой же Росии надобен союз с Польшей» (отметим использование этого нового обозначения Русского государства) – и объяснил «неотложный» характер такого мира: «…в нужное их безвремянье прикуп велик Московскому государству к росширенью учинить, а великого государя его царского величества к повышению преславного имяни». Отчасти переоценивая влияние шведов («а свея-ном то люто ненавидимо, что с Польшей будет такой мир»), Ордин-Нащокин писал о их интригах для разрыва мирных отношений России и Речи Посполитой. Он сам столкнулся с этим на переговорах во Львове, подозревая, что именно от шведского комиссара в Москве пошли «печатные злые вести» о событиях в столице{545} и трудном положении царя Алексея Михайловича: «И учали в мирных статьях горды быть и несходительны сенатыри, по военному обычаю радуясь чюжему упатку. И тем свейским письмом поносить учали, будто правда написана, что безсилье Великой Росии и внутрь своево государства разорение и война». Интригами шведов посол объяснял и текущие события, когда в Москве в конце 1663 года стало известно о походе польско-литовских войск: «Для того с обеих сторон король и войска литовские пошли к московским краем, что им наслушили шведы: рати де московские против башкирцев все высланы с Москвы». По его мнению, враги, страстно не желавшие союза России и Польши, не останавливались даже перед прямой изменой и подстреканием к новому мятежу: «И не только в литовской полон на Москве и в руские московские люди многие розрушительные ссоры вмещают и розоренья наводят, как и в прошлом году на Москве был коломенской шум»{546}.
Даже после отказа от медных денег в стране было далеко от настоящего успокоения. Царь Алексей Михайлович просил власти Соловецкого монастыря о единовременном займе из монастырской казны, «донеле же то воинское время прекратится». Послание было личным и написано в «наших царских полатах». Царь признавал, что «нынешняя продолжающаяся война», которую вели в отмщение «прежнего страшного разоренья над Московским государством и над всею Великою Россиею от польского короля, за злостьми их латынского народу», никак не прекратится и дело не дойдет «до умирения» (отметим всё тот же оборот «Великая Россия», звучащий в царской речи). По этой причине, писал царь, «денежная казна наша поддерживается» и просил «денег взаймы 50 000 рублев», «покамест наша денежная казна посберется». Архимандрита Варфоломея, келаря Савватия и старца-казначея с братьею просили отнестись к этой необычной просьбе с пониманием: «…а того в оскорбление святой обители не почитать и не мыслить, но с радостию сие дело учинить»{547}. Подключение самого царя Алексея Михайловича к делу пополнения казны серебром говорит о многом: жалованья по-прежнему не хватало, выдавали его с задержками и по частям, что приводило к новому недовольству служилых людей.
Решающее столкновение между Московским государством и Речью Посполитой произошло во второй половине 1663-го – начале 1664 года, когда король Ян Казимир, наконец-то справившийся с конфедератами, заручился согласием польско-литовской армии и выступил в поход на украинские земли. По разрядным книгам, уже 30 июня 1663 года состоялся царский указ о расстановке войск «против польского короля». В Смоленске главным воеводой назначили заслуженного «ветерана» войны с Литвой – боярина князя Якова Куденетовича Черкасского, а с ним боярина князя Ивана Семеновича Прозоровского и стольника князя Юрия Никитича Барятинского, 1 июля туда же был назначен на службу боярин и воевода князь Федор Федорович Куракин. Именно князь Черкасский стоял во главе всей армии, к нему «в сход» должен был идти из Новгорода другой известный боярин и воевода князь Иван Андреевич Хованский (он все еще оставался в Москве, и царь Алексей Михайлович даже назначил его ведать Ямской приказ), а из Калуги – боярин и воевода Петр Васильевич Шереметев и окольничий Михаил Семенович Волынский. Конечно, речь шла только о номинальной субординации, а не о соединении сил, действовавших на значительном удалении друг от друга. 1 июля сменили воевод в Пскове, куда отправили еще одного члена Думы – окольничего и воеводу Андрея Васильевича Бутурлина и Льва Прокофьевича Ляпунова. Тогда же, в начале июля, был пожалован за службу по выборам нового гетмана окольничий князь Данила Степанович Гагин «с товарищи»; как говорилось в посланной грамоте: «…они, будучи в войске Запорожском, его государевы дела в совершенье привели, по его великаго государя указу, и выбрали гетмана Ивана Брюховецкого». Одновременно жалованье посылалось и епископу Мстиславскому и Оршанскому Мефодию, считавшемуся «блюстителем митрополии Киевской»{548}. Другое стратегическое решение – отправка отряда стряпчего Григория Касогова для войны во владениях крымского хана. Совместно с сечевыми казаками Ивана Серко и калмыками Григорий Касогов станет успешно воевать под Перекопом, и это окажет влияние на союзных королю крымских татар.
Король Ян Казимир выступил в поход на Русское государство во главе объединенного войска Речи Посполитой в августе 1663 года. По всем канонам это означало решительный поворот в войне. Не случайно польско-литовская сторона соглашалась начать переговоры только в Калуге или Белеве. Королю удалось собрать в свой первый и последний поход на Москву значительную армию, усиленную вспомогательным татарским войском во главе с крымскими царевичами и достигавшую 130 тысяч человек. Уже в сентябре, как написал в своем дневнике Патрик Гордон, «литовские войска под командой гетмана Паца пришли и разбили лагерь у Мигнович, простояли там около двух недель и разграбили всё до самых ворот Смоленска. Они выступили на Украину для соединения с королем и коронной армией, кои, по слухам, идут от Киева. В сих войсках было около 12 000 человек»{549}. Именно там, на дороге от Москвы в Киев, надеялись в скором времени оказаться объединенные королевские войска, крымские татары и казаки правобережной части Украины.
Напротив, новый гетман левобережных казаков Иван Брюховецкий разъяснял рядовому казачеству мнимые московские угрозы, используемые старшиной, для утверждения своей власти «по ту сторону Днепра». Атакуя «соблазнителей», обманывающих казаков и пугающих «рабством Московским», он предлагал своим «братьям» лучше прочитать «список с грамоты его царского величества о правах свободы, искони данных войску». Брюховецкий снова говорил о «самом важном и главном» препятствии к объединению с Польшей: о преследовании православной веры «на Волыни, в Подолии, Подгорьи и в других Малороссийских странах». В универсале 31 октября 1663 года Брюховецкий подтверждал желание кошевых казаков Запорожской Сечи поддержать единоверцев в Москве и писал с осуждением о поддержавшей короля правобережной старшине: «Привлекли короля ляхов и татар, чтобы татарскою и ляшскою саблею искоренить Украину и опустошить Российскую землю, как по ту, так и по сю сторону Днепра»{550}.
В октябре войско Яна Казимира уже шло маршем по украинским городам от Белой Церкви. 13 городов сдались сразу, а Лохвица была взята штурмом. Сдача городов не была такой уж добровольной, их жители откликались на уговоры казачьей старшины, поддержавшей польского короля. Даже прежний гетман и сенатор Речи Посполитой Иван Выговский вышел из тени и вступил в переговоры по поводу дальнейшей судьбы Гетманщины. Польское войско, перейдя на левую сторону Днепра около Переяславля, избегало прямого столкновения с гарнизонами царских войск, стоявшими в крупных городах – Киеве, Нежине и Чернигове. Хотя по вестям, полученным в Белгороде окольничим и воеводой князем Григорием Григорьевичем Ромодановским от гетмана Ивана Брюховецкого, целью похода короля был назван прежде всего Киев: «…а дожидается крымского хана и соединяясь хочет итить к Киеву и на твои Украинные и Черкасские города войною»{551}. Символичным в этом противостоянии стало и избрание в ноябре 1663 года на киевскую кафедру нового митрополита Иосифа Тукальского{552}. В итоге войско короля Яна Казимира выбрало другой маршрут и прошло к расположенному недалеко от московской границы Глухову. Оттуда открывался уже прямой путь на Севск и далее к Калуге, где можно было занять и перекрыть киевскую дорогу.
Сведения об объединенном походе польской и литовской армий в союзе с крымской ордой показывали, что инициатива в военном противостоянии была у армии Речи Посполитой. В начале кампании в Разрядном приказе допустили серьезную ошибку, распустив 6 октября 1663 года войска Белгородского полка. Служилых людей с большим трудом приходилось собирать обратно; многие успели побывать «в домишках своих дни по 2 и по 3», а некоторые были «поворочены с дороги назад»{553}. В ожидании прихода королевских войск в Москве в октябре 1663 года был проведен общий царский смотр служилых людей, о чем упоминал Патрик Гордон: «Самому царю было угодно дать смотр всем дворянам и обратить особое внимание на их экипировку».
По мере того как окончательно выяснялись намерения короля и его союзников крымцев, собиравшихся к московской границе, делались перестановки в назначениях полковых воевод. Хорошо осведомленный шотландский офицер написал и об этом в январе 1664 года: «Боярину князю Якову Куденетовичу Черкасскому было велено идти, согласно сведениям [о неприятеле], то к Севску, то к Смоленску. Теперь же, когда стало ясно, что литовская армия движется на Украину на соединение с коронной армией, он получил приказ выступить в Калугу и далее на Украину… Белгородское войско во главе с князем Григорием Григорьевичем [Ромодановским], согласно приказу, выступило к Путивлю»{554}. Именно на армию Ромодановского и выпали впоследствии самые серьезные бои с королевским войском.
Однако исход столкновения не в последнюю очередь решили упрямство, самомнение и непоследовательность короля Яна Казимира. Королевская армия потерпела поражение под малоприметной крепостью Глухов, расположенной совсем неподалеку от московской границы. Героические действия по защите этой крепости казаками киевского полковника Василия Дворецкого задержали королевский поход и обрушили планы реванша Яна Казимира. Полковник Василий Дворецкий запомнил основные вехи похода короля Яна Казимира, выступившего из Белой Церкви 20 октября, а затем 1 ноября (даты по новому стилю) перешедшего со своим войском за Днепр «на бок царскый», то есть в Левобережье. В январе началась четырехнедельная осада Глухова: «…чотири недили зо всим своим войском добывали розными приступами, приметами, штурмами, огнистыми кулями и подкопами»{555}.
Безуспешные штурмы Глуховской крепости дорого стоили королю Яну Казимиру. Когда его советники опомнились и посчитали все потери, стало понятно, что время для наступления потеряно. Хотя, как писал один из участников боев, французский герцог Антуан Грамон, всё равно было принято решение «продвинуться на границу Московии, по направлению к городу, называемому Севском, чтобы попытаться атаковать армию Ромодановского, расположенную по ту сторону реки Десны». Более точен автор «Летописи Самовидца», сообщавший о движении армии короля к Новгороду-Северскому. Здесь король остановился в Спасо-Преображенском монастыре – резиденции черниговского епископа Лазаря Барановича: «…а напотом и король, собою стривоживши, спод Глухова вступил на Новгородок Сиверский, с которим князь Ромодановскш и гетман Бруховецкш мили потребу в Переговци под Новгородком, а новгородци не пустили короля в город, але стоял король в монастири новгородском». В боях на Десне, под упомянутыми Пироговицами (или Пироговкой), и решилась судьба похода, а возможно, и исход длившегося целое десятилетие общего противостояния царя Алексея Михайловича и короля Яна Казимира.
Перед главным сражением на военном совете у короля решали: атаковать ли царские войска «в окопах» (к этому склонялось большинство), или подумать о другой стратегии, на чем решительно настаивал известный военачальник Стефан Чарнецкий. В его предложении видно стремление повторить «конотопское» и другие сражения, когда небольшой отряд всадников выманивал и приводил увлекавшегося атакой противника на большое войско: он говорил, что «знает московитов, знает, что Ромодановский, при появлении польских войск, никогда не упустит случая сделать вылазку из своего лагеря для их атаки, а особенность московита состоит в стойком всегда поддерживании начатого дела, войска за войсками; поляки, получив приказ отступить на нас, без всякого сомнения, будут преследоваться московитским авангардом, а затем и целою армиею, которая выдвинется на расстояние выстрела к армии нашей, местность окажется выгодною для нашей кавалерии – и он почти уверен в их поражении»{556}.
Так бы, наверное, все и произошло, если бы король следовал принятому на военном совете плану. Но когда тысяча всадников отправилась для разведки, канцлер Великого княжества Литовского Христофор Пац предложил изменить первоначальный план. Король, опасаясь за свою жизнь, отошел назад, опять за реку Десну. Для исхода начатого сражения изменение королем первоначальной диспозиции имело важные последствия, потому что возвращавшаяся из разведки конница, которую, как и предсказывал Чарнецкий, преследовали московские войска, вдруг оказалась на пустом берегу, а не под защитой своей армии. Началось повальное бегство: «под мушкетными выстрелами сзади и саблями над головами» бежал герцог Антуан Грамон, бежал и находившийся рядом с ним будущий польский король и великий полководец Ян Собеский. «Мне кажется, что это одно из скверных видений, какие можно видеть», – заключал автор записок – Грамон. Московские войска с ходу форсировали Десну и попытались атаковать главные полки польской армии, но не смогли преуспеть, так что все храбрецы, прорвавшиеся за реку, погибли. После завершения Пироговского сражения королевское войско простояло на своих позициях еще некоторое время, ничего не предпринимая, и вынуждено было отойти от Новгорода-Северского.
Сходным образом описывалась битва 11 (21) февраля 1664 года и в челобитной царю Алексею Михайловичу о жалованье, поданной служилыми людьми Белгородского полка. Царь распорядился рассмотреть их челобитную, на документе помета – «государь пожаловал, велел выписать и должить себя государя». Описывая свои заслуги в боях с королем Яном Казимиром, служилые люди сообщали детали боев, полностью совпадающие с описанием французского герцога; только записаны они своим, понятным в военной и приказной среде XVII века языком: «Прося у Бога милости, пошли с Воронежа (в окрестностях Батурина. – В. К.) за королевскими войски к реке Десне, и как отошли от Воронежа, и у нас в передовых полках с заставными королевскими полки учинился бой». Это и есть та «разведка» в тысячу всадников, которую специально выпустили на московское войско, чтобы заманить его в ловушку, и которую, как видим, приняли за «заставы» – выставленные вперед полки от основного войска. Далее в челобитной говорилось о победном для полка князя Григория Ромодановского продолжении событий: «…и мы те королевские заставные полки сбили и многих побили и секли до реки Десны и за реку Десну загнали и за рекою Десною ввечеру с ними у нас был бой большой и, милостью Божиею и твоим и детей твоих счастьем, промыслом и раденьем твоего окольничего и воевод, королевских людей многих побили и языков поймали». После этого король Ян Казимир «стоял против нас со всеми своими силы по другую сторону реки Десны от Новгородка-Северского, а стоял против нас пять дней, и мы с его королевскими людьми билися по вся дни».
В то время как королевские и московские войска стояли друг напротив друга под Новгородом-Северским, крымские татары решили сделать самостоятельный набег, чтобы набрать полон перед возвращением в Крым. Королю Яну Казимиру надо было решать, куда двинуться дальше. Стали приходить сведения о восставших городах Левобережья, где ранее прошла польская армия. Поэтому король выбрал для отступления самый неожиданный и сложный маршрут – путь на Могилев, лежавший через снега и леса. Войско князя Григория Ромодановского знало об этом отходе короля Яна Казимира «по Гомельской дороге». Но воеводы были осторожны и посчитали, что это какой-то неожиданный маневр перед новой битвой: «чаяли от его королевских войск еще на себя отвороту и бою». Они простояли два дня, пока окончательно не осознали, что все закончилось и «король пошел со всеми силами в Литву наскоро». Ничего не смог предпринять и князь Яков Куденетович Черкасский. Он слишком медленно преследовал отходившего короля Яна Казимира, который успешно добрался до Могилева 21 (31) марта 1664 года{557}.
Другую часть разделившегося надвое под Новгородом-Северским королевского войска возглавил «воевода Русский» Стефан Чарнецкий. Во главе польской кавалерии он решил возвращаться прежней дорогой к Белой Церкви, чтобы наказать «изменников», взбунтовавшихся против королевской власти в недавно присягавших Яну Казимиру городах Левобережья и Правобережья. После неудачного королевского похода начался настоящий террор, быстро напомнивший казакам, зачем они брались за оружие во времена Хмельничины. Со стороны Чарнецкого это была явная месть казакам. Он разорил и уничтожил могилу Богдана Хмельницкого в Субботове. В эти месяцы казнили знаменитого героя «освободительной войны» Ивана Богуна, обвиненного в неудаче глуховской осады и препятствии успеху королевского похода, расстреляли без суда и следствия бывшего гетмана Ивана Выговского{558}. Своею жизнью герои и участники событий, определивших дальнейшую судьбу Украины, заплатили за выстраданный казаками еще во времена Богдана Хмельницкого опыт: «никогда, пока свет стоит», не верить «ляхам». Так писал киевский полковник Василий Дворецкий, подводя итог бесславной военной экспедиции короля Яна Казимира, возвратившегося в Литву «з великим безчестием», и похода Стефана Чарнецкого «за Днепр до Белой Церкви», когда он шел, опустошая казачьи земли Правобережья{559}. Впрочем, и поляки в середине XVII века платили украинцам тем же.
Пока Украина получала мучительные уроки, в конце мая в Смоленск приехали послы, и в начале июня 1664 года возобновились переговоры о мире. Царь Алексей Михайлович и его советники уже получили прямые «вести» о восстаниях против короля в Левобережье и Правобережье и стремились использовать это на переговорах, выдвинув требование установить новую границу по Днепру. О настроении царя Алексея Михайловича ясно говорит его ответ на 33-ю статью «о черкасах» из упоминавшейся записки Ордина-Нащокина: «А собаке недостойно и одного уломка хлеба есть православного, толко не от нас будет за грехи учинитца…»{560} То есть на переговорах не следовало отказываться не только от Левобережной, но даже и от Правобережной Украины, хотя Алексей Михайлович вынужден был допустить, что вряд ли, как во времена Переяславской рады, удастся добиться подданства всего православного населения Войска Запорожского.