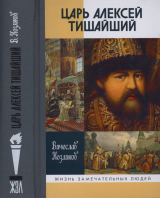
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 46 страниц)
Царь был воодушевлен торжеством справедливости, и это был именно его собственный триумф, а не мнимая «победа» будущего патриарха Никона.
Царь писал князю Одоевскому о «честном» возвращении «гонимого» святителя в Москву, отнюдь не противопоставляя светскую и церковную власть, о чем чаще всего вспоминают исследователи при описании перенесения мощей Филиппа. Алексей Михайлович обвинял в случившемся не Ивана Грозного, а его советников! «Где гонимый и где ложный совет, где обавники, где соблазнители, где мздоослепленныя очи, где хотящий власти восприяти гонимаго ради? Не все ли зле погибоша; не все ли изчезоша во веки; не все ли здесь месть восприяли от прадеда моего царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Росии, и тамо месть вечную приимут, аще не покаялися?»{178} Как видим, царю Алексею Михайловичу ближе всего была идея наказания «обавников» – колдунов, заклинателей, своими наговорами и «шептаньем» помрачавших ум и «соблазнявших» праведного царя, опалившегося на митрополита Филиппа. Все это далеко было от настоящей истории противостояния царя Ивана Грозного и митрополита Филиппа по поводу опричнины и совсем не связано с покушением церкви на права самодержавного царя.
В выборах на патриаршество Никона царь Алексей Михайлович проявил свою волю – несмотря на то, что сначала за основу чина избрания патриарха предлагалось взять прежний образец – выбор жребием (так патриарший престол достался патриарху Иосифу). Составляя черновой вариант чина избрания нового патриарха, сохранили даже прежнюю дату – 27 марта 1642 года – время вступления в чин патриарха Иосифа. Имя Никона было вписано на том месте, где раньше стояло имя его предшественника новгородского митрополита Афония. Но от прежней процедуры случайного выбора в итоге отказались, записав в чине патриаршего избрания вместо слов «по жребию поставленье бысть» иначе: что «по избранию всего освященного собора поставленье бывает»{179}. Далее, согласно новой редакции чина патриаршего избрания, царю было представлено 12 наиболее достойных кандидатов, из которых он выбрал одного – митрополита Никона. Как сказано в ставленой грамоте Никону, «житием праведна, и премудра, и свята, и боголюбива, и незлобива». Новый патриарх получил посох митрополита Петра и белый клобук из царских рук в воскресенье 25 июля 1652 года. Так еще раз подчеркивалась преемственность церковной власти от прежних московских митрополитов и вспоминался дар первого христианского царя Константина первоиерархам церкви, перешедший, согласно «Повести о белом клобуке», от римского папы Сильвестра в Константинополь, а позже – в Новгород и Москву – Третий Рим. Правда, Никон при выборах патриарха стал отказываться от высшего церковного сана, но его действия носили ритуальный характер{180}. Никон и много позже, 20 лет спустя, подчеркивал в письме царю Алексею Михайловичу, что он был «поставлен на патриаршество не своим изволом, но Божиим изволением и твоим, велика-го государя, и всего освященнаго собора избранием»: «А я, ведая свою худость и недостаток ума, множицею тебе, великому государю, бил челом, что мене с такое великое дело не будет. И твой, великаго государя, глагол превозможе»{181}. Впрочем, символично, что надень 25 июля приходилась дорогая для нового патриарха память Макария Желтоводского и Унженского: ведь сам Никон когда-то пришел юношей и начал постигать монастырскую жизнь в Макарьевском монастыре на Волге{182}. Конечно, участникам церемонии патриаршего избрания не дано было знать последствия своего решения. Позже указание на «незлобивость» патриарха Никона при его избрании могло восприниматься только как горькая ирония…
«За царскую честь война весть»Великий поворот царя Алексея Михайловича к наступлению на «Литву» вызревал медленно, но верно. В союзе с патриархом Никоном дело должно было двинуться быстрее. В период первых военных побед гетмана Богдана Хмельницкого в 1648–1649 годах царь Алексей Михайлович не стал нарушать ради казаков мирный договор с Речью Посполитой. Но как только началась «реконкиста» и в 1650–1651 годах польская шляхта с переменным успехом снова стала теснить казачью старшину, отвоевывая право вернуться в свои владения, политика изменилась. В 1651 и 1653 годах царь созвал два земских собора о «литовском деле», где решилась судьба так называемого «воссоединения Украины с Россией». Из-за разных оценок этого процесса необходимо особенно внимательно посмотреть: зачем казаки и гетман Богдан Хмельницкий снова обратились в Москву, какие вопросы на самом деле рассматривали земские соборы?
В Посольском приказе имели достаточно ясное представление о намерениях гетмана Хмельницкого продолжать борьбу с «ляхами» вместе с татарами и по-прежнему не стремились в нее ввязываться. В январе 1651 года из Москвы отправили в Чигирин с жалованьем дьяка Ларио-на Лопухина. В выданном ему наказе подробно определялось, что говорить в случае поворота разговора к упрекам в неоказании помощи «черкасам». В Войске Запорожском стало известно, что прежние обращения казаков в Москву «объявились у короля в Оршаве»{183}. Поэтому Ларион Лопухин должен был дезавуировать обвинения в «московской неправде» тем, что привез с собой подлинники этих обращений. Но главное, что ему нужно было любой ценой добиваться прежней лояльности казаков и напоминать, что даже «в смутное время», в 1648 году, в Москве отказались помогать польской стороне, а, напротив, поддержали «черкас», разрешили им торговать хлебом и солью. От имени царя Алексея Михайловича казаков уверяли, что в Московском государстве не стремятся помогать их «неприятелям», то есть королю. Лопухин прежде всего говорил о готовности известить «окрестные государства» о «неправдах» польского короля Яна Казимира, если он нарушит прежний договор, требовавший наказания виновных в умалении государской чести. В случае обострения дипломатических отношений с Речью Посполитой казаков собирались обо всем известить, и тогда царь Алексей Михайлович прислал бы «для подлинного договору» не обычных дворян, а своих «думных людей», то есть бояр. Это был новый поворот в контактах с Запорожским Войском, уже допускавший войну с враждебной «Литвой». Однако решение вопроса о поддержке казаков ставилось в зависимость от действий Речи Посполитой в более важном для московской стороны вопросе – о защите царской чести. Вскоре новое направление политики было подтверждено еще и авторитетом Земского собора{184}.
28 февраля 1651 года в Столовой избе в присутствии царя Алексея Михайловича состоялся первый собор, на котором было рассмотрено «письмо» о «литовском деле»{185}. Выборным на соборе предлагалось рассмотреть и обсудить два главных вопроса: во-первых, «о неправдах» польского короля и панов-рад, нарушении ими «вечного докончанья» и, во-вторых, об обращении Богдана Хмельницкого. Впервые не только в Думе, но и во всем Московском государстве официально должны были узнать о «просылках» гетмана Войска Запорожского, «что они бьют челом под государеву высокую руку в подданство»{186}.
Зачем все-таки опять был поднят старый вопрос о нарушении Поляновского мирного договора, неисполнении данных послу Григорию Гавриловичу Пушкину в 1650 году обещаний наказать виновных в умалении государской чести? Ведь не ради же одних интересов «черкас» и Хмельницкого созывались в Москву представители всех сословий?
Чрезвычайное обращение к собору понадобилось по другой причине. Главное, что могло пугать царя Алексея Михайловича – действия польского короля Яна Казимира на «крымском» направлении. Как сказано в письме собору, царю Алексею Михайловичу «ведомо учинилось», что король Ян Казимир «ссылаетца с крымским царем почасту и всякими вымыслы умышляют, чтоб им сопча Московское государство воевать и разорить». Дело дошло до того, что «через Польшу и Литву» был пропущен «крымский посол» к шведской королеве Христине, как были уверены в Московском государстве, «для ссоры ж». Характеризуя невиданные ранее союзные действия между непримиримыми врагами, в Москве закономерно удивлялись: «а преж сего того николи не бывало». Поэтому и вспомнили снова о просьбе гетмана Богдана Хмельницкого о принятии его «под высокую руку». На соборе приводили даже сетования казаков Войска Запорожского, связанные с последствиями отказа царя Алексея Михайловича разрывать мир с Речью Посполитой. Казаки в открытую говорили, что они «поневоле учинятца в подданстве у турского салтана с крымским ханом вместе»{187}. Следовательно, именно угроза новых крымских набегов и отказ от прежнего, складывавшегося при королевиче Владиславе русско-польского союза против Турции заставляли прибегнуть к созыву собора.
Новые контакты с «черкасами», как можно видеть из наказа Лариону Лопухину и решения Земского собора 28 февраля 1651 года, были по-прежнему далеки от безоговорочного одобрения идеи подданства казаков царю. Главной целью оставалось противодействие опасному для Московского царства союзу Речи Посполитой или казаков с татарами и османами. Дипломаты стремились лучше узнать, «что ныне у поляков с черкасами делаетца», а также о контактах крымского хана с польским королем Яном Казимиром и гетманом Богданом Хмельницким. Гетман тоже был осторожен в переговорах с новым посланцем из Москвы и действовал необычно, выбрав для достижения своих целей беспроигрышный ход – обращение к первому советнику царя Алексея Михайловича «ближнему великому боярину» Борису Ивановичу Морозову. Тем более что намек о посылке «думных людей» впервые был сделан из Москвы, и гетман ухватился за это предложение. 11 марта 1651 года Хмельницкий отправил личное послание не к кому-нибудь, а сразу к боярину Морозову, подтверждая свое прежнее намерение служить царю Алексею Михайловичу: «Желаем того, чтоб он, яко православный християнский царь, на все земли государствовал»{188}. За этим могло стоять возвращение к программе перехода в подданство царю Алексею Михайловичу при условии его воцарения в других «землях» (то есть в Речи Посполитой). В 1648–1649 годах такая идея оказалась преждевременной, и в Москве не оспаривали права Яна Казимира, но спустя несколько лет, после «государевых походов» 1654–1656 годов, мечта о короне Речи Посполитой для Алексея Михайловича или его наследников стала основой внешней политики Московского царства{189}.
В начале июля 1651 года произошла трагическая для Войска Запорожского битва под Берестечком. Брошенные войском крымского хана, казаки потерпели сокрушительное поражение от короля Яна Казимира, сам гетман стал заложником своего недавнего союзника крымского хана Ислам-Гирея. Вскоре, в сентябре 1651 года, Богдану Хмельницкому пришлось заключить Белоцерковский договор, отменивший многие прежние завоевания «черкас». Их «Реестр» сокращался вдвое – до 20 тысяч, казаки потеряли Киев, занятый войском польного гетмана литовского Януша Радзивилла. Польские шляхтичи возвращались в свои владения, прежние права получали униатская церковь и евреи, жившие до изгнания в Русской земле Речи Посполитой. Недовольство «капитуляцией» казаков Богдана Хмельницкого привело к их исходу из земель Войска Запорожского. Многие «черкасы» уходили жить в соседнее Московское государство, но отношение к ним все равно оставалось настороженное. Тем более что, попадая в чуждую среду, казаки не слишком стремились «вписываться» в нее и приспосабливаться к законам и порядкам другого государства{190}.
Контакты с гетманом Богданом Хмельницким продолжились, несмотря на очевидное поражение казаков после Белоцерковского договора. Приходилось принимать тайные предосторожности, чтобы избежать упреков в прямой поддержке Войску. В октябре 1651 года в Чигирин был отправлен Василий Васильевич Унковский с жалованной грамотой и соболями для раздачи гетману, полковникам и писарю. Грамоту следовало отдать прямо в руки гетману, а говорить с ним про «тайной царской наказ» только «наодине». Общий план действий, принятый на Земском соборе 1651 года, оставался прежним и был продиктован интересами московской политики. Царь Алексей Михайлович, как извещали гетмана, «ныне посылает» к королю Яну Казимиру «своих государевых великих и полномочных послов». В состав великого посольства планировали включить бояр князя Юрия Алексеевича Долгорукого, князя Федора Федоровича Волконского и кого-то из дьяков{191}. Им снова предстояло вести переговоры с королем и панами-радой о выполнении обещаний «казнить смертью» виновных в написании «з бесчестьем» царского титула.
Создавалось впечатление, что в Москве заранее были уверены, что посольство в Варшаву не сможет достигнуть этой цели: «И по тому договору с королевские стороны по ся места исправленья не бывало и вперед не чаять, потому что они николи в правде своей не стоят». Интересно, что гетману как будто возвращались его собственные слова, которые он пытался внушить царю Алексею Михайловичу, оправдывая продолжение своей войны с «ляхами». С другой стороны, гетман должен был понять, что для царя Алексея Михайловича договор о мире с Речью Посполитой оставался святым делом и нарушить его он не мог. «Да и ему, гетману, мочно то разсудить, – должен был сказать Василий Унковский, – пригожее ли то дело, что великому государю царскому величеству, помазаннику Божию, вечное докончанье без причины розорвать, и в неправде и Бог не поможет». Оставалось убеждать гетмана Богдана Хмельницкого, чтобы он помнил к себе «царского величества милость и жалованье», и удерживать его от враждебных действий по отношению к Московскому государству совместно с Крымской ордой: «И ты б, гетман, и все Войско Запорожское царскому величеству служили, и крымского царя от всякого дурна унимали, и на Московское государство войною не пущали». Конечно, возникал вопрос: что будет, если король Ян Казимир все-таки согласится на требования царя Алексея Михайловича и накажет виновных в умалении государской чести? В наказе Василию Унковскому предусмотрели и такой поворот, но смогли только в самом общем виде пообещать способствовать дальнейшему примирению гетмана с королем, если казаки сами этого пожелают{192}.
В начале 1652 года московские посланники Афанасий Осипович Прончищев и дьяк Посольского приказа Алмаз Иванов отправились на сейм, чтобы узнать, продвигается ли дело о наказании виновных в оскорблении царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Их встретили встречными претензиями: «есть де с царского величества стороны зделано к нарушенью вечного доконченья, и не одна статья». Царя Алексея Михайловича обвиняли в поддержке казаков Войска Запорожского: пересылке посольствами, хранении «неприятельских животов» (имущества) и даже в том, что «двор Хмельнитцкому зделан». Московские посланники в ответ говорили о миротворческих целях поездок гонцов к гетману «для успокоения християнского… чтоб они, запорожские черкасы, тое ссору и межусобье, сослався с ними, паны рады, усмирили и успокоили», и опровергали распространявшиеся слухи о строительстве «в царского величества стороне» (Москве?) двора для Богдана Хмельницкого.
Король Ян Казимир написал царю Алексею Михайловичу подробное письмо 18 февраля 1652 года, где также говорил о нарушении «вечного докончанья» и посылках к гетману Хмельницкому. Впрочем, польской стороне особенно нечего было предъявить царю: сказалась осторожность дипломатов Посольского приказа. Единственный упрек, высказанный в письме короля, касался частного случая оказания помощи казакам гетмана во время их похода к Рославлю через земли Московского царства, но его легко дезавуировали ссылкой на проведенный «розыск» по этому делу{193}. В письме же выражалась уверенность короля в победе над врагами – крымскими татарами и королевскими подданными – «бунтовниками».
22—23 мая (по старому стилю) 1652 года произошла известная битва под Батогом, ставшая одним из главных успехов объединенной крымской рати и гетмана Богдана Хмельницкого в борьбе с польскими войсками на территории Войска Запорожского. Не считаться с успехами казаков после этого было уже нельзя, и вскоре все опять изменилось, приближая настоящую дипломатическую «грозу» между Московским царством и Речью Посполитой. В Москве уже сформировалась, условно говоря, «партия войны». И в нее вошли два человека, оказывавшие самое сильное влияние на царя Алексея Михайловича. Кроме ближайшего царского боярина Бориса Ивановича Морозова, сторонником военного вмешательства в дела между королем и казаками стал и патриарх Никон, избранный в июле 1652 года. В отличие от своего предшественника патриарха Иосифа, он оказался готов откликнуться на призывы гетмана Богдана Хмельницкого об общей борьбе православных в Московском государстве и на Украине.
Обзор непростой истории контактов Богдана Хмельницкого и дипломатов Алексея Михайловича показывает, что чем меньше гетман нуждался в помощи Москвы, тем больше в Посольском приказе были готовы пойти ему навстречу, и наоборот. Важно было только не пропустить грань, за которой «черкасы» могли стать союзниками крымских татар и турецкого султана, угрожавших Московскому царству. А она, эта грань, была уже близка. Греческий митрополит Гавриил сообщал в письме царю Алексею Михайловичу 27 октября 1652 года, что Богдан Хмельницкий жаловался ему на то, что в Москве игнорируют его призывы: «Писал де я многажды, и они мне сказывают – ныне да завтра, а николи в совершенье не приведут»{194}. И в этот момент от самого Хмельницкого пришло известие, что в Москву с «тайным разговором» собирается константинопольский патриарх Афанасий. Лучшего союзника для продвижения своих интересов в Москве у Войска Запорожского, конечно, и быть не могло.
Очередной попыткой повлиять на царя Алексея Михайловича стала присылка в Москву генерального войскового судьи Самуила Богдановича Зарудного с товарищами в ноябре – декабре 1652 года. На этот раз в Москве показали всю серьезность своих намерений в долгосрочной поддержке казачьей войны. Посланников Войска Запорожского впервые принимали близко к посольскому чину на Казенном дворе. После того как «лист» гетмана Богдана Хмельницкого был получен, царь распорядился выслушать представителей Войска боярину оружничему и нижегородскому наместнику Григорию Гавриловичу Пушкину. Между прочим, он был последним «великим послом», ездившим за несколько лет до того в посольстве к королю Яну Казимиру, а титул «наместника» присваивался думцам для придания большего веса во время ведения дипломатических переговоров. Все это косвенно свидетельствует о свершившемся выборе в пользу более активного ведения дел с казаками. Посланники Войска Запорожского должны были прямо просить о принятии их «в подданство» и без царского одобрения не начинать других дел: «то де их делу начало и конец… чтоб царское величество для православные християнские веры над ними умилосердился, велел их принята под свою государеву высокую руку». Одновременно казаки отказывались от подданства польскому королю и поиска союзов «с ыными иноверцами», то есть крымским ханом{195}.
С конца 1652 года при подготовке нового «великого посольства» к королю Яну Казимиру уже должны были учитывать новые обращения гетмана Войска Запорожского о приеме в подданство. Шведский резидент Иоганн де Родес, постоянно сообщавший в донесениях королеве Христине о ходе дел в Москве, заметил, что московское посольство надолго задержалось с отправкой, ожидая решений сейма в Речи Посполитой. Де Родес объяснял это промедление общим нежеланием Алексея Михайловича вмешиваться в дела соседней страны, ведшей войну со своими подданными – казаками: «Кажется, что хотя эти народы, по большей части, и русской веры, но их не особенно хотят иметь близко»{196}. Но затем последовали необычные изменения, свидетельствовавшие о повороте в делах. Внимательный наблюдатель де Родес многое понял, основываясь только на казусах, имевших место в Москве. Царь, по своему обычаю, в конце января – начале февраля 1653 года уезжал из Москвы охотиться. А когда он возвратился с охоты, был обнародован малопонятный патриарший указ: «всем знатным господам» приказали «уничтожить их охотничьих собак». После стало ясно, что развлечения закончились и пришло время войны. Но тогда распоряжение, идущее от патриарха Никона, выглядело вмешательством в частную жизнь царедворцев. Дошли до иноземного резидента и слухи о приезде патриарха на двор к боярину Никите Ивановичу Романову. Между ними состоялся примечательный разговор: боярина спрашивали, почему он не являлся к делам, говорили и о его вступлении в брак, что могло создать династическую проблему. Новое призвание боярина Никиты Романова для совета во дворец де Родес связал с подготовкой к чему-то «особенному», не без оснований считая, что от двоюродного дяди царя после событий 1648 года в Москве зависел «весь простой народ».
И действительно, царь Алексей Михайлович для себя уже всё решил и сделал выбор именно в Великий пост 1653 года. В архиве Тайного приказа сохранилась малопримечательная тетрадка «в восьмушку», где, как сказано авторами архивного описания, государь записывал «мысли о войне». Именно на нее ссылался Сергей Михайлович Соловьев, когда писал в своей «Истории» о событиях начала 1653 года: «В это время принятие в подданство Малороссии и война польская были уже решены в Москве: первая дума об этом у государя была 22 февраля 1653 г., в понедельник первой недели Великого поста, а «совершися государская мысль в сем деле» в понедельник третьей недели Великого поста, марта 14»{197}.
До сих пор этот источник труда Соловьева считался потерянным и почти не привлекал внимания{198}, хотя именно там написано о самом важном выборе за время царствования Алексея Михайловича. Если внимательно разбираться в черновых записях с зачеркиваниями и заменой слов, то можно увидеть, что действительно имеется точная дата – 161-й (1653) год. Алексей Михайлович писал «о ратном деле»: «как оберегать истинную и православную християнскую и непорочную (последнее слово вписано позже над строкой. – В. К.) веру и святую соборную и апостольскую церковь и всех православных християн и недругу бы быть страшну». Для этого он решил «объявить» (Алексей Михайлович поменял смысл записи, усилив свою решительность, когда вместо «изволил видить» написал – «объявить») о готовности своих людей быть «во ополчении ратном храбрствено и мужествено».
Царю было важно зафиксировать время принятия решения, когда он начал «сие благое дело мыслити». Он отступил от первоначального общего указания на март 161-го года, добавив, что начал думать о таком решении в понедельник на первой неделе Великого поста 22 февраля. Совпадение с «плачем» по своей душе во время одной из самых строгих служб Великого поста, когда читается покаянный канон Андрея Критского, конечно, для царя было очень символично, как и указание на точный день принятия решения: окончательно «совершися его государская мысль в сем деле» в понедельник третьей недели поста, приходившийся на 14 марта – день празднования Федоровской иконы Богоматери{199}. А это значит, что прошло ровно 40 лет, день в день, от призвания на царство Михаила Романова, с чего началось особое почитание Федоровской иконы в царской семье. И именно с ее покровительством связана идея войны за церковь и «всех православных», объявленной царем Алексеем Михайловичем.
Конечно, мы никогда не сможем узнать, о чем шла речь на царском столе в честь «государева ангела» 17 марта 1653 года, куда был приглашен патриарх Никон. Царь принимал еще боярина Бориса Ивановича Морозова и глав двух «великих посольств» в Речь Посполитую – бояр князя Бориса Александровича Репнина и оружничего Григория Гавриловича Пушкина. Но сопоставляя известную нам теперь дату внутреннего «рубикона», определившего настрой царя Алексея Михайловича на войну за веру, можно думать, что тогда же было выбрано и практическое направление действий. Новым свидетельством назревавших перемен стало сделанное уже 19 марта распоряжение о вызове на службу ратных людей. Оно было необычным и содержало дату общего государева смотра служилых людей – 20 мая. «А на тот срок, – говорилось в записи разрядной книги, – изволит их государь смотреть на Москве на конех»{200}. Почти никто еще не знал точно о целях задуманного смотра, но так бывало только перед вступлением Московского государства в войну.
Следовательно, когда 23 марта 1653 года из Чигирина в Москву отправлялись посланники Войска Запорожского Кондрат Бурляй и Силуян Мужиловский с личными посланиями гетмана Богдана Хмельницкого боярам Борису Ивановичу Морозову, Илье Даниловичу Милославскому и Григорию Гавриловичу Пушкину, решение о войне уже было принято. Известно об этом было и патриарху Никону, принимавшему «у благословенья» посланников Войска 23 апреля{201}. Слова приехавшего в Москву 16 апреля 1653 года константинопольского патриарха Афанасия II Пателара о том, что он знает, кто будет освящать вырванный из рук агарян храм Святой Софии в Константинополе, тоже пали на более чем подготовленную почву. Афанасий II дважды избирался на константинопольский трон, последний раз в 1652 году, но всего на несколько дней, после чего был сведен с престола. В Москву он официально приехал для «милостыни» и остался здесь до конца 1653 года, пока не было принято историческое решение о «воссоединении». Патриарха принимали одновременно с посланцами гетмана Богдана Хмельницкого 22 апреля 1653 года. Представителей «черкас» снова стали называть «посланниками» и встречали по дипломатическому протоколу{202}. На следующий день, 23 апреля (память Георгия Победоносца), они удостоились приема у патриарха Никона, тоже обещавшего свою поддержку казакам. Патриарх Никон постарался наполнить прием важными церемониальными деталями. Ко двору патриарха посланники Войска ехали на «государевых лошадях», их встречала стрелецкая охрана «в цветном платье», а объявлял патриарший дьяк.
24 апреля 1653 года из Москвы, наконец, отправилось давно ожидавшееся «великое посольство» князя Бориса Александровича Репнина, Богдана Матвеевича Хитрово и дьяка Алмаза Иванова к польскому королю Яну Казимиру. У них были полномочия продолжать переговоры о наказании виновных в оскорблении царской чести. Посольство в Речь Посполитую претендовало также на посредническую миссию и должно было договориться о мире или, по крайней мере, «где съезду быть о миру» между королем Яном Казимиром и «черкасами». Выглядело это с точки зрения соседней страны странно, как вмешательство в ее дела. Шведскому резиденту де Родесу даже казалось, что посольство отправлялось «для проформы»{203}. Конечно, царь Алексей Михайлович находился в сложном положении: сделав выбор в пользу войны, он продолжал соблюдать определенные дипломатические правила и, как считается, до последнего надеялся на благоприятный исход переговоров с королем Яном Казимиром во Львове – центре Русского воеводства{204}.
Существовало и еще одно важное условие, без выполнения которого Алексей Михайлович не мог бы начать войну. Он должен был достигнуть согласия в «государевых» и «земских» делах с помощью собора. Уже вызов служилых людей на смотр 20 мая мог быть связан с идеей созыва Земского собора, так как в дальнейшем не представляло труда выбрать представителей на собор из членов Государева двора и служилых «городов», собравшихся в Москве. Но, по принятому порядку, следовало еще повсеместно объявить о выборе на сбор «добрых» людей для «совета», а грамоты об этом ушли поздно, только после отправки «великого посольства» из Москвы в Речь Посполитую{205}. 25 мая 1653 года на Земском соборе с участием выборных дворян и посадских людей из городов был впервые рассмотрен вопрос: «принимать ли черкас». Как извещали московских послов боярина князя Бориса Александровича Репнина с товарищами, «и о том все единодушно говорили, чтоб черкас принять» (при этом ссылались даже, как когда-то при выборах царя Михаила Романова, на расспросы «площадных людей»). Однако окончательное решение все равно было отложено до тех пор, «как вы с посольства приедете»{206}.
Политика по отношению к приему в подданство Войска Запорожского оставалась неопределенной в течение всего лета 1653 года. Практически одновременно в Москве проводили общий смотр войска, принимали на Земском соборе решение о приеме «черкас», вели тайные переговоры с Богданом Хмельницким и ждали результатов «великого посольства» к королю Яну Казимиру. Боярин Илья Дмитриевич Милославский, отпуская 13–14 мая 1653 года из Москвы посланников Кондрата Бурляя и Силуяна Мужиловского, называл гетмана подданным короля Яна Казимира. А патриарх Никон, отсылая свое письмо гетману, напротив, был категоричен в поддержке казаков и употреблял то обращение к адресату, к которому он уже привык (без всякого упоминания о подданстве). Вместе с посланцами Богдана Хмельницкого из Москвы уезжали голова московских стрельцов Артамон Сергеевич Матвеев и подьячий Иван Фомин. Они везли письмо Никона, подтверждавшее отсылку к гетману доверенного человека царя Алексея Михайловича и наказ о «тайных переговорах». Когда писарь Иван Выговский в предварительном разговоре пытался выведать их отношение к якобы полученным известиям о вступлении царя Алексея Михайловича в войну за Смоленск, Артамон Матвеев прямо отвечал – «несбыточное то дело» воевать Смоленск. Тайные переговоры с гетманом были блестяще проведены Артамоном Матвеевым: судя по его отчету, гетман обещал согласие на прием «в вечное холопство» московским царям и был готов дождаться результатов «великого посольства» к королю Яну Казимиру. Попутно московские посланники вели разведку и установили, что в подчинении у гетмана Богдана Хмельницкого находилось 17 полков, в которых насчитывалось примерно 100 тысяч казаков{207}.
Шведский резидент де Родес оставил уникальное свидетельство о том, что Артамон Матвеев был пасынком главы Посольского приказа дьяка Алмаза Иванова. Это самое очевидное объяснение начала дипломатической карьеры Артамона Матвеева, хотя успех его миссии, несомненно, основывался еще и на службе, замеченной царем Алексеем Михайловичем{208}. В Москве во время успешного дебюта Матвеева на дипломатическом поприще чрезвычайно усилилась позиция сторонников безоговорочного принятия казаков в вечное подданство и начала войны с Речью Посполитой. Общий смотр войска, проведенный царем с 13 по 28 июня на Девичьем поле в Москве, убедительно свидетельствовал о готовности к войне. Продолжавшие приезжать на Земский собор выборные, знакомясь с соборным приговором, поддерживали его на новых заседаниях собора, одно из которых, видимо, можно датировать 20 июня{209}. Так появилась на свет грамота царя Алексея Михайловича 22 июня 1653 года, впервые прямо и определенно подтверждавшая его намерение принять в подданство Войско Запорожское: «…изволили вас принять под нашу царского величества высокую руку, яко да не будете врагом креста Христова в притчю и в поношение (выделено мной. – В. К.). А ратные люди по нашему царского величества указу збираютца и ко ополчению строятца». Появление этой грамоты не может рассматриваться как кульминация «освободительного процесса», она была выдана в связи с отсылкой посольства стольника Федора Абросимовича Лодыженского под воздействием какого-то порыва ввиду распространившихся слухов о возможной присяге гетмана Богдана Хмельницкого в подданство турецкому султану. «А будет де совершенье нашие государские милости не будет, и вы де слуги и холопи турскому»{210}.








