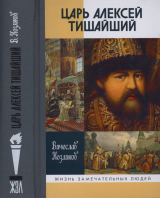
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц)
Рядом с патриархами находилось десять митрополитов (кроме четырех русских, шесть представителей вселенских церквей, в том числе главный обвинитель Никона газский митрополит Паисий Лигарид, записавший ход суда над Никоном), семь архиепископов и четыре епископа (среди них еще один враг Никона, епископ Вятский Александр). Как и предлагали вселенские патриархи, в Москву все-таки были вызваны представители «белорусской» (украинской) церкви – черниговский епископ Лазарь Баранович и Мстиславский Мефодий. Участвовали в заседаниях собора еще 30 архимандритов и девять игуменов всех крупных русских монастырей{525}. Члены Думы и высшие церковные чины были посажены на скамьях по правую и левую сторону Столовой палаты. Не забудем еще и совершенно не заметного здесь Симеона Полоцкого: деяния собора записаны латиницей именно его рукой.
Затем, когда «в четвертом часу дни» позвали на собор Никона, в Столовой палате разыгралась еще одна великолепная сцена русской истории, «закольцевавшая» драму оставления патриаршества: подсудимый патриарх целый час ждал перед закрытыми дверями, так как затворившиеся в ней члены собора вместе с царем не знали, как его принимать. Было уже согласовано соборное определение о вине патриарха и необходимости его отлучения от патриаршества, а вот самую первую встречу не продумали. Приняли в итоге решение всем сидеть при входе вызванного на суд Никона, но сами же и не выдержали и встали при виде вошедшего с крестом патриарха, благословившего своих судей.
Так Никон сразу же сломал заготовленную схему процесса. Но у этой истории было и продолжение. В ответ на приглашение судей сесть «на правой стороне близ государева места» Никон отказался, заявив, что он пришел не для суда, а для выяснения целей прихода вселенских патриархов в Москву: «Я де места себе, где сесть, с собою не принес, разве де тут, где стою, а пришел де он ведать, для чего они вселенские патриархи его звали»{526}. Если бы и дальше Никону дали произносить свои речи, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Но тут в ход собора вмешался царь Алексей Михайлович, сошедший «с своего государского места» и вставший рядом с сидящими чуть ниже от него вселенскими патриархами и Никоном. И они сошлись, стоя один напротив другого…
Алексей Михайлович отнесся к этому суду как к исповеди, только она нужна была ему не для раскаяния, а для утверждения собственной правоты. Когда еще можно было представить, чтобы царь своими собственными руками отдал вселенским патриархам челобитную Никона о каких-то монастырских рыбных ловлях на море у Кольского острога, где были написаны «на него великого государя многие клятвы и укоризны, чего и помыслить страшно»! Еще перед началом первого соборного заседания царь жаловался вселенским патриархам, говоря, что Никон призывает на него «суд Божий» из-за приезда в Москву «не со многими людьми», обвиняет в «мучении» из-за ареста «малого» – иподиакона Шушерина, и даже «исповедовался и причащался и маслом освящался» в Воскресенском монастыре перед самой поездкой. Порядок и содержание вопросов, заданных на соборе, также не оставляют сомнений в желании царя, опираясь на авторитет собора, снять с души тяжесть давней ссоры. Алексей Михайлович просил вселенских патриархов выяснить у Никона, почему он беспричинно оставил патриарший престол и писал царю «многие безчестья и укоризны».
На первом заседании собора вселенским патриархам была прочитана перехваченная грамота Никона «к цареградскому патриарху» Дионисию. Оказывается, царя Алексея Михайловича особенно задели не объяснения Никоном истории его ухода из Москвы, а то, что было написано о прежних царях: «посылай де он Никон патриарх в Соловецкой монастырь для мощей Филиппа митрополита, его же мучи царь Иван неправедно». Теперь патриарх должен был дать ответ еще и «в бесчестиях и укоризнах» в адрес Ивана Грозного! Следующий «личный» вопрос, предложенный царем на суд вселенских патриархов: «чтоб бывшаго Никона патриарха допросить: в какие архиерейские дела он великий государь вступаетца». И в конце первого соборного дня в присутствии Никона царь Алексей Михайлович просил узнать еще о пророчествах Никона: «бывшей Никон патриарх говорил великому государю: Бог де тебя судит, я де узнал на избрании своем, что тебе государю быть до меня добру до шти лет, а потом быть возненавидену и мучиму».
Целый день патриарх Никон стоя отбивался от своих судей, отстаивая свою правду в прямом смысле. Снова ему были предъявлены давно уже сданные в архив Посольского приказа и снова извлеченные оттуда и отданные заранее на собор 5 октября 1666 года документы об оставлении патриаршего престола «с клятвою» и отречении от своего патриаршего сана. Обвинение строилось на каких-то старых письмах, про которые Никон говорил, что он их не писал, на свидетельствах бывших на соборе лиц, например, окольничего Родиона Матвеевича Стрешнева, рассказывавшего о поведении Никона после оставления патриаршества. Никон настаивал на своей версии: что ушел, сохраняя патриарший сан, а остальное на него «затеяли».
Перешли к разбирательству несчастного дела 10 июля 1658 года. Главные свидетели и участники были здесь. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово говорил, что просил прощения за нечаянный удар патриаршего человека и Никон простил его. В общем, разбирали все обиды, включая даже несчастную собачку, обученную боярином Семеном Лукьяновичем Стрешневым подражать «благословлению» передними лапами и якобы названную им «Никоном» (чего, как клялся окольничий царю Алексею Михайловичу, не было). Выяснилось, что Никон уже простил и этого обидчика, заплатившего щедрую церковную милостыню, и даже выдал ему разрешительную грамоту. Вспомнили и про действия Никона на патриаршем престоле, когда осудили епископа Коломенского Павла, после чего тот безвестно пропал. Пытались обвинить Никона в неуважении к другим патриархам и церковным догматам. Словом, за один день успели высказать всё, что накопилось за годы противостояния между царем и патриархом{527}.
Суд над московским патриархом, если использовать образы любимой царем Алексеем Михайловичем охоты, был похож на травлю медведя. Никона, как большого и по-прежнему опасного зверя, пытались истощить словесными ударами, а он неуклюже оборонялся, отмахиваясь в пустоту, всё больше раздражаясь на своих обидчиков. «Промежду же сими они оглагольницы: Павел, Иларион и Мефодий, – писал Иван Шушерин, вспоминая имена главных врагов патриарха, – яко зверие диви обскачуще блаженнаго Никона, рыкающе и вопиюще нелепыми гласы, и безчинно всячески кричаху лающе…» Главный «охотник» – царь Алексей Михайлович – медлил и сомневался, ему всегда нужен был подпор. Когда-то он мог опереться на боярина Бориса Ивановича Морозова и того же Никона. Теперь вокруг него были не друзья и советники, а слуги и «холопы», готовые верно исполнять всё, что скажет царь, но совсем не умевшие действовать без царского указа.
Иван Шушерин приводил показательный эпизод во время этого соборного заседания. Когда царь, видя, что его поддерживают только несколько епископов, напрямую обратился к боярам («возопи гласом велим с яростию»): «Боляре, боляре, что вы молчите и ничего не вещаете и мене выдаете, или аз вам ненадобен?» – в ответ выступил только один боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий, что-то проговоривший в пользу царя. От патриарха Никона, конечно, эта размолвка не укрылась, он давно обвинял царских советников, настраивавших царя против патриарха. Поэтому Никон не преминул возможностью поквитаться с «боярским синклитом»: «О царю! Сих всех предстоящих тебе и собранных на сию сонмицу, девять лет вразумлял еси и учил, и на день сий уготовлял, яко да на нас возглаголют; но се что бысть: не токмо что глаголати умеяху, но ниже уст отверсти можаху».
Далее Никон вообще привел Алексея Михайловича в ярость, заметив с издевкой, что если бы царь приказал боярам побить его камнями, «то сие они вскоре сотворят», а чтобы спорить с ним («а еже оглаголати нас»), то можно еще девять лет их учить, «и тогда едва обрящеши что». Иван Шушерин описывает, что стало с царем после таких слов: «Сие же слышав царь вельми гневом подвижеся и от ярости преклонися лицем своим на престол свой царский на мног час, и посем воста». В последней надежде он обратился к черниговскому епископу Лазарю Барановичу как к беспристрастному судье, не встречавшемуся ранее с Никоном, но и тот ничем не мог помочь, произнеся слова, которые любил повторять сам царь, правда, совсем по другому поводу: «О благочестивый царю, како имам против рожна прати, и како имам правду оглагольствовати, или противитися»{528}.
Наверное, Алексей Михайлович почувствовал себя в одиночестве, отойдя к царскому месту «и став у престола своего и положи руку свою на устех своих молча на мног час». Достоверен жест царя Алексея Михайловича, державшегося при разговоре за лестовку патриарха. Тогда и мог состояться приведенный выше разговор об оскорбительном для царя причастии и приготовлении Никона к смерти накануне отъезда из Воскресенского монастыря. Говорили царь и патриарх и о других вещах, если только Иван Шушерин не использовал литературный прием, чтобы передать «речи» царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. По признанию самого Никона в более позднем послании, когда он просил прощения у царя Алексея Михайловича в своих «винах» (как он их понимал, а не в чем его обвиняли), личный разговор их на соборе всё же состоялся. Но сам Никон тогда обратился с просьбой к царю: «И егда позван я на собор, и ты, великий государь, подходя ко мне говорил: «Мы, де, тебя позвали на честь, а ты, де шумишь». И я тебе, великому государю говорил, чтобы ты, великий государь, мою грамоту [константинопольскому патриарху] на соборе том не велел чести, а переговорил бы ты, великий государь, наедине, и я бы всё зделал по твоей, великого государя, воле. И ты, государь, так не изволил, и я поневоле против твоих писаных слов говорил тебе, государю, прекословно и досадно, и в том прощения же прошу»{529}.
В этом признании – объяснение намеренно вызывающего поведения Никона на соборе. Уверенный в собственной правоте патриарх не хотел никого слышать, а царь не мог ему уступить без потери своей чести. Судя по протокольной записи первого заседания, так они и провели целый день, стоя друг против друга и публично выясняя накопившиеся царские претензии к патриарху. А далее, как значится в «Дневальных записках» Приказа Тайных дел (бесстрастно и бестолково для всей этой великой истории небывалого личного противостояния царя и патриарха), «изволил великий государь итить за столовое кушанье в 3-м часу ночи»{530}.
Патриарху Никону и его свите, напротив, вечером после первого соборного заседания опять не дали никакой еды, а пристав отказался докладывать об этом своим начальникам. Тогда Никон вышел к своей многочисленной охране и громко обратился с требованием донести царю, что патриарх «и прочие с ним от глада скончаваются». Только тогда весть дошла по цепочке от стрелецких сотников до их полковников, а дальше до ближних бояр и самого царя. Алексей Михайлович, конечно, не хотел выглядеть мучителем, поэтому распорядился отослать на подворье к патриарху и его свите «брашна и пития». Но Никон и здесь сумел кольнуть царя, отказавшись принять присланную им пищу и требуя, чтобы ему доставили всё необходимое из привезенных им из Воскресенского монастыря запасов. Патриарх использовал ситуацию для нового нравоучения царю Алексею Михайловичу: «Писано бо есть, яко лучше есть зелие ясти с любовию, нежели телец упитанный со враждою». Царь воспринял ответ Никона с гневом – «вельми оскорбися, паче же наивящше на гнев подвижеся», жаловался вселенским патриархам, но вынужден был согласиться и разрешить привоз монастырских запасов{531}.
Следующее соборное заседание снова происходило в Столовой палате, в понедельник 3 декабря, в присутствии царя Алексея Михайловича, но без участия Никона; оно продолжалось не так долго, как накануне, «до 5-го часа дни». Очевидно, что надо было решить, как заставить Никона признать обвинения. Царь вновь предъявил перехваченную грамоту патриарха Никона к константинопольскому патриарху Дионисию как доказательство несправедливых обвинений в «еретичестве»: «бранясь де он патриарх с митрополитом газским», написал, что «царское величество и весь освященный собор и все православное христианство от святыя восточные и апостолские церкви отложились и приступили к западному костелу». Для того чтобы отмести подозрения, собору представили некое «сыскное дело» о Лигариде, доказывавшее, что «он православен». Конечно, подтвердить православие Паисия Лигарида было легче, чем справиться с аргументами Никона.
Были рассмотрены и грамоты самого Никона, где он именовался патриархом, его отступления в богослужении, например, служба на иордани в день Богоявления «в навечери», а не днем в сам праздник. Все теперь обращалось для того, чтобы показать, что Никон не единожды «солгал», а значит, его можно судить. Напротив, окольничего и оружничего Богдана Матвеевича Хитрово окончательно оправдали. Оказалось, что патриарший дворянин был намеренно послан Никоном, «чтоб смуту учинить», а царский слуга сделал все правильно, «прибив» его.
Патриарх был приглашен на собор только в среду 5 декабря. Тогда и решилась его судьба. Судьи продолжали настаивать на своем и обсуждать те же пункты, что и в первом заседании. Только на этот раз было решено опереться на авторитет и толкования церковных правил вселенскими патриархами и установления из печатной Кормчей. Вселенские патриархи, слушая переводчиков, аргументы Никона, конечно, в полной мере воспринять не могли. Его острые реплики, адресованные судьям, только утверждали их в своей правоте; к тому же они достаточно времени находились в Москве и уже понимали, для чего были приглашены: освятить своим авторитетом заранее приготовленный приговор. Московский патриарх настаивал, что вселенского патриарха может судить только собор всей «вселенныя», и отказывался признавать суд только двух из четырех вселенских патриархов: «От сего де часа свидетельствуюся Богом, не буду де перед ними патриархи говорить дондеже констянтинополский и еросалимский патриархи будут».
Похоже, терпение окончательно оставило Никона. Загнанный в угол, он вступил в неравную схватку со всеми сразу – церковными иерархами, думцами и самим царем. Ему читали церковные правила об архиереях, добровольно оставлявших сан, а он объявлял, что это «враки». Появившиеся после поместных соборов правила введены греками «от себя», напечатаны «еретиками», а в русской Кормчей отсутствовали и не имели значения для Московской церкви. Рязанский архиепископ Иларион обвинял его, показывая грамоту, где Никон случайно написал себя «патриархом Нового Иерусалима». Никон свою руку признал: «Рука моя, разве описался…» Все в один голос обвиняли Никона, что он произносил пресловутую «клятву», или «анафему». Дальше всех пошел думный дьяк Алмаз Иванов, приписавший Никону слова в грамоте царю Алексею Михайловичу «о действе вайя» (то есть о «шествии на осляти» в Вербное воскресенье), что не подобает ему возвратиться на патриарший трон, «яко псу на своя блевотины, так ему на патриаршество». Ссылаясь на это обвинение, «архиереи говорили, что его Никона никто не изгнал, сам отшол с клятвою».
Суть позиции Никона сводилась к противоположному утверждению: «Я де не отрекался от престола, то де на его затеяли». Но для доказательства этого утверждения надо было объяснить причины ухода из Москвы, и Никон стал говорить про царский гнев, вспоминая при этом другие события: «как де на Москве учинился бунт, и ты де царское величество и сам неправду свидетельствовал, а я де, устрашась, пошол твоего государева гнева». Суть этой отсылки к недавним событиям «Медного бунта» не очень понятна, но напомнить царю о его «неправде» и «гневе» означало полностью изменить картину мира собравшихся на соборе ближних людей царя и церковных архиереев. Возмутился «непристойными речами» и новым «бесчестьем» от Никона и царь Алексей Михайлович, говоря, что «на него великого государя никто бунтом не прихаживал, а что де приходили земские люди, и то де не на него великого государя, приходили бить челом ему государю об обидах». Такое напоминание об одном из поражений царя вызвало общую отповедь светских и церковных участников собора: «как он не устрашитца Бога, непристойные слова говорит и великого государя бесчестит».
Никон продолжал наступать. Кроме прямых упреков царю, он стал оспаривать права присутствовавших на соборе вселенских патриархов – александрийского и антиохийского. Никону было известно, что они потеряли свои кафедры и на их места были назначены другие владыки. И это было правдой! Сами патриархи вынуждены были допустить, что в их отсутствие на их кафедрах могли произойти какие-то изменения: «разве де турки без них что учинили». Поэтому, когда антиохийский патриарх Макарий напомнил Никону о звании «вселенского судии» у александрийского патриарха Паисия, Никон ответил грубо: «Там де и суди. А во Александреи де и во Антиохии ныне патриархов нет, александрейской живет во Египте, а антиохийский в Дамаске». Никон предлагал поклясться вселенским патриархам на Евангелии для подтверждения своих прав, что они отказались делать. Никон выражал сомнения даже в содержании и подписях на свитках константинопольского и иерусалимского патриархов, отговариваясь незнанием их «руки». Досталось и антиохийскому патриарху Макарию, своим словом подтверждавшему истинность подписей: «Широк де ты здесь, а как де ответ дашь перед констянтинопольским патриархом?»
Показателен итог этих препирательств. Никона всё равно обвинили по всем предъявленным ему статьям, главным образом потому, что увидели, как он противился воле царя Алексея Михайловича. Собор с участием двух вселенских патриархов вынес свой вердикт московскому патриарху об извержении его из сана: «И отселе не будеши патриарх, да не действуеши, но будеши яко простый монах». В перечислении «вин» Никона первые два пункта содержали упоминание о его действиях против царя Алексея Михайловича: отрекался от патриаршего престола «безо всякие правилные вины, сердитуя на великого государя», и обесчестил царя обвинениями в «приложении к западному костелу» и «еретичеству». Не забыли вселенские патриархи и про свое бесчестье – называл их «непатриархами», назвал «враками» соборные правила, «будто еретики печатали». Должен был ответить Никон и за пропажу без вести изверженного им из сана и сосланного в новгородский Хутынский монастырь коломенского епископа Павла. Его исчезновение (и, как были уверены старообрядческие публицисты, сожжение за веру в срубе) стало еще одним тяжелым обвинением Никона: «И то тебе извержение вменитца в убивство»{532}.
Последнее соборное заседание, куда пригласили Никона, состоялось 12 декабря 1666 года (царь Алексей Михайлович еще раз встречался на несколько часов с вселенскими патриархами вечером 8 декабря). Крест у патриарха Никона отобрали еще тогда, когда объявили «вины» 5 декабря, поэтому в Патриаршую крестовую палату он шел уже не так торжественно, как раньше, и вынужден был ждать в сенях приглашения войти. Вселенским патриархам предстояло огласить готовившийся целую неделю официальный вердикт и до конца исполнить свою миссию. Согласно выписке из соборного суда, произошло это в Крестовой палате «на соборе при властях и при боярех, и при думных людях». Однако было всего несколько человек, которых царь прислал по просьбе патриархов «от своего царского синклита». Сам царь Алексей Михайлович уклонился от того, чтобы лично присутствовать при последних действиях церковного собора в «деле Никона», отправив бояр князя Никиту Ивановича Одоевского и Петра Михайловича Салтыкова, думного дворянина Прокофия Кузьмича Елизарова и думного дьяка Алмаза Иванова. Они и выслушали соборный приговор вместе с Никоном, обвиненным в «смятении» православного царства: «влагаяся в дела неприличные патриаршему достоинству и власти». Многие обвинения были вписаны в последний момент, дополнительно упоминая об обидах, нанесенных Никоном вселенским патриархам на соборном заседании 5 декабря{533}.
Даже повергнутый патриарх Никон был опасен своим врагам. Когда вселенские патриархи в надвратной церкви Чудова монастыря приступили к выполнению обряда снятия патриарших символов власти перед ссылкой на Бело-озеро в Ферапонтову пустынь, он не стал слушать их поучений о мирной жизни в монастыре, а бросил им в лицо еще одно обвинение в корысти: «Знаю де я и без вашего поучения, как жить, а что де клобук и понагию разделили по себе, а достанетца де жемчугу золотников по 5 и по 6 и болши и золотых по 10»{534}. На следующий день монах Никон уже ехал в сопровождении архимандрита нижегородского Печерского монастыря Иосифа и под охраной одного из первых офицеров (а потом и генералов) Московского выборного полка Агея Алексеевича Шепелева в ссылку из Москвы.
Царь Алексей Михайлович попытался напоследок как-то помириться с Никоном, но тот отказался это делать. Спустя несколько месяцев, уже находясь под охраной в Ферапонтовом монастыре, «седяй во тме и сени смертней, окованный нищетою и железы», Никон написал царю новую грамоту, опровергая каждое из обвинений, прозвучавших на соборе: «А что патриарси и судьи с ними судили, ни едина вина обрелась». Порядок перечисленных вин показателен, потому что в документах о соборе они перечислены по-разному, а здесь Никон сам их «выстроил», как запомнил. «Первая вина написана, – говорилось в грамоте, – что я тебя, великово царя государя, безчестил, мучителем называл. И то солгали». Вторая статья – Никон назвал царя Ровоамом да Гиозиею, и хотя Никон использовал упоминавшегося в Евангелии от Матфея царя Ровоама для сравнения с действиями царя Алексея Михайловича, это было, по словам опального патриарха, совсем другое. «А про Гиозию солгали», – опять добавлял Никон. Третья статья – о бесчестии вселенских патриархов. Никон опять вспоминал, что эти патриархи, по их же признанию, жили «в чюжем дворе», один – в Египте, а другой в Дамаске. «И то им какое зло?» – риторически вопрошал он. Четвертая вина – «отшествие» со своего престола, о чем лишенный сана патриарх опять рассуждал очень пространно, хотя по сути ничего не мог добавить нового.
В белозерской тиши Никон успел обдумать и понять, что весь суд был предрешен заранее и его гонители лишь запутывали ход дела, «потому у них и все неправедно писано, потому что вин моих прямых не обрелось достойных извержению». Осужденный патриарх не признавал заранее предрешенного суда: «Все уже у них было до суда изготовлено. У тебя великого царя государя, и подьячие лутче то разсудят. Егда судят пишут обоих речи – исца и ответчика, и прочитают обоим, так ли истец и ответчик говорил, и потом всяк свои речи рукою закрепливает, и потом разсуждают речи их, и выписывают из законов ваших царских. А тут все не по закону заповеди было». Никон не верил этому суду еще и потому, что на нем пытались судить то, что было между ним и царем Алексеем Михайловичем: «Мы с тобою, великим государем царем, говорили, а они наших речей ничово не знают… А судьи все дремали да спали, а писал неведомо какой человек, что ты, великий царю прикажешь. А что написал – тово нихто не слыхал».
Поздно было переделывать уже сделанное. Никон мог горделиво говорить, «а что клобук снял со жемчюхи и иной дали, ничтоже мне о жемчюге том попечение». Но писал он эти слова, находясь за сотни верст от Москвы, жалуясь на действия пристава Степана Наумова («пристав зело-зело прелют»). Из этого же послания узнаем и о желании царя Алексея Михайловича получить благословение от Никона при его отъезде от Москвы. Но и в ту минуту Никон остался верен себе и не примирился с царем: «А что ты, великий царю, присылал ко мне в час, в он же во изгнание мя повезли, окольничева своего Иродиона Стрешнева с милостынею и просити прощение и благословение от меня тебе, великому царю государю, и царице государыни, и чадом вашим, и царевнам государыням, и я ему сказал ждать суда Божия». И еще несколько раз Никон отказывался от посылки благословения царю, пока 7 сентября 1667 года все тот же пристав Степан Наумов не передал ему царские слова «просити о умирении». Только тогда он наконец-то послал царю то благословение и прощение, о котором его просили с самого времени отъезда из Москвы. Неужели Никон сдался? Нет! Тот, кого сделали на соборе простым монахом, собственноручно подписался при этой посылке благословения: «Смиренный Никон, милостию Божиею патриарх, тако свидетельствую страхом Божиим и подписал своею рукою (выделено мной. – В. К.)»{535}.
Год спустя после начала соборных заседаний дошла очередь и до нового обвинения расстриженного протопопа Аввакума перед вселенскими патриархами. Все время, пока шел суд над Никоном, Аввакум содержался поблизости от Москвы, его враги надеялись, что он смирится, а сам протопоп стремился тем временем добиться встречи с царем. Он обратился с челобитной к царевне Ирине Михайловне, говоря ей: «Ты у нас по царе над царством со игуменом Христом игумения». Аввакум просил царскую сестру, знавшую его еще со времен Стефана Вонифатьева и посылавшую в первую ссылку священнические «ризы», устроить ему суд со своими противниками. Аввакум думал, что победит в открытом диспуте перед вселенскими патриархами и всем собором, не понимая, что весь собор был настроен против него: «Царевна-государыня, Ирина Михайловна, умоли государя-царя, чтобы мне дал с никонияны суд праведной, да известна будет вера наша християньская, и их никониянская»{536}.
30 апреля 1667 года Аввакума привезли из Боровского монастыря в Москву, где опять «держали скована». А дальше продолжилась целая череда увещеваний и уговоров. Сначала дважды, 3 и 11 мая, это пытались сделать чудовский архимандрит (будущий патриарх) Иоаким и архимандрит Спасо-Ярославского монастыря Сергий («Волк», дает ему прозвище Аввакум). Такая настойчивость будет понятна, если вспомнить, что именно 13 мая 1667 года (ровно год спустя после расстрижения протопопа Аввакума) вселенские патриархи на соборе произнесли анафему всем, кто не соглашался с их постановлениями о признании исправленных Служебных и Требников, пении трегубой аллилуйи и троеперстном знамении.
17 июня состоялся суд перед вселенскими патриархами над старцем Григорием Нероновым (раскаявшимся на соборе) и протопопом Аввакумом. Позднее в записке «о напаствовании и терпении новых страдалцов» – протопопа Аввакума и других осужденных к урезанию языка и заточению в Пустозерск – упоминалось об этом событии: «Июня в 17 день имали на собор сребролюбныя патриархи в Крестовую, соблажняти и от веры отвращати, и уговаривая не одолели». С другой стороны, и готовившие осуждение нераскаявшегося протопопа судьи (они называли Аввакума «блядословным», но не приходится сомневаться, что в ответ слышали от протопопа еще более сильные слова) делали всё, чтобы обвинить его в отступлении от церкви и отклонить прозвучавшие обвинения в «неправославности» собора. Попытки царя Алексея Михайловича повлиять на Аввакума через своих доверенных лиц, в частности присланного 4 июля думного дьяка Дементия Башмакова, просившего осужденного собором протопопа молиться за царя, успеха не имели.
По материалам соборных заседаний, одна из последних попыток увещевания Аввакума и других сторонников старой веры была предпринята 5 августа 1667 года, когда «для допросу церковных раскольников» протопопа Аввакума, попа Лазаря и чернеца Епифанца (они названы «бывшими» протопопом, попом и монахом) были направлены архимандриты Владимирского Рождественского монастыря Филарет, Хутынского Иосиф и снова Спасо-Ярославского Сергий. Среди вопросов о признании истинности церкви и ее таинств, на которые они должны были получить ответы, был еще один, напрямую касавшийся царя Алексея Михайловича: «Православлен ли он и благочестив ли», так же как «православны ли и благочестивы ли» вселенские патриархи и их собор? Создается впечатление, что Аввакума и других «раскольников» хотели вынудить произнести обвинения в адрес царя, тогда бы тот не стал больше защищать протопопа.
Аввакум подал письменную записку («письмо своей руки»), и вот его ответ: «Церковь православна, а догматы церковные от Никона еретика, бывшего патриарха, искажены новоизданными книгами». Он признавал только книги, изданные при прежних пяти московских патриархах, бывших до Никона. Но, главное, сказано им про царя Алексея Михайловича: «Государь… православен, но токмо простою своею душею принял от Никона, мнимаго пастыря, внутренняго волка, книги, чая их православны, не разсмотря плевел еретических в книгах, внешних ради браней, понял тому веры»{537}. Такой ответ судьям не пригодился, и они не использовали его в окончательной редакции обвинений.
Помешать решению о ссылке Аввакума в Пустозерск царь тоже не смог, не согласившись лишь с урезанием языка известного проповедника, в отличие от его будущих пустозерских соузников попа Лазаря и инока Епифания, подвергшихся наказанию 27 августа в Москве «на Болоте». Последнее, что сделал царь Алексей Михайлович для своего несостоявшегося духовника, – попросил через доверенного слугу дьяка Дементия Башмакова молиться за царя, что Аввакум и исполнил. В последние дни лета 1667 года Аввакума, Лазаря и Епифания увезли из Москвы.
Деяния собора 1666/67 года с участием вселенских патриархов обозначили трагическую грань между старым и новым состоянием церкви. Стремление устранить Никона из политической жизни, точнее, избавиться от его влияния на царя Алексея Михайловича, привело совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали. Даже самые последовательные обвинители Никона на соборе, вроде рязанского архиепископа Илариона, были удивлены, когда услышали слова общего приговора о том, что «царство» выше «священства», и не стали подписываться под этим утверждением. Помог Паисий Лигарид, предложивший записать так: «священство» выше в делах церкви, а «царство» – в светских.
Случившийся переворот в церковных воззрениях привел к торжеству чина, иерархии, писаной нормы над глубокой верой и следованием собственным убеждениям. Внешне это выразилось в разделении православных людей, в отказе старообрядцев от государства и «официальной» церкви, предавшей анафеме сторонников сохранения прежних порядков церковной жизни. Раскол совершился, подтвердив допустимость насилия для утверждения веры. Живая вера была заменена мертвой, глубина духа – торжеством начетничества и приспособлением церкви к интересам светской власти. Отказ прочувствовать боль людей, лишенных прежней веры, насилием загонявшихся в «утвержденный» обряд, проходивших через показные отречения, тюрьмы и казни, не прошел бесследно. История церковного собора 1666/67 года изменила и царя Алексея Михайловича; ему тоже пришлось отречься от людей, с которыми он ранее делился своими душевными переживаниями. С кем было теперь ему «душевно» беседовать, кого просить о молитвах за себя и свою семью? Новый царский духовник – протопоп Благовещенского собора Андрей Саввинов, назначенный 30 января 1667 года, для таких бесед явно не годился, а следующий патриарх, Иоасаф II, возведенный в сан 31 января 1667 года{538}, не имел уже такого влияния на царя и общего представления о миссии Русской церкви во вселенском Православии.








