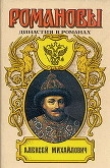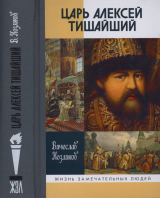
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц)
«ТИШАЙШИЙ» В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
(Вместо заключения)
Летопись тридцати с лишним лет власти царя Алексея Михайловича завершена. В книге представлено не «житие», или «жизнеописание», а попытка профессионального взгляда историка на события, предопределившие развитие Московского царства в XVII веке. Детали биографического характера, относящиеся к разным периодам правления царя Алексея Михайловича, тоже сохранены – насколько позволяли источники.
Очевидно, что историки остаются в долгу перед эпохой, связанной с именем «Тишайшего». В исторической памяти она превратилась в московскую «старину», противопоставленную временам Петровских реформ и имперского обновления. Отсюда несколько снисходительный и не всегда серьезный подход к упоминаниям о «царе и боярах» как древнем способе управления. Нечувствительность к исторической традиции и вызревавшим внутри нее переменам, одобрение крутой ломки привычного порядка жизни надолго стали невыученным уроком русской истории. Конечно, «река времен» уносит всех царей и их дела, но ведь есть и какой-то общий замысел? Ведь именно правление царя Алексея Михайловича по-настоящему открыло преемственную от Рюриковичей историю династии Романовых.
Современники царя Алексея Михайловича еще долго вспоминали его царствование, и ему не зря было дано прозвище «Тишайший». Понятию «тишина» соответствовала хорошо известная набожность царя: не случайно XVII век – классический век расцвета идущих из Древней Руси традиций церковной архитектуры и иконописи. Но и эта точка отсчета – от зримых образцов культуры – будет не точна, если приглядеться к исконному значению «тишины» в представлениях о власти. Обратившись к «Степенной книге», составленной при Иване Грозном, можно встретить и других заметных правителей, кому приписан идеал воплощения «тишины». «Кроток, благоприступен, тих зело. милостив и человеколюбив ко всем» – так звучит эпитафия святому князю Владимиру в «первой степени», открывавшей «Книгу степеней царского родословия»; про основателя династии московского правящего дома Ивана Калиту сказано: «В дьни же его бысть тишина велия християном по всей Русьтей земьли на многа лета»{764}. Не случайно при царе Алексее Михайловиче существовал проект создания новой «Степенной книги» в Записном приказе.
Имя «Тишайший» даровалось как награда, ради особых заслуг правителя, время которого потомки могли только хвалить и вспоминать как лучший век. Оно означало не спокойствие, а признание «правильности» власти в Московском царстве. Всего этого царю Алексею Михайловичу удалось добиться в конце царствования, когда приезжие дипломаты говорили о нем: «Нынешний царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями. Он покорил себе сердца всех своих подданных, которые столько же любят его, сколько и благоговеют пред ним»{765}.
Преодолевая привычные каноны историографии, сосредоточенной на «бунташных временах», пришлось обратиться к хорошо забытому, «летописному» – «год за годом» – подходу к описанию власти царя Алексея Михайловича и посмотреть не только на чрезвычайные события, происходившие в Московском царстве, но еще и на обычные дела царствования. Так становится заметнее известный ритм развития государства, когда каждые пять-семь лет в нем происходили серьезные перемены. Влияние царя Алексея Михайловича на главные события в царстве было, конечно, определяющим, но надо еще помнить, что и они меняли царя и его власть.
Центральными событиями всего правления Алексея Михайловича стали так называемое «воссоединение» с Украиной и сегодня почти забытая Русско-польская война 1654–1667 годов. Возглас переяславского майдана «волим царя православного» в 1654 году или «гром русского оружия» при взятии Минска и Вильно, осаде Риги и готовившемся походе на Варшаву уже не слышны в прошедших веках. Не вспоминают и об обещании царю Алексею Михайловичу польского престола. Остается недооцененным дипломатический прорыв, осуществленный Посольским приказом, вернувшим страну из небытия в «оркестр» европейской политики, забыта подготовка завоевания Крыма. Между тем тринадцатилетняя русско-польская война перевернула самые основания Московского государства. После 1667 года состоялся переход уже к настоящей Новой России.
Новая Россия рождалась даже не в одной, а в нескольких войнах: сначала с Речью Посполитой, потом со Швецией, а еще с Крымским ханством и Османской империей. Историческая полоса, растянувшаяся, с перерывами, на двадцать с лишним лет, несмотря на все пережитые в это время трудности и «моровое поветрие», явно относится не ко времени поражений, а ко времени общей победы Московского государства. Именно при царе Алексее Михайловиче определилось будущее положение России, отраженное в новом царском титуле – «Великой, и Малой и Белой России самодержца». «Малороссийский вопрос», как говорил об этом историк Василий Осипович Ключевский, был поставлен и решен совсем не так, как думалось гетману Богдану Хмельницкому, обратившемуся с просьбой к царю Алексею Михайловичу принять Войско Запорожское под свою «высокую руку». Одна последующая смена гетманов свидетельствовала о сложном и запутанном характере событий. Логика начатой войны с Речью Посполитой, а потом Андрусовского мира в итоге привела к трагичному и сказывающемуся в веках разделению на Левобережную и Правобережную Украину. Речь даже не о формировании новой границы по Днепру, а о более глубоком противопоставлении двух частей Европы – Запада и Востока.
Рассматривая историю через призму военных успехов, можно не заметить, что усиление армии не является безусловным плюсом, так как расплата за подчинение внутренней политики целям войны тоже была высокой. После 1654 года стало не до земских соборов, царь Алексей Михайлович полностью устранил «мир» от решения главных вопросов жизни Русского государства. Переменились отношения власти и подданных, потеряло свое значение дворянское представительство на соборах, разрушилось самоуправление. Академик Михаил Михайлович Богословский справедливо назвал вторую половину XVII века временем перехода от «самодержавно-земского» к «самодержавно-бюрократическому» государству и объяснил механизм подмены самоуправления бюрократизацией: «В XVII в. казенное тягло приняло громадные размеры и задало местным обществам непомерную работу. Всецело поглотив всё внимание этих обществ, оно не только отодвигало на второй план все местные интересы, но совершенно их душило и потому убивало в обществе всю необходимую для самоуправления энергию»{766}.
Устранение людей от участия в управлении очень быстро обернулось торжеством неконтролируемого воровства приказных дельцов, в судах стала процветать знаменитая «московская волокита», а «сильные люди» из окружения царя оказались недостижимы для решения каких-либо земельных и судебных споров. «Корысть» стала царствовать в приказах, особенно когда случился неудачный эксперимент с введением медных денег, закончившийся масштабным воровством и фальшивомонетничеством. Показательно, что самые тяжелые социальные противоречия в Московском государстве обнажились именно во время русско-польской войны, когда и случился знаменитый «Медный бунт» 1662 года.
В царствование Алексея Михайловича состоялись исключительные по своему значению события в истории русской церкви: перенесение в Москву христианских святынь с Востока и приезды вселенских патриархов. План строительства Нового Иерусалима отвечал церковной программе царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Совсем не случайно, заказывая новые царские регалии, их сделали «против образца диадимы благочестиваго греческаго царя Константина»{767}. Алексей Михайлович стремился обосновать новое место Московского царства во вселенском Православии, что и стало постоянным побудительным мотивом его действий и его мечты о завоевании Константинополя. Патриарх Никон до определенного времени был главным советником царя, поэтому их конфликт имел такие тяжелые последствия. Трагичен и свершившийся на церковном соборе 1666/67 года Раскол русской церкви.
Биографическое повествование было бы неполным без рассказа о характере «Тишайшего». «Прожив» год за годом вместе с царем, познакомившись с жизнью во дворце, заседаниями Боярской думы, приемами послов, описаниями походов на войну и богомолье, прочитав письма, написанные царем Алексеем Михайловичем сестрам и жене, своим друзьям и советникам, можно, кажется, лучше узнать о его внутреннем душевном состоянии. Главное, появляется возможность увидеть «Тишайшего» разным, понять, что давал менявшийся опыт власти, какие жизненные ценности и нравственные правила заставляли его действовать так или иначе и принимать свои решения. Всегда важно помнить и про исторические обстоятельства, формировавшие и менявшие характер Алексея Михайловича. В начале царствования мы видим порывистого в поступках юного царя, позднее – уверенного в себе самодержца и военачальника, вернувшего Смоленск в состав Московского государства. Потрясения «Медного бунта» привели к отдалению Алексея Михайловича от прежнего окружения, ударом для него стало и дело патриарха Никона. После Андрусовского триумфа 1667 года случился семейный крах, совпавший с «Разинщиной». «Осень власти» царя Алексея Михайловича всё более напоминала времена Грозного царя… Но с важным исключением при сопоставлении двух правителей: самодержавие «Тишайшего» царя никогда не превращалось в мучительное для подданных самовластие Ивана Грозного!
Очевидная любовь Алексея Михайловича к порядку, к «чину», благолепию, христианским добродетелям уживалась в нем и с обычным весельем, увлечением соколиной охотой, а в последние годы еще и с интересом к придворным «потехам». Лучше всего образ мыслей царя, размышлявшего о соотношении «чести» и «чина», выражен в «Уряднике сокольничьего пути»: «Честь укрепляет и возвышает ум, чин управляет и утвержает крепость… Без чести же малитца и не славитца ум, без чину же всякая вещь не утвердитца и не укрепитца». И там же сказано о главном правиле царя: «делу время и потехе час», или «время наряду и час красоте»{768}.
История о царе Алексее Михайловиче неизбежно связана еще и со сравнением его царствования с Петровской эпохой. Как правило, выбор делается в пользу прогресса, время детей отменяет время отцов. Однако в описании исторических перемен, связанных с именем Петра Великого, существует известный перекос. Сравнение возникшей в начале XVIII века Российской империи с предшествующими временами строится на противопоставлении, а не на поисках преемственности. Новая страна, кажется, возникает из небытия и сразу становится исполином.
Но так ли это было на самом деле? Вспомним еще раз прозвучавшие когда-то откровением слова великого историка Сергея Михайловича Соловьева о XVII веке: «Народ собрался в дорогу и ждал вождя»{769}. Время этих сборов, конечно, совпало с эпохой царствования «Тишайшего» царя. Тогда родился реформаторский дух, потребовавший переустройства армии по новым образцам; тогда были поставлены задачи завоевания выхода к Черному и Балтийскому морям, решавшиеся позднее Петром I. На первый, поверхностный взгляд, «вздыбив» страну, переодев преображенцев в иноземные костюмы и насадив новые учреждения – Сенат, коллегии, губернии, изменив взаимоотношения между людьми, император Петр триумфально открыл «петербургский период» нашей истории. Но современники царя Алексея Михайловича еще не скоро могли забыть времена Московского царства, если такое вообще возможно в нашей истории!
«Тишайший» царь «бунташного» времени, Алексей Михайлович не отказывался от традиций, и именно он был первым, кто начал построение «Великой России».
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЦАРЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ:
ВЕХИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Алексей Михайлович – один из немногих русских царей, чью биографию можно изучать, основываясь на личных документах, написанных его собственной рукой. В архивах остались подлинные автографы царя Алексея Михайловича, его «грамотки» (письма) своим приближенным и даже черновые записи, отражавшие выработку особенно важных решений, церемониальные чины. Царские автографы сохранялись в Тайном приказе – первой царской «собственной» канцелярии, просуществовавшей примерно с 1654 года и до конца правления царя Алексея Тишайшего. Впоследствии документы расформированного Тайного приказа оказались в Государственном архиве в Петербурге, и доступ к ним был весьма ограничен. Катастрофическое петербургское наводнение 1824 года заставило задуматься о судьбе важнейших исторических бумаг, частично попавших в невскую воду в подвалах здания Двенадцати коллегий на набережной Васильевского острова (ныне – главное здание Санкт-Петербургского университета). В середине XIX века документы Тайного приказа проделали обратное путешествие из Петербурга в Москву и еще долго оставались неразобранными и неописанными.
Сохранилось много другой приказной документации Разрядного, Поместного, Посольского и прочих приказов, свидетельствовавшей об участии царя Алексея Михайловича в текущих делах по управлению страной и дворцовым хозяйством. Речь, конечно, не о грамотах, выдававшихся из приказов «от имени царя и великого князя всея Руси». Такие документы относились к рутине правительственной деятельности, их писали дьяки и подьячие, цари же к составлению очередных жалованных грамот или к внутренней переписке приказов имели мало отношения. Хотя иногда участие царя Алексея Михайловича в принятии того или иного решения можно восстановить, учитывая источниковедческие особенности документов. Например, если на документе встречается помета: «в доклад», содержится изложение дела или его решения «по царскому указу…», то это практически всегда означает знакомство царя Алексея Михайловича с таким документом. До деятельности Разборного комитета 1835 года основная приказная документация Московского государства почти не была известна. Она сильно пострадала в 1812 году, когда документы были выброшены французами, захватившими Москву, в кремлевский ров. Потребовалось значительное время для систематизации и описания сохранившихся документов XVII века.
Вначале, не зная о самом существовании большинства архивных материалов, историки могли опираться прежде всего на отзывы современников – русских и иностранных, поэтому в первых трудах, посвященных царю Алексею Михайловичу, его характер скорее угадывался, хотя и достаточно точно. «История Российская» Василия Никитича Татищева, написанная в первой половине XVIII века, открывалась «Предъизвещением», куда был включен примечательный разговор, состоявшийся между Петром I и одним из его приближенных князем Яковом Федоровичем Долгоруким в 1717 году. Придворные, чтобы угодить царю, стали превозносить его время и хулить старину, говоря, «что у отца его Морозов и другие были великие министры, которые более, нежели он, делали». Петра «хула дел отца» и «лицемерные похвалы» сильно разозлили, поэтому он обратился к известному своей прямотой боярину и сенатору князю Долгорукому, желая от него услышать «нелицемерную» правду «о делах отца моего и моих». Приведем ответ петровского вельможи (в передаче Татищева) целиком:
«Государь, сей вопрос нельзя кратко изъяснить из-за того, что дела разные, в ином отец твой, в ином ты больше хвалы и благодарения от нас достойны.
Главные дела государей три:
Первое, внутренняя росправа и главное дело ваше есть правосудие. В сем отец твой более времяни свободнаго имел, а тебе есче и думать времени о том не достало, и тако отец твой более, нежели ты, зделал; но когда и ты о сем прилежать будешь, то, может, превзойдешь, и пора тебе о том думать.
Другое, военные дела. Отец твой много чрез оные хвалы удостоился и пользу велику государству принес, тебе устроением регулярных войск путь показал, да после него несмысленые все его учреждении разорили, что ты, почитай, все вновь делал и в лучшее состояние привел. Однако ж я, много думая о том, есче не знаю, кого более похвалить, но конец войны твоей прямо нам покажет.
3-е, в устроении флота, в союзах и поступках с иностранными ты далеко большую пользу государству, а себе честь приобрел, нежели отец твой, и сие все сам, надеюся, за право примешь»[7]7
В ответе князя Долгорукого сказано и об отношении царей к своим министрам – именно это размышление было важным для В. Н. Татищева в его «Предъизвещении»: «Что же рассуждают, якобы государи каковых министров умных или глупых имеют, таковы их и дела, но я противно разумею, что мудрый государь умеет мудрых советников избрать и верность их наблюдать, итак, у мудраго не могут быть глупые министры, понеже он о достоинстве каждого разсудить и правые советы от неправых и вредных различить может». См.: Татищев В. Н. История Российская. М., 1962. Ч. 1. С. 87–88. Эти слова были взяты в качестве эпиграфа в одном из первых очерков истории царствования Алексея Михайловича П. Е. Медовикова (1854). См.: Медовиков П. Е. Историческое значение царствования Алексея Михайловича… С. 9.
[Закрыть].
В историографии начала XIX века отношение к царю Алексею Михайловичу как историческому «ирою» предопределил риторический тон Петра Юрьевича Львова – автора «Похвального слова великому государю царю Алексею Михайловичу» (1806):
«Но творческий дух дивного Петра почерпнул мысль ко многим приснопамятным делам из великих намерений мудрого Алексея».
Текст Львова – не история даже, а особый литературный жанр, определяемый им самим как «славословие», учительное назидание о памяти одного из лучших «великих государей». Автор «Похвального слова…», пытаясь «вчувствоваться» в эпоху, провозглашал: «Любовь к порядку, можно так сказать, была страсть высокой души царя Алексея Михайловича. Его любовью к порядку оживотворено было каждое заведение, каждая часть Государственного хозяйства, каждое отправление должности людей, чиновных и подчиненных…» В речи Львова отразилось стремление найти собственные, а не заимствованные из классической истории образцы политической мудрости, он использовал примеры из прошлого для прославления отечественного. «Ужели, Сюлли, Ришелье, Колберт превосходнее Матвеева?» – вопрошал Львов, вспоминая одного из главных сотрудников царя Алексея Михайловича Артамона Сергеевича Матвеева, которому также посвятил отдельную речь[8]8
Цит. по: Львов П. Ю. Достопамятное повествование о великих государях и знаменитых боярах XVII века, взятое из Российской истории. М., 1821. С. 41–42, 80–81, 189.
[Закрыть].
На недостаток материалов ссылался и автор первой «Истории царствования Алексея Михайловича» (1831) Василий Николаевич Верх. Он даже подозревал, что документы этого царствования целенаправленно уничтожались: «Особенного замечания заслуживает вопрос: почему истреблены все Акты, относящиеся к Царю Алексею Михайловичу? Об Царях Михаиле Федоровиче и Феодоре Алексеевиче имеем мы полные известия и можем дать подробный отчет о всех действиях их. Но о Царе Алексее Михайловиче мы совершенно ничего не знаем, кроме кратких отрывков, находимых в Грамотах, Указах, иностранных газетах и современных ему иноземных писателях»[9]9
Берх В. Н. Царствование царя Алексея Михайловича. СПб., 1831. Ч. 1.С. 47.
[Закрыть]. Несмотря на это, Верху удалось составить первую летопись царствования Алексея Михайловича (характерно, что даже оглавление книги выстроено в хронологическом порядке), поместив туда обзор основных событий, включая мятежи и войны, посольства и торговые дела. Историк широко использовал записки Олеария и Мейерберга, а также редкое европейское издание «Theatrum Europaeum», содержащее обзор событий при европейских дворах, например войны и приемы послов. Про другой источник, «дворцовые записки» (разрядные книги), В. Н. Верх образно написал, что они были ему «столь же полезны, как бродящему в подземелье лампада»[10]10
Там же. С. 100.
[Закрыть]. Получившаяся под пером Василия Верха картина давала убедительную апологию царя Алексея Михайловича с перечислением многих его заслуг: нововведений в законодательстве, торговле, заведении промышленности и присоединении новых земель.
Интересный исторический труд о царствовании Алексея Михайловича, вошедший в третий том «Повествования о России» (1843), принадлежит Николаю Сергеевичу Арцыбашеву. Начиналась эта работа из критики произведений Николая Михайловича Карамзина, как известно, не успевшего довести свой труд до середины XVII века. Арцыбашев, в отличие от Карамзина, настаивал на возможности «очищенного» знания о прошлом, основанного на достоверных источниках, и не принимал произвольных, не вытекающих из источников, нравственных характеристик. Опубликованный посмертно один из томов его «Повествования» содержал подробную летопись событий царствования Алексея Михайловича, составленную по появившимся к этому времени в печати документам, исчерпывающе им собранным. В книге рассказано о первых годах правления царя, мятежах, создании Уложения, русско-польской войне, малороссийских делах, самозванцах и Разине, дипломатических взаимоотношениях и «мерах» против Крыма и Турции. Особенностью труда Арцыбашева стали постраничные ссылки, по объему сопоставимые с самим авторским текстом, где приводились выписки из актов, летописей, документов посольств, записок иностранцев (на языках оригиналов). Завершали его работу общие очерки «Вера», «Правительство», «Просвещение», «Торговля», «Обычаи»[11]11
Арцыбашев Н. С. Повествование о России. М., 1843. Т. 3. Кн. 6. Отд. 1. С. 86—175. Дополнения. С. 413–464.
[Закрыть].
К сожалению, труд Арцыбашева, изданный посмертно, не был оценен по достоинству, хотя и повлиял на становление научной традиции исторических трудов в России. Именно с этого времени существует известное противопоставление «сухих», но фактически выверенных и намеренно отстраненных от обычного читателя трудов и литературно обработанных исследований, где есть место и общему осмыслению исторических процессов, и изложению авторского понимания эпохи.
Представление об отсутствии достаточного количества документов для создания «полной» истории царя Алексея Михайловича надолго стало общим местом, хотя уже в 1830-е годы стали появляться публикации новых источников, помогавшие лучше раскрыть основные события его царствования. Например, первый том «Полного собрания законов Российской империи» (1830), письма царя Алексея Михайловича ближнему стольнику Афанасию Ивановичу Матюшкину, ведавшему «ловчий уряд», которые вошли в публикацию документов по русской истории, известную под названием «Сборник Муханова» (по имени собирателя письменных актов Павла Александровича Муханова) (1836), новейшие издания актов, осуществленные Археографической комиссией Академии наук (хорошо известные специалистам «Акты, собранные Археографической экспедицией», «Акты исторические», «Дополнения к Актам историческим»), записки иностранцев о России. В 1840 году было издано отыскавшееся в Швеции сочинение беглого подьячего Григория Котошихина о России времен царя Алексея Михайловича (имя автора, правда, сначала было прочитано неверно, как «Кошихин»).
Интерес к фигуре царя Алексея Михайловича возрос в 1840-е – середине 1850-х годов благодаря историку и издателю журнала «Москвитянин» Михаилу Петровичу Погодину. Он начал целенаправленную публикацию писем и грамот царя Алексея Михайловича, в том числе таких примечательных, как переписка царя с боярином князем Никитой Ивановичем Одоевским, поместил подробный обзор сочинения Григория Котошихина. Там же, в «Москвитянине», в 1854 году вышла в свет статья профессора Харьковского университета Александра Петровича Зернина «Царь Алексей Михайлович. Историческая характеристика из внутренней истории России XVII столетия». Его задачей стало изучение особенностей личности царя Алексея Михайловича, влияния на него тех или иных лиц, прежде всего боярина Бориса Ивановича Морозова и патриарха Никона. Интересно обоснование обращения к фигуре царя Алексея Михайловича и значения его царствования для истории России: «Все, к чему только стремилась Москва с начала XIV ст., при нем выработалось окончательно… При нем определительно выразилась мысль, что царство Московское кончилось и что настало царство Всероссийское»[12]12
Зернин А. П. Царь Алексей Михайлович. Историческая характеристика из внутренней истории России XVII столетия // Москвитянин. 1854. Т. 4. № 14. Отд. 2. С. 41.
[Закрыть]. Во второй половине 1850-х годов интерес к временам царствования Алексея Михайловича был поддержан славянофильским журналом «Русская беседа»; например, там было опубликовано сочинение Юрия Крижанича, вышла новая статья Александра Петровича Зернина, посвященная «смутам» в Москве, Новгороде и Пскове. Зернин считал, что царь Алексей Михайлович пошел наперекор устоявшимся представлениям о «родовой чести», заставлявшим родовитых людей ставить «на первый план» свой «личный», а не «государственный» интерес, из-за чего и случались описанные им бунты[13]13
Он же. О смутах, бывших в начале царствования Алексея Михайловича// Русская беседа. 1860. № 12. С. 1—34 (отд. пагинация).
[Закрыть].
Фигура отца Петра, естественно, угодила в перекрестье полемики между славянофилами и западниками, спорившими о наследии допетровской Руси. Журналистские споры стимулировали постижение времени царя Алексея Михайловича. В 1854 году появилась докторская диссертация профессора Дерптского университета Петра Ефимовича Медовикова «Историческое значение царствования Алексея Михайловича». Автор этой примечательной работы попытался восполнить научный «пробел бытописания Русской земли», образовавшийся из-за устойчивого стереотипа о пресекшемся древнем летописании. И ему удалось наиболее полно на тот момент осветить главные темы истории правления царя Алексея Михайловича, тем более что наряду с недавно опубликованными актами Медовиков уже мог использовать и полностью посвященный временам царя Алексея Михайловича третий том «Дворцовых разрядов» (1852) – своеобразную летопись приемов, назначений на службу, церемоний при дворе. Автор последовательно раскрыл традиционно сложную тему истории первых лет царствования, взаимоотношений царя и его советников, московского бунта 1648 года и составления Соборного уложения. В дальнейших разделах своей диссертации Медовиков останавливался на характеристике законодательства, «воссоединения Малой России с Великой», рассматривал положение церкви в связи с патриаршеством Никона и исправлением церковных книг. Отдельные главы книги посвящены торговле и финансам, войнам и дипломатическим отношениям с Западом и Востоком. Завершалась работа рассказом о пышной жизни царского двора и отзывами современников о личности царя Алексея Михайловича. Общей идеей труда Петра Ефимовича Медовикова стало утверждение особого значения для русской истории правления отца Петра I: «В царствование Алексея Михайловича Россия окрепла, стала Державою сильною»; «Надлежало приготовить древнюю Русь с ее закоренелыми обычаями к крутому перелому», и царь стремился «к утверждению строгого порядка во всех отраслях государственной жизни». В заключение Медовиков снова вспоминал Петра: «Сам Великий Преобразователь решал вопросы, возникшие, большей частью, в предшествовавшие периоды жизни нашего отечества». И еще ярче звучала эта мысль в последнем, выносимом на защиту тезисе диссертации дерптского профессора: «Пред эпохою преобразования древняя Русская жизнь исчерпала себя вполне»[14]14
Медовиков П. Е. Историческое значение царствования Алексея Михайловича. М., 1854. С. 99, 168–169, 242, 356.
[Закрыть].
Книга Медовикова отражала повышенный интерес к изучению допетровской Руси, когда всего за несколько лет на рубеже 1850—1860-х годов произошел настоящий прорыв в освещении истории царствования Алексея Михайловича. Сначала Петром Ивановичем Бартеневым были собраны по разным публикациям и изданы в отдельном томе «Письма царя Алексея Михайловича» (1856). Кроме царской переписки, туда вошел также приписываемый авторству царя Алексея Михайловича «Урядник сокольничья пути». Известен этот памятник был еще со времен первой публикации в «Древней российской вивлиофике» Николая Ивановича Новикова в конце XVIII века. В новом издании содержались подробные комментарии публикатора о языке памятника, а также замечания известного знатока русской охоты писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Историки сразу же оценили значение этих материалов и сформулировали новые подходы к изучению царствования Алексея Михайловича, окончательно «вышедшего из тени» своего сына: «Петр был только довершителем начинаний своих предшественников»[15]15
Об историческом значении царствования Алексея Михайловича. Речь, произнесенная в торжественном собрании первой и второй казанских гимназий старшим учителем истории С. Горским в 1857 году. Казань, 1857. С. 6.
[Закрыть].
К комментированию «Урядника» подключился и настоящий знаток «домашнего быта» царя Иван Егорович Забелин, написавший развернутую рецензию на бартеневскую публикацию «Писем царя Алексея Михайловича» в журнале «Отечественные записки» (1857)[16]16
В «Отечественных записках» публиковались и статьи, впервые знакомившие читателей журнала с материалами Оружейной палаты и дворцовых архивов, ставшими основой для известного труда И. Е. Забелина «Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст.» (1862).
[Закрыть]. «Память предков у нас быстро унесена была потоком Петровских преобразований, – писал Забелин. – Скинув старинные кафтаны, мы в их карманах оставили, забывши, и все бумаги дедов, все памятники их прежней деятельности, их прежнего значения, их домашних и общественных отношений. Не прошло и полстолетия, как собственная же наша старина так удалилась от нас во мрак времен, что мы потеряли всякий интерес к ее делам и почитали ее более за старину ассирийской или вавилонской монархии, чем за родное время, от которого в сущности мы вовсе не были так далеки. Но так крут был поворот». Рецензия Забелина примечательна резким разрывом с «любительским» подходом к старине и временам царя Алексея Михайловича; им сформулирована очевидная мысль: любовь к родной истории не подменяет требований профессионализма, а новое время требовало еще и «сличил» (Забелин использует слово из «Урядника») подлинников документов с публикуемыми текстами царских писем. «Эпоха праздных слов и разглагольствований прошла», – говорил Забелин, а «впереди всего», по его мнению, должны быть «дело, факты, всем открытые, всем доступные». В завершении его работы приводится не слишком изящное, но хорошо понятное противопоставление: «верблюд – извините – в деле цивилизации полезнее райской птицы»[17]17
Забелин И. Е. Царь Алексей Михайлович. (Его письма и урядник охоты) // Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1872. Ч. 1. С. 205, 277–278. См. также впервые опубликованную в «Журнале охоты» в 1858 году статью И. Е. Забелина «Охотничий дневник царя Алексея Михайловича 1657 года», где заново опубликованы несколько писем царя Алексея Михайловича стольнику Афанасию Матюшкину с впервые установленной датой по материалам «Дневальных записок» Тайного приказа (к сожалению, Забелин не дал точной атрибуции этого памятника и даже произвольно сократил его текст в публикации): Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1872. Ч. 1. С. 281–300.
[Закрыть].
«Риторический» период историографии царствования Алексея Михайловича окончательно завершился с публикацией томов «Истории России с древнейших времен» Сергея Михайловича Соловьева, посвященных началу династии Романовых[18]18
Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. V. Т. 9—10: История России с древнейших времен. М., 1990; Кн. VI. Т. 11–12. М., 1991.
[Закрыть]. Десятый том истории Соловьева, впервые опубликованный в 1860 году, был и остается одной из самых глубоких и подробных работ, посвященных событиям 1645–1657 годов. Он основан на изучении архивных материалов Тайного, Посольского, Малороссийского приказов, фонда «Приказных дел старых лет», многих изданий актов и книг, в том числе на польском, латинском и немецком языках. Изложение истории царствования Алексея Михайловича открывалось главой о состоянии «Западной России», и дальше шло описание главных событий первых лет правления «молодого царя». Рядом с царем такими же героями повествования у Соловьева становились царский воспитатель боярин Борис Иванович Морозов и гетман Богдан Хмельницкий.
Сергей Михайлович Соловьев задал тон повествования общим отзывом о характере царя Алексея Михайловича: «…добротою, мягкостию, способностию сильно привязываться к близким людям был похож на отца своего, но отличался большею живостью ума и характера и получил воспитание более сообразное своему положению»[19]19
Соловьев С. М. История России… Т. 10. С. 441.
[Закрыть]. Но полностью время царя Алексея Михайловича было раскрыто историком по мере освещения периода истории 1650—1670-х годов в последующих, одиннадцатом и двенадцатом томах, изданных в 1861 и 1862 годах. Уже завершая изложение многочисленных событий царствования Алексея Михайловича, большинство из которых впервые получило подробное освещение на основе архивных документов на страницах «Истории», Соловьев снова обращается к теме «характера» царя. Заметно, что со временем отношение к фигуре царя у Сергея Михайловича стало сложнее, чем первоначальный отзыв о его несамостоятельности. Историк видел «прекрасную природу царя Алексея» и уверенно называл его тридцатилетнее царствование «знаменитым»: «Издание Уложения, присоединение Малороссии, подвиги русских людей в Северной Азии, расширение дипломатических сношений от Западного океана до Восточного, от Мадрида до Пекина, Никоново дело, раскол, Разинское и Соловецкое возмущения – вот крупные явления, которые должны оправдать употребленное нами выражение знаменитое (курсив С. М. Соловьева. – В. К.) царствование»[20]20
Там же. Т. 12. С. 581, 591.
[Закрыть].