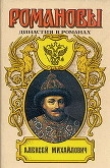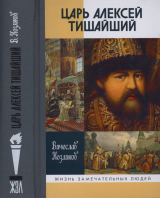
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 46 страниц)
Участие в церемонии боярина Ордина-Нащокина сделало невозможным участие в этом других бояр. Поэтому «шапку снимал и держал» царский кравчий князь Петр Семенович Урусов, скипетр принял ближний стольник князь Петр Иванович Прозоровский, а «блюдо держал» тоже ближний стольник Борис Васильевич Шереметев. «А бояр в чинех не было», – специально уточнял составитель разрядной книги{622}. Ответная речь посла Станислава Веневского, уподобившего Андрусовский договор «апокалипсической книге с семью печатями», которая «не подвергается никакой адской силе и никаким бусурманским козням», была с особым вниманием воспринята царем Алексеем Михайловичем. По словам участников польского посольства, оставивших сведения о их приеме в Москве, «великий князь с заметным вниманием слушал посольскую речь, по-видимому, нравившуюся ему: на лице его выражалось душевное волнение, глаза налились слезами, но состояние это постепенно перешло в спокойную радость». Вслед за царем и другие вельможи выражали одобрение послу, произносившему речь, и даже просили сделать «копию с нее для самого великого князя». В известии о посольстве, специально переработанном для путешествовавшего по Европе в 1668 году члена правящей флорентийской династии Козимо Медичи, дословно, но с легкими лексическими искажениями приведены слова царя Алексея Михайловича, по завершении всего дела пригласившего послов к праздничному столу: «Пелномости поели прошу вас на свой обияд»{623}.
Официальный отпуск послов состоялся 25 ноября 1667 года. Снова в Грановитой палате, как и при первом приеме польских послов, вместе с царем Алексеем Михайловичем присутствовал царевич Алексей Алексеевич. Ордин-Нащокин на этот раз стоял рядом с князем Никитой Ивановичем Одоевским с правой стороны от царя, за ними расположились и другие «ближние люди». На другом, менее почетном месте, с левой стороны, стояли «дядки» царевича боярин князь Иван Петрович Пронский, окольничий Федор Михайлович Ртищев и «царевичевы столники». После передачи послам царской грамоты королю Яну Казимиру «государь царевич приказывал с послы к королевскому величеству поклон». Снова был государев стол в Золотой палате, куда было отпущено огромное количество разных «еств» и «питья» с Кормового, Хлебного и Сытного дворов{624}.
Последняя встреча царя Алексея Михайловича с великими послами состоялась 4 декабря 1667 года. Этот прием был скромнее, он состоялся «у великого государя в Верху в передней». Послы пришли во дворец в «4-м часу ночи» и «дожидались ево государева указу в Золотой палате». Потом их пригласили к царю Алексею Михайловичу «в переднюю», куда они пришли «в 5-м часу ночи в 2-й чети». Для посольского шествия специально украсили персидскими коврами и драгоценными материями внутренние дворцовые переходы. Посол Станислав Веневский и другие члены посольства шли «Красным крыльцом на Постельное» до «Деревянной лестницы, что ходят в верх» и «Передних сеней», где их встретил думный дьяк Дементий вместе с почетным эскортом из царских спальников, стрелецких голов и полковников «в служивом платье», а также жильцов «с протазанами». Послы пробыли на приеме у царя Алексея Михайловича чуть более часа и пошли «от великого государя ис хором» «в 7-м часу ночи в исходе» и были еще затем «у вселенских патриархов».
Для чего же понадобилась такая встреча и почему ее описание не вошло в официальный текст разрядных книг? Цели приглашения послов объяснены в «Чиновном списке» Приказа Большого дворца: по царскому указу, им было велено «быть в Золотой палате для докончания перемирного договору и у себя великого государя в передней». Сначала в Золотой палате боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и польские послы подписали новый договор, согласованный во время пребывания послов в Москве: «о перемирье договорный лист закрепили своими руками». Затем послы «по своей вере присягу учинили и крест целовали», а участники переговоров с московской стороны – боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, думные дьяки Герасим Дохтуров и Лукьян Голосов, дьяк Ефим Юрьев тоже «по посольскому договору обещание учинили и целовали святое Евангелие». После этого глава Посольского приказа отправился в царские покои известить царя Алексея Михайловича о состоявшемся утверждении договора. Царь принял послов, сидя в «перситцких креслах, которые с олмазы, и с яхонты, и с иными дорогими каменьи», и в последний раз пил в присутствии послов чашу за короля Яна Казимира. Послов и бояр жаловали кубками «пить про королевское ж здоровье»{625}.
Фактически получилось так, что главное достижение Ордина-Нащокина, состоявшее в успешном развитии Андрусовского перемирия и новом договоре, заключенном в Москве, было скрыто от большинства. В официальных церемониях отпуска послов первенствовали другие бояре. Но, как оказалось, не всё объяснялось счетами придворных царя Алексея Михайловича. Во дворце в это время был траур, так как 28 ноября 1667 года состоялись похороны прожившей всего 13 дней царевны Феодоры Алексеевны{626}. Поэтому церемонии утверждения московского договора 4 декабря и был придан «частный характер». Впрочем, это не помешало Ордину-Нащокину, как сообщал в Ватикан папский нунций в Польше, обсудить «за кубком вина» совместную борьбу России и Польши с турками. Польские послы также встретились с бывшими в это время в Москве вселенскими патриархами и говорили с ними о единении христианских церквей перед лицом общей борьбы с «бусурманами»{627}.
Московский договор, заключенный с польскими послами 4 декабря 1667 года, окончательно закрывал историю недавней войны России и Польши, создавал условия для движения от перемирия к «вечному миру», и в этом была замечательная прозорливость Ордина-Нащокина. Договор состоял всего из восьми статей, но они стали необходимым дополнением и развитием Андрусовского перемирия и создали основу для укрепления союзных отношений между государствами. Уже в первой статье говорилось о совместных действиях против Турции и Крыма на Украине: «А перво о союзе сил общих против салтана Турскаго и против хана Крымскаго и о взаимной обороне против бусурманского нахождения на Украйну». Заметим, что термин «Украйна» в тексте Андрусовского договора 20 января 1667 года был обозначен не слишком внятно, там чаще упоминались «украинские казаки» или «украинские тамошние люди». В статье 18-й прежнего Андрусовского перемирия, где также шла речь о совместном противодействии крымскому хану в случае начала им войны, Украина, Киев, Запороги и «иные Украйные города, по обеим сторонам реки Днепра», оказались противопоставлены друг другу, в зависимости от того, где чье войско находилось – коронное, литовское или царское. В первой статье нового московского договора 4 декабря 1667 года «Украйна» обозначена уже более четко, с учетом состоявшегося разделения на территорию, находящуюся, с одной стороны, «под владением» короля и Речи Посполитой, а с другой – «в державе его царского величества чрез нынешние договоры осталую»{628}.
В тексте первой статьи, занимавшей больше всего места в договоре, много внимания уделено «идеологии» общего противостояния христианских стран «бусурманом» и выражена надежда, что с этого времени оба государства начнут заботиться «о случении сил во всяком промысле, против общих неприятелей бусурман о обороне». Обе стороны на переговорах записали: «…и к вечной, даст Бог, крепости подаем». Послы царя Алексея Михайловича, отосланные еще после заключения первого Андрусовского договора к разным европейским дворам, уже обсуждали предложения о совместной борьбе с «бусурманами». Примечателен иносказательный ответ бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма, поддержавшего общие действия Московского государства и Речи Посполитой против турецкого султана. Он понимал, что «салтану Турскому» при «нынешнем безстройстве Речи Посполитой» нельзя дать укрепиться ни в одном «украинском городе». А иначе «та несчастная крови жадная птица, укрепяся в том гнезде своем, не станет ли острыми и далеко сегаючими пазногти своими околних ему к противности безсилных птиц шарпать и гнезда их разорять». «И то он на Украйне укрепится, – говорил курфюрст, – всему христъянству к великому упадку быти может, и остатние стены христьянской обороне розвалятца». Поэтому так нужен был «скорой и крепкой мир меж обоими великими государи и государствы их, Московским и Полским»{629}.
«На очищение от татар Украйны» и приведения к повиновению казаков царь Алексей Михайлович пообещал отправить 25 тысяч ратных людей. Наконец-то решился вопрос с компенсациями. Сошлись на сумме в один миллион злотых, что по русскому счету означало 200 тысяч рублей. Договорились о судьбе перемещенных из-за войны лиц, но здесь согласие оказалось найти труднее всего. Многие жители Речи Посполитой – шляхта, мещане и крестьяне – не по своей воле попадали в Московское государство, оказываясь в плену или холопстве. Судя по сообщению «цесарских курантов», очень точно изложивших содержание приведенных статей, «полоненую шляхту» было решено «освободить на волю», то есть разрешить всем, кто захочет, вернуться обратно, «а простого чину людем, тех не отпускать на свою сторону, за страхом, чтоб чернь не взбунтовалася»{630}. Переговоры о судьбе попавших в плен мещанах должны были продолжаться, но проблема заключалась еще и в том, что многие прежние жители Польши и Литвы, среди которых было немало востребованных мастеров и ремесленников, готовы были остаться в Московском государстве и воспользоваться правами нового статуса. Так в Москве со временем из польско-литовских выходцев появляется особая Мещанская слобода, подчиненная Посольскому приказу. Причем в жители слободы принимали не только мещан, но и мелкую шляхту, что привело к появлению своеобразной, отличной от других, категории населения столицы Московского государства{631}.
Две статьи – 5-я и 6-я – практически положили начало российской почтовой службе. Дипломаты обещали от имени царя Алексея Михайловича, что для лучшей и быстрой обсылки грамотами будет назначен «начальник над почтой». И действительно, очень скоро, в мае 1668 года, Ордин-Нащокин, которому было поручено это дело, распорядился по царскому указу «построить и составить пост с Москвы», поручив его из московских иноземцев Леонтию Петрову сыну Марселису. Правда, для этого пришлось изъять уже основанное в 1665 году почтовое дело от другого иноземца и комиссионера по московским делам в Голландии Иоганна ван Сведена, имевшего контракт с Тайным приказом и возившего почту из Риги. Именно через ван Сведена, например, в Амстердаме был нанят первый капитан строящегося русского корабля «Орел» Давыд Иванов сын Будлер для плавания в Каспийском море.
Иоганн ван Сведен, наверное, мог подумать, что царя Алексея Михайловича интересовало более дешевое предложение Леонтия Марселиса. Тот брался организовать дело за свой счет («на своих наймех»), но задействовать для организации перевозки почты Ямской приказ. Поэтому ван Сведен даже предлагал устроить некий торг с Леонтием Марселисом. Свободная конкуренция здесь была ни при чем, дело решалось по-московски. Ордин-Нащокин, которому царь поручил организовать почту, «как в других государствах ведется», выбрал для этого более доверенную семью Марселисов. Отец первого почтмейстера, Петр Марселис, исполнял тайные царские поручения, ездил в посольствах в другие страны и управлял стратегически важными тульскими железоделательными заводами. Поэтому плану устройства почты Леонтия Марселиса и отдали предпочтение.
Новый почтмейстер сразу же был отправлен в Курляндию, чтобы наладить отправку почты не только, как ранее, из Риги через Псков и Великий Новгород, но и по новому маршруту из Вильно через Смоленск. Планировалось создать еще один путь доставки почты из Варшавы. Как оказалось, способ организации почты, предложенный Марселисом, только казался дешевым, а на самом деле в нем были заложены значительные издержки для казны. Автор подробного исследования о создании почты в Московском государстве во второй половине XVII века Иван Павлович Козловский справедливо подчеркивал разницу между ямской гоньбой и регулярной почтой и прекрасно показал, как ямщики, на которых, по сути, была наложена дополнительная повинность, стали задерживать перевозку почты. С тех пор ямщики постоянно требовали возмещения за свой дополнительный труд, но платить им должно было государство. Марселисы, для которых, напротив, организация почты на долгие годы стала выгодным «семейным подрядом», жаловались в мае 1669 года, что почту из Москвы до Печоры можно привезти на седьмой день, а ямщики везли ее на десятый или одиннадцатый; в Новгород почту можно было привозить на четвертый день, а ее везли семь, восемь, а то и все девять дней.
Каковы бы ни были сложности по организации почтового дела, новый порядок перевозки почтовых отправлений заработал, казна стала экономить на посылке специальных гонцов в другие государства, были налажены оперативная доставка иностранных «курантов» и их перевод в Посольском приказе. Ордин-Нащокин, одним из первых когда-то ставший возить иностранные «вести-куранты» из своих дипломатических поездок, прекрасно понимал преимущества нового почтового дела и докладывал царю Алексею Михайловичу о дополнительных распоряжениях по сохранению почтовой монополии: «А беречь, государь, чтоб торговые люди тайно с грамотками никого не наймовали и не посылали, что в прежних годех, прокрадывая твою, великого государя, пошлину с такими посылками драгие вещи, камение и жемчуг и золотые в сумах и свясках… провозили»{632}. Исследователи разошлись в оценках, что же считать начальной датой почтовой службы – 1665 или 1668 год, хотя не будет преувеличением сказать, что правильная постановка почтового дела стала следствием московского договора с послами Речи Посполитой 4 декабря 1667 года, а следовательно, ее можно признать еще одним достижением боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина.
Завершающая, 8-я статья московского договора выглядит неожиданной, если не помнить, что вся внешняя политика в это время испытывала сильное влияние идей нового главы Посольского приказа. Речь шла о предстоящем созыве съезда в Курляндии представителей нескольких государств – России, Речи Посполитой и Швеции – для обсуждения торговых вопросов. Однако царский указ 18 апреля 1668 года об отправке боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, Ивана Афанасьевича Желябужского и дьяка Ивана Горохова «на посолской съезд с полскими послы в Курлянской земле» на деле стал началом конца блестящей карьеры царского приближенного и советника. Когда 15 мая 1668 года состоялась официальная отправка миссии в Курляндию «на съезд с полскими и литовскими послы» и послы были «у руки… в передней палате», это был самый пик доверительных отношений Ордина-Нащокина с царем. Накануне, 14 мая, царь и Дума одобрили записку «посольских дел оберегателя» с обоснованием новой повестки переговоров, предусматривавшей заключение «вечного мира» с Речью Посполитой. Царь Алексей Михайлович на время отсутствия Ордина-Нащокина оставил за ним руководство Посольским приказом, и даже имя боярина и главы дипломатического ведомства должны были «писать по прежнему, как и при нем было»{633}.
Отъезд послов задержался еще на десять дней. Ввиду больших надежд на съезд царь решил сам торжественно проводить посольство. Но 19 мая 1668 года умер боярин Илья Данилович Милославский – как мы помним, один из последовательных противников Ордина-Нащокина. Событие это осталось незамеченным в «Дневальных записках» Тайного приказа; там записали только: «День был холоден и шол снежок небольшой»{634}. Похороны царского тестя 20 мая совпали с большим церковным праздником – памятью московского митрополита Алексея, поэтому царь Алексей Михайлович сначала был на службе в Чудовом монастыре, а потом вместе с вселенскими патриархами прошел дворцовыми «переходами» на более домашнюю церемонию отпевания боярина Милославского на Троицком подворье в Кремле{635}. 25 мая состоялись еще официальный отпуск и награждение подарками антиохийского патриарха Макария, уезжавшего из России. И только 26-го числа царь сам вышел «провожать Всемилостивого Спаса образ, а быть тому образу на посольстве боярина Афанасья Лаврентьевича Ордина-Нащокина в Курляндии». Согласно «статейному списку», царь напутствовал посольство словами, что «такова великого дела издавна в Великой Росии не бывало»{636}.
Оставшиеся в Посольском приказе заместители «сберегателя посольских дел» – думные дьяки Герасим Дохтуров, Лукьян Голосов и дьяк Ефим Юрьев, – конечно, формально выполнили царский приказ о первенстве Ордина-Нащокина в приказе. Только при этом сделали всё для того, чтобы затруднить его миссию в Курляндии; даже его отписки не всегда попадали царю «в доклад». Ирония проскальзывает и в переводах «с цесарских печатных и писменных курантов», поданных в Посольском приказе новым «почтмейстером» Леонтием Марселисом: «Посол московской господин Нащокин, что в Курляндии стоит, хочет дело свое совершить, толко не знает, как начать, потому что перво подарков дать не хочет, нежели дело сведает за что дать»{637}. В своем стремлении создать понятные правила торговли в Ливонии, заключить «вечный мир» в видах борьбы с «бусурманами» Ордин-Нащокин явно не рассчитал, что одного интереса в этих делах Московского государства недостаточно. Задуманная международная «конференция» (отдадим должное широте замысла) предполагала еще получение одобрения со стороны Речи Посполитой и Швеции.
Глава Посольского приказа преувеличил возможности нового союза с Речью Посполитой, где действия короля контролировались сеймом. Сенаторы и шляхта в Короне и Литве по-прежнему не были готовы к заключению «вечного мира», многие еще надеялись на возможную ревизию результатов завершившейся войны, возвращение территорий, уступленных Московскому государству, и своих «маетностей». Ордину-Нащокину приходилось терять время и многие месяцы ждать приезда других послов. В Швеции были оскорблены тем, что пункт о приглашении их на переговоры был вписан в московский договор без предварительного обсуждения со шведским королем Карлом XI (дела при малолетнем короле вела шведская королева). Поэтому ответили отрицательно, ссылаясь на уже существующие у Швеции договоры как с Россией, так и с Речью Посполитой. Шведские дипломаты могли догадываться, что речь на переговорах пойдет о судьбе резидентов, «выдавливавшихся» из Москвы главой Посольского приказа из-за подозрений в шпионаже. Намеревался боярин Ордин-Нащокин говорить и о новых правилах торговли на Балтике, а в Швеции не желали пересмотра договоров с конкурентами{638}.
Миссия Ордина-Нащокина оказалась неудачной еще из-за знаменательных перемен в Речи Посполитой. Король Ян Казимир, успевший через посла Богдана Ивановича Нащокина подтвердить московский договор{639}, уже 12 июня 1668 года объявил о предстоящем оставлении трона. В Москве об этом узнали, когда Афанасий Лаврентьевич уже уехал в Курляндию. Показательно, что в записке, направленной царю перед отъездом, Ордин-Нащокин ничего не писал о возможном избрании царевича на польский трон. И это несмотря на то, что разговоры о таком повороте событий пошли сразу после объявления царем Алексеем Михайловичем своего наследника. Но сведения о благосклонной реакции разных лиц в Речи Посполитой на династическую унию создавали обманчивое впечатление. Помимо непреодолимого вопроса смены веры, препятствием для московской кандидатуры оставались разные интересы польской и литовской шляхты. В Литве надеялись компенсировать потери территорий и имений избранием претендента из московской династии, а в Польше совсем по-другому видели первоочередные задачи Короны.
Царь Алексей Михайлович, оставшись без главы Посольского приказа, должен был советоваться прежде всего со своим окружением. Противники Ордина-Нащокина и его линии на союз с Польшей смогли взять небольшой реванш, поддержав царя Алексея Михайловича в его решении заявить о претензиях на польскую корону на ближайшем сейме, где должно было состояться отречение от королевской власти Яна Казимира. Конечно, легче было польстить царю, чем просчитать все последствия неосторожных шагов с заявлением о кандидатуре царя Алексея Михайловича или царевича Алексея Алексеевича на сейме Речи Посполитой. Ордину-Нащокину приказали ехать из Курляндии на открывавшийся в конце августа 1668 года сейм самому или отправить туда других членов посольства. Но боярин не изменил себе и не подчинился, напротив, писал царю из Курляндии, призывая его более здраво отнестись к текущим переменам в Речи Посполитой и лучше просчитать возможные последствия: «А вдатца, государь, в то обирание страшно и мыслить, сколько из Великие Росии королевству Польскому будет дать, и вспоминуть, государь, не мочно до свершения вечного миру тому обиранию быть». Свою готовность обсуждать кандидатуру царевича Алексея Алексеевича на польский трон изъявлял литовский гетман Михаил Пац, но и ему Ордин-Нащокин вежливо отказал.15–16 сентября 1668 года король Ян Казимир окончательно отрекся от престола, и на ноябрь был назначен конвокационный сейм, где кандидатура царевича Алексея Алексеевича уже не рассматривалась. Проиграть было нельзя, поэтому прав был именно Ордин-Нащокин, убедивший царя не посылать туда своих послов: «И ныне, государь, по ведому из Варшавы, к позору бы тот поезд был»{640}.
Сейм, принявший отречение Яна Казимира, все-таки отправил своих полномочных послов на съезд в Курляндию. Только было очевидно, что в условиях польского бескоролевья ни о каком «вечном мире», на что ранее надеялся Ордин-Нащокин, договориться не удастся, миссия «посольских дел оберегателя» в Курляндию оказалась провальной. Отсутствие немедленного результата в делах выбора царского наследника в короли Речи Посполитой тоже могло дать повод для отказа царя Алексея Михайловича от прежней поддержки Ордина-Нащокина. 26 мая 1668 года из Москвы на съезд в Курляндию уезжал полный могущества, облеченный царским доверием боярин, а 8 января 1669 года{641} после долгого отсутствия возвращался лишь номинальный глава Посольского приказа. Немедленно после приезда в Москву началась тяжба Ордина-Нащокина с ведавшим в его отсутствие Посольский приказ думным дьяком Герасимом Дохтуровым, обвиненным во взяточничестве. Но враги Ордина-Нащокина очень скоро дадут ему понять, что управление посольскими делами и «право совета» царю Алексею Михайловичу перешло к другим царским приближенным. На «полатном разеуждении» Боярской думы 22 мая 1669 года вся политика боярина Ордина-Нащокина по отношению к шведам и «черкасам» подверглась осуждению и пересмотру, заговорили о его удалении на воеводство в Смоленск или об отправке с новым посольством в Польшу.
Не зря в России родилась пословица: «жалует царь, да не жалует псарь». Боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин должен был хорошо понимать, что у него одна защита – расположение царя. «Посольских дел сберегатель» часто писал из Курляндии царю Алексею Михайловичу о своем нараставшем конфликте с другими судьями Посольского приказа. Из донесений Афанасия Лаврентьевича видно, что столкнулись не просто разные люди, а два подхода к государственным делам. Один, при котором идея службы царю возведена в абсолют и достижение целей сопровождалось полной отдачей и самопожертвованием. И другой, когда дела делались из собственной «прибыли» и интереса, учета мнения «сильных» людей во власти, а потому никто даже не думал, правильно ли действует царь, а все лишь слепо исполняли его поручения. Для Ордина-Нащокина главнее были «Божий страх» и «Божье попечение». В такой системе координат царский советник мог смело высказывать царю свое мнение, если даже заведомо знал, что оно может не понравиться ему.
Не случайно в переписке с царем Алексеем Михайловичем, жалуясь на своих недоброжелателей, Ордин-Нащокин сформулировал принцип посольской службы: «Око всей великой России». Но важен весь контекст фразы Ордина-Нащокина, обращенной к царю Алексею Михайловичу, поэтому приведем полностью этот обширный фрагмент из его переписки с царем:
«А на Москве, государь, ей! слабо и в государственных делах нерадетельно поступают. Посольский приказ есть око всей великой России, как для вашей государственной превысокой чести, вкупе и здоровья, так промысл имея со всех сторон и неотступное с боязнию Божиею попечение, рассуждая и всечасно вашему государскому указу предлагая о народех, в крепости содержати нелестно, а не выжидая только прибылей себе. Надобно, государь, мысленныя очеса на государственныя дела устремляти безпорочным и избранным людям к разширению государства ото всех краев, и то, государь, дело одного Посольского приказа. Тем и честь и низость во всех землях. И иных приказов к Посольскому не применяют, и думные дьяки великих государственных дел с кружечными (кабацкими. – В. К.) делами не мешали бы и непригожих речей на Москве с иностранцами не плодили бы»{642}.
«Время» боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина завершалось, царь Алексей Михайлович не смог дальше поддерживать своего советника. Виною этому стали тяжелые неудачи, последовавшие в землях «черкас», недовольных принятым без их участия Андрусовским договором. Кроме того, Ордин-Нащокин остался чужаком, попавшим в перекрестье ненависти придворной элиты, и, видимо, просто устал сражаться один за интересы Московского царства, как он их понимал.