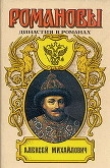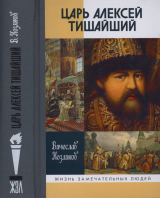
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 46 страниц)
ОСЕНЬ ВЛАСТИ
«Время» Артамона МатвееваПоследние годы царя Алексея Михайловича – так обычно говорят о времени, наступившем после второй свадьбы царя, с Натальей Нарышкиной. Но кто может знать о своем сроке? Царь только недавно перешагнул за сорокалетний рубеж, вокруг него в Думе было много людей старше его на 20–25 лет, и ничто не говорило о возможности его раннего ухода из жизни… Скорее наоборот. 30 мая 1672 года родился еще один наследник – царевич Петр Алексеевич, будущий Петр Великий. После этого у царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны родились еще две дочери – Наталья и Феодосия. Профессор Филип Лонгворс называл это время в жизни царя словом, не требующим перевода, – «ренессанс» и говорил о роли молодой царицы, «возродившей к жизни царя Алексея Михайловича»{714}. Впереди, как еще увидим, вырисовывались новые горизонты Московского царства, начиналась большая война с Турцией и Крымом. Поэтому «последние годы» можно назвать иначе: для царя Алексея Михайловича наступила «осень власти»…
Отличие 1670-х годов в истории царствования Алексея Михайловича легко определяется по роли первого настоящего русского канцлера – Артамона Сергеевича Матвеева. Особенностью Московского царства было появление рядом с великими князьями и царями таких «временных» людей, или фаворитов, вынесенных наверх волей случая. В этом предложении все слова надо читать с особенным смыслом, понимая, что «верх» – это царский Верх, как назывались царские хоромы, а «случай» – это именно Случай, с большой буквы, – история особого возвышения немногих, самых близких царю лиц. Ужасная разинская война разлила общее ожесточение, вокруг царя стали востребованными ни о чем не размышляющие слуги, способные, если понадобится, быть и следователями, и палачами. Так и пришло «время» другого человека – Артамона Сергеевича Матвеева. В отличие от остальных близких советников царя Алексея Михайловича, возглавлявших основные приказы и заседавших в Думе, Матвеев, как и прежде Ордин-Нащокин, мог рассчитывать только на свои заслуги. Дружеское расположение царя он должен был ценить не по праву родственника или потомственного боярина, а как один из подданных, приближенный и выделенный самим царем. Поэтому стрелецкий голова и полковник стремился сделать все, чтобы оправдать царское доверие, но делал это не для одной корысти, в чем его потом обвиняли, а по искреннему и глубокому убеждению и стремлению к службе царю – источнику чести рода служилого человека.
Немало свидетельств этому в челобитных, написанных Артамоном Матвеевым из «заточения», точнее, из ссылки, куда он попал во времена следующего царствования, когда оттесненные от царя родственники его первой жены, Милославские, взяли реванш при дворе царя Федора Алексеевича. Против Матвеева были сфабрикованы многие обвинения, начиная с «беспроигрышных» для осуждения в системе взглядов московских людей чернокнижничества и следования иноземным обычаям. Хотя он и парировал: «Не до ученья было в ваших государских делах». И действительно, все знали, что у царя не было другого человека, способного лучше выполнить любой приказ, занятого сразу многими поручениями. Кроме исполнения тайных указов царя, были еще и стрелецкая и приказная служба, постройка церквей и устроение царских усадеб. Ходили рассказы о том, что в этих заботах Матвееву некогда было даже заняться строительством собственного двора в Москве. А когда уже сам царь Алексей Михайлович обратил на это внимание, то Матвеев стал отговариваться тем, что не мог найти камень для фундамента. После чего жители Москвы, «народ и стрельцы», принесли ему камни-надгробия с могил своих предков, так велики были уважение к царскому советнику и почитание его заслуг. Обвинители Артамона Матвеева хорошо знали, что он имел полное право сказать о своих службах: «многия лета» он был «без всякаго претыкания», «работал вам государям чистым сердцем, а не лукавым, и лукаваго не помышлял, и впредь помышлять не буду, дондеже дышу».
Известно, что окончательно положение Артамона Сергеевича Матвеева при царе Алексее Михайловиче укрепилось после организации им второй свадьбы царя, с Натальей Кирилловной Нарышкиной. С этой точки зрения ничего не менялось в московских порядках: как и у многих временщиков до Матвеева, его счастье и «случай» оказались в «кике». Но было бы неверным думать, что только новый брак царя проложил Артамону Сергеевичу путь в Думу. Возвышение Матвеева при царе шло постепенно, около двадцати лет, он участник самых важных событий царствования Алексея Михайловича. Показательно само перечисление таких событий в челобитной опального «временщика»: принятие в подданство «черкас» Богдана Хмельницкого, взятие Смоленска и другие события русско-польской войны, например, отход от Конотопа, где Артамон Матвеев «окоп и обоз и образец и путь строил». Участвовал стрелецкий начальник в «унятии случаев злых», например, в Коломенском в 1662 году. При организации собора по осуждению патриарха Никона Артамон Матвеев не только сопровождал вселенских патриархов, но и навлек на себя «ярость» митрополитов Павла и Ила-риона, когда не дал им подписывать уже подготовленные соборные постановления о «церковном исправлении», усмотрев, что в начале документа написаны «две статьи, вашего царскаго чина и ваших государских достоинств не сведая». Речь о хорошо известном споре о том, что выше – «священство» или «царство»; в итоге митрополиты Павел и Иларион не приняли соборного церковного постановления в январе 1667 года о «симфонии» и были даже обвинены собором в том, что «никонствуют и папствуют». Артамон Матвеев был одним из тех, кто советовал царю сразу расправиться с Разиным, до того как тот «учинил разорение государству». Царский приближенный по справедливости упоминал о своих заслугах в проведении «черной» Глуховской рады, на десятилетия установившей общепринятый порядок взаимоотношения с Малой Россией. Не случайно уже в 1669 году Артамон Матвеев сменил Ордина-Нащокина на посту главы Малороссийского приказа, а 22 февраля 1671 года – в Посольском приказе. Между этими двумя назначениями было пожалование Артамона Сергеевича в думные дворяне 27 ноября 1670 года, открывшее ему официально путь в Ближнюю думу, куда он был пожалован во время свадебных торжеств царя 23 января 1671 года.
Укрепление позиций Матвеева было связано с передачей ему под «личное управление» финансовых приказов, особенно это стало заметно после подчинения Новгородской четверти Посольскому приказу 10 марта 1671 года. Вслед за этим, конечно, пошли разговоры об обогащении Артамона Матвеева. «Оглашенный» многими деньгами и накопленной «рухлядишкой», Матвеев писал после конфискации его имущества в связи с опалой: «Не таковы объявились, как об них донесено». Деньги, собиравшиеся в Посольском приказе и четвертях, напротив, стали одним из инструментов проводимой политики. Матвеев среди своих главных заслуг выделял замену подвоза хлебных запасов в Киев выдачей денег на закупку хлеба из руководимого им Новгородского приказа. В его челобитных, опубликованных в «Истории о невинном заточении…», особенно подробно говорилось о финансовых мероприятиях, направлявшихся канцлером: «Я ж, холоп твой, будучи в приказе, вам великим государям служа, учинил прибыли великия: а вновь учинил Аптеку, кружечный двор, и из тех сборов сделал дворы каменные, Посольский, Греческий, лавки; а в расходы иманы что год, в Приказы тайных дел, в Стрелецкий, в Иноземский, в Хлебный, тысяч по штидесять и больше, кроме покупок в Мастерския палаты и во дворец. А в Киев, и в Чернигов, и в Переяславль, и в Нежин, и в Остр, ратным людям жалованья и на хлебную покупку все посылывано из доходов из Новгородскаго приказа и с четвертей, а из иных приказов не посылывали». Понятно, что многое из сделанного исполнялось по распоряжениям царя Алексея Михайловича, но доложить об этом царю, а потом исполнить его указ – в этом была служба «ближнего» человека и канцлера.
Служба Артамона Матвеева быстро сделала его незаменимым человеком в окружении царя, тем более что он повсюду расставлял нужных ему людей, постепенно собирая нити управления в своих руках. К числу его достижений в придворной борьбе относится занятие должности судьи Аптекарского приказа. Окольничий Иван Михайлович Милославский последний раз упомянут во главе Аптекарского приказа 20 октября 1669 года и вскоре был отставлен от этой службы, что стало началом заката влияния клана Милославских при дворе царя Алексея Михайловича. Позже Ивана Михайловича отправят на отдаленное воеводство в освобожденную от разинцев Астрахань. Какое-то время во главе Аптеки – важнейшего приказа, входившего в негласный «обязательный перечень» основных ведомств под контролем московского правительства, стояли только дьяки. А с 14 марта 1672 года у Аптекарского приказа появился новый судья – думный дворянин Артамон Сергеевич Матвеев. В обязанности главы Аптеки входило лечение царя и всей царской семьи. В подтверждение своей преданности такой человек должен был налить в ладонь лекарства, подававшиеся царю или наследнику, и выпить их вслед за ними. Именно с этого момента можно считать по-настоящему наступившим «время» нового канцлера. Свидетельством перемен в царском окружении стала традиционная церемония «шествия на ослята» в «Цветоносную неделю» Великого поста. Как написано в дворцовых разрядах, тогда «действовал Новгородской митрополит Питирим» (прежний патриарх Иоасаф умер 17 февраля, а нового еще не успели избрать: участие митрополита Питирима в церемонии можно считать своеобразным «предызбранием»). В этот день, приходившийся на 31 марта 1672 года, «осля вели за государем: боярин князь Юрьи Алексеевич Долгоруково, думный дворянин Артемон Сергеевич Матвеев»{715}. Постепенно вырисовывалась новая конструкция власти: традиционную роль титулованного боярства олицетворял собой победитель разинцев боярин князь Долгорукий, но следом за ним шел канцлер Матвеев. И с ним теперь приходилось считаться всем, кто хотел сохранить царскую милость.
Фоном этих событий было ожидаемое пополнение в новой семье царя. Совершенно не случайно новая степень думского возвышения Артамона Матвеева – пожалование в окольничие – пришлась на рождение царевича Петра Алексеевича 30 мая 1672 года. Именно тогда при дворе вперед пошли и новые родственники царя – Нарышкины, полностью обязанные Матвееву. Отец царицы, Кирилл Полуектович Нарышкин, был пожалован в окольничие, а ее дядя, Федор Полуектович, – в думные дворяне. Думный чин получил и дворецкий царицы Натальи Кирилловны Авраам Никитич Лопухин, предусмотрительно поставленный ведать Мастерской Царицыной палаты еще 17 апреля 1670 года (в день, когда завершились приготовления к смотру царских невест и новой царицы еще не было во дворце). Чином думного дворянина пожаловали и другого родственника царя, его двоюродного брата по матери, занятого руководством любимой царской сокольей охотой, – ловчего Афанасия Ивановича Матюшкина. В то же время Милославские и многие их родственники и клевреты уезжали из столицы на внешне почетные воеводства – и это удаление от двора, конечно, ставило предел их влиянию и могуществу в окружении царя Алексея Михайловича{716}. Из-за этой политики «вытеснения» Милославских, а также князей Хованских, Голицыных и Трубецких (вскоре тоже отправившихся на воеводства) верный царский слуга Артамон Сергеевич Матвеев наживал себе могущественных врагов. Вмешательство царского приближенного в ход собора по осуждению Никона, вероятно, тоже не было забыто. Избранный летом новый патриарх Питирим оказался последовательным противником новшеств, привносимых Матвеевым в придворную жизнь. Но и новый царский окольничий платил ему тем же и, в отличие от других членов Думы, не участвовал в традиционном обмене дарами с патриархом на разные церковные праздники{717}.
Каким глубоким оказался раскол в отношениях царя Алексея Михайловича с прежними советниками и даже родственниками после утверждения на первых местах в его ближнем круге Артамона Матвеева, показывает знаменитая история боярыни Морозовой. До недавнего времени главный житийный источник – «Повесть о боярыне Морозовой» – рассматривали исключительно в контексте истории старообрядчества и как памятник древнерусской литературы. Между тем историк Павел Владимирович Седов убедительно показал, что «Повесть…» напрямую связана с придворной историей. Преследование боярыни Морозовой, невестки воспитателя царя и жены его младшего брата Глеба Ивановича Морозова, началось с того времени, когда она осмелилась отказаться, под предлогом болезни, от участия в свадебных торжествах царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной. «Ноги ми зело прискорбны, и не могу ни ходити, ни стояти!» – говорила боярыня. «Вем, яко загордилася!» – отвечал царь. Раньше при дворе защитницей Морозовой и других приверженцев старой веры была царица Мария Ильинична, теперь все изменилось. Когда Морозова перестала, как это было раньше, демонстрировать свое подчинение, царь Алексей Михайлович произнес роковые слова: «Тяжко ей братися (от брань, война. – В. К.) со мною! Един кто от нас одолеет всяко!»
Даже после своеобразного объявления войны царь Алексей Михайлович долго надеялся «смирить» упорствующую в непринятии церковных перемен и отказывающуюся от благословения церковных иерархов боярыню или хотя бы заставить ее «для вида» перекреститься троеперстием. В этой обрядовой последовательности и проходит граница, отделявшая жизнь придворной от жизни церковной подвижницы. Несмотря на утвердившийся под воздействием известной картины Василия Ивановича Сурикова образ, боярыня Морозова отнюдь не была религиозной фанатичкой. Ей, как наследнице одного из богатейших российских состояний, было что терять; заботилась она и о судьбе своего сына, о сестре – княгине Евдокии Прокопьевне Урусовой, в итоге разделившей ее участь, о других членах семьи – братьях Федоре и Алексее Соковниных, отосланных из Москвы «якобы на воеводство, паче же в заточение». В ее переписке с духовным отцом, протопопом Аввакумом, можно найти и горделивые слова: «Есть чем, батюшко, жить; телесного много дал Бог», и размышления о женитьбе сына – Ивана Глебовича, выборе ему невесты из «доброй» семьи, или обычной «породы». Сам протопоп Аввакум в сердцах однажды попрекнул ее любовью к богатым «треухам». Об этом несоответствии привычному образу писал исследователь русской культуры рубежа XVII–XVIII веков Александр Михайлович Панченко: «Боярыня Морозова – это характер сильный, но не фанатичный, без тени угрюмства». Но все эти детали перестали иметь значение после того, как церковные власти и Боярская дума вмешались в противостояние царя и верховой боярыни прежней царицы. Да и сама она уже приняла тайный постриг с монашеским именем Феодора. По словам «Повести о боярыне Морозовой», «и бысть в Верху не едино сидение об ней, думающее, како ю сокрушат». Муж сестры, царский спальник князь Петр Урусов, тоже предупреждал жену, «что у них в Верху творится»: «Скорби великие грядут на сестру твою, понеже царь неукротимым гневом содержим и изволяет на том, что вскоре ее из дому изгнати!»
Исполнителем царской воли стал чудовский архимандрит Иоаким (будущий патриарх), неожиданно начавший церковное следствие прямо в доме боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой 16 ноября 1671 года. Известны слова Иоакима, вполне объясняющие его роль в этом деле: «…Не знаю старые веры, ни новые, но что велят начальницы, то и готов творити и слушать их во всем». Вместе с чудовским архимандритом в обыске в боярском доме участвовал глава Стрелецкого приказа думный дьяк Ларион Иванов. Именно по их приказу боярыню вынесли из дома на кресле, когда она, поддерживая версию о своей «болезни», отказалась идти куда бы то ни было (этот момент изображен на картине другого исторического живописца, Александра Дмитриевича Литовченко, также «дословно» проиллюстрировавшего текст «Повести»). И в дальнейшем, когда 18 ноября боярыню заставили предстать перед судом в Чудовом монастыре – «и принесоша Феодору и вшедши во едину от полат вселенских», – она еще могла надеяться, что царь согласится с ее версией и не будет преследовать дальше непокорных сестер.
Обличать боярыню Морозову взялись хорошо известный по событиям церковного собора 1666/67 года митрополит Крутицкий Павел и все тот же чудовский архимандрит Иоаким. Судя по рассказу «Повести…», «прения с ними» продолжались «от 2-го часа нощи до десятого», отказ боярыни от причастия по тем же Служебникам, по каким причащались царь и его семья, стал главным основанием для обвинений ее в еретических действиях. Непокорившуюся сторонницу старой веры сначала также отнесли «на сукне в дом» и посадили там в подклете вместе с сестрой, предварительно заковав в железо, под охраной стрельцов. На следующий день, еще более мучая узницу, ей вместо ножных кандалов положили железные «чепи на выя» и навсегда увезли из дома к месту ее первого заточения на подворье Псково-Печерского монастыря на Арбате, купленному незадолго до этого Приказом Тайных дел. Тогда-то боярыня Феодосия Прокопьевна и показала всем силу своей веры. Согласно «Повести…», когда ее везли через Кремль, мимо Чудова монастыря, «под царские переходы», она демонстративно подняла вверх руку с двоеперстием – «руку же простерша десную свою… и ясно изъобразивши сложение перст»: часто осеняя себя крестом и «чепию такожде часто звяцаше», она надеялась, что царь Алексей Михайлович увидит «победы ея».
Окончательно судьба боярыни Морозовой решится много позже, когда незадолго до своей смерти в 1673 году патриарх Питирим возьмется увещевать опальную староверку. Это приведет к пыткам при участии членов Думы, стоявших «над муками» опальных сестер. Царь Алексей Михайлович и Дума так и не могли придумать, что с ними делать, хотя готовы были даже казнить их: «А на Болоте струб поставили». Патриарх Питирим склонял Думу предать боярыню Морозову «сожжению», но «боляре не потянули»; князь Юрий Алексеевич Долгорукий смог убедить их «малыми словами, да многое у них пресек». Вся эта история была еще и болезненным разрывом с прошлым для царя Алексея Михайловича: ведь он расправлялся не только с семьей дворецких прежней царицы Марии Ильиничны, но и с наследницей состояния своего воспитателя – боярина Бориса Ивановича Морозова. Сестра царя Ирина Михайловна открыто высказала брату, сколь неблагодарным к памяти Морозовых он выглядит: «Достойно было попомнити службу Борисову и брата его Глеба». Показателен и «великий гнев» царя, так ответившего сестре: «Добро, сестрица, добро! Коли ты дятчишь (заботишься. – В. К.) об ней, тотчас готово у мене ей место». Это была уже последняя ссылка боярыни Морозовой и ее сестры в боровскую земляную тюрьму, где несчастных женщин намеренно уморили голодом и холодом уже при следующем патриархе Иоакиме{718}. Но все так называемые «последние годы» царю Алексею Михайловичу приходилось жить с тем, что он отказался от наследия Морозовых, Милославских, Соковниных, Ртищевых и других ранее близких ему родов.
Артамону Матвееву, конечно, была выгодна такая «расчистка» придворного пространства, но не ему одному. Его соперник за влияние на царя при дворе, боярин и оружни-чий Богдан Матвеевич Хитрово, получил, например, один из самых лакомых кусков из вотчин Морозовых – село Городище на правом береге в Заволжье, напротив Костромы. Участвовали в разделе морозовских вотчин и имущества царский тесть Кирилл Полуектович Нарышкин и другие лица. Например, только за счет наследства Ивана Глебовича Морозова, умершего вскоре после ареста матери в конце 1671-го – начале 1672 года, в разных уездах были испомещены 160 жильцов и начальных людей. Одной из вотчин боярыни Морозовой наградили впоследствии вдову астраханского воеводы князя Семена Львова (вместо львовской вотчины, отданной самому Артамону Матвееву). Укрепилась и ведущая роль при дворе аристократов, участвовавших в преследовании и пытках боярыни Морозовой, – князя Юрия Долгорукого, князя Ивана Воротынского, князя Якова Одоевского и Василия Волынского. Но большей частью освободившееся пространство прежних, очень прочных родственных и придворных связей заполняли новые люди, приведенные Матвеевым, старавшимся все время находиться рядом с царем. Однажды, в мае 1673 года, он случайно пострадал из-за взбрыкнувшей под ним лошади, сильно ударился головой и проболел почти все лето. Когда же недомогание прошло и он вернулся к делам, у него сразу произошла ссора с боярином Богданом Матвеевичем Хитрово, и царь Алексей Михайлович должен был вмешаться в их спор{719}.
Внешние изменения при дворе особенно заметны в связи с новыми «царскими потехами». Вместо охоты при дворе увлеклись театром, а кроме церковного пения царя стала интересовать игра на «аргане». И это тоже произошло не без влияния Матвеева. Именно на него пала организационная работа по подбору автора и постановщика первой пьесы – пастора Иоганна Готфрида Грегори, а также актеров из «немцев» и дворовых людей самого боярина, организации театральной «храмины» с местами для царя и его семьи. Долгое время считалось, что начало придворного театра связано с представлением первой русской пьесы «Артаксерксово действо», иллюстрировавшей одну из библейских историй из «Книги Есфирь». Впервые «Артаксерксово действо» смотрели в «комедийной хоромине» в Преображенском 17 октября 1672 года. Содержание пьесы, в которой рядом с древним персидским царем действовали «хороший» и «плохой» советники, а Эсфирь получала корону вопреки козням врагов, публика в придворном театре легко могла «примерить» к современным обстоятельствам царской свадьбы с царицей Натальей Кирилловной. Перед самим представлением «оратор царев» по имени Мамурза прямо обращался к царю Алексею Михайловичу, прославляя его: «О великий царю, пред ним же християнство припадает… Ты, самодержец, государь и облаадатель всех россов, еликих солнце весть, великих, малых и белых, повелитель и государь АЛЕКСИЙ МИХАИЛОВИЧЕ, монарха един достойный корене престолу и власти от отца, деда и древних предков восприятии и оным наследъствовати, его де великое имя ни в кои времена не помрачится». Конечно, содержание «Артаксерксова действа» воспринималось без далеко идущих аллюзий. Не так еще искушена была придворная публика, только познакомившаяся с театром, чтобы следить за подтекстом реплик доморощенных актеров. Хотя театральные представления всё равно понравились своей красочностью, специально сшитыми богатыми костюмами и другими внешними эффектами. «Артаксерксово действо» еще не раз ставили в дворцовом театре, отдельные представления шли целых десять часов подряд! Репертуар пьес со временем расширился, были сочинены и другие «комедии»{720}.
Однако вопреки устоявшимся представлениям начальная история придворного театра оказалась связана не с «Артаксерксовым действом»! Как недавно установили Клаудия Дженсен и Ингрид Майер, начальной датой русского театра следует считать 16 февраля 1672 года. Исследовательницы проанализировали сообщения современных европейских газет и донесения разных лиц из России, включая хорошо информированного торгового представителя Швеции. Оказалось, что впервые царь Алексей Михайлович увидел не пьесу «Артаксерксово действо», а балет об Орфее, да еще в сопровождении целого представления. В спектакле одновременно участвовали музыканты, а также известный по народному театру в Германии и Голландии комический персонаж по имени Пикельгеринг (дословно: Pickelhering – маринованная сельдь). Естественно, что «немцы», привлеченные Артамоном Матвеевым к театральным делам, брали за образец знакомые им представления. Такой герой – шут, или немецкий «дурак», – вполне пришелся к русскому двору.
Следующее представление состоялось уже после окончания Великого поста и праздника Вознесения, 18 мая 1672 года, меньше чем за две недели до рождения Питра I. Царица Наталья Кирилловна присутствовала и на февральском, и на майском представлениях. Трудно сказать, могли ли ее видеть присутствующие, так как она сидела в каком-то «отдельном месте», устроенном на чердаке в бывшем доме боярина Ильи Даниловича Милославского (известном впоследствии как «Потешный дворец»). Царское окружение, конечно, знало, как царь Алексей Михайлович стремился развлечь свою молодую супругу. Уже первый спектакль так понравился, что 15 мая был издан указ о посылке в Европу царского комиссионера полковника Стадена для набора иностранных специалистов (ранее никогда не приезжавших к русскому двору): сразу двух постановщиков представлений и профессиональной актерской труппы. Стаден даже вел переговоры с известной примой Анной Паульсен, которую не отпускали от двора датского короля. 4 июня состоялось распоряжение пастору Грегори готовить «Артаксерксово действо» и одновременно устроить театр в Преображенском, где осенью 1672 года возобновились представления придворного театра{721}.
С именем Артамона Матвеева связано появление нескольких примечательных книг, представляющих прекрасные образцы парадно-дворцовой культуры. В первую очередь это хранящиеся в Государственном древлехранилище в Российском государственном архиве древних актов «Титулярник» 1672 года и «Книга об избрании на царство Михаила Федоровича» 1673 года. Насколько велико было значение составления этих книг для Артамона Матвеева, можно судить по тому, что они были включены им в перечень своих заслуг в челобитных, поданных во времена опалы: «А служа вам, великим государям, и желая вашея государския к себе милости, сделал книги с товарищи своими, и с приказными людьми, и с переводчики, в Посольском приказе, какия не бывали и ныне на свидетельство мое, холопа твоего, и их работы в Посольском приказе. Первая книга: всех великих князей Московских и всея России самодержцев персоны и титла и печати, как великие государи сами себя описывали, а также и всех государей християнских и бусурманских, кои имеют ссылки с вами, великим государем, персоны их и титла и печати. Другая книга в лицах же с речением: Избрание и посылка на Кострому, и о прошении, и о приходе к Москве, и о венчании на царство Московское деда твоего государева, блаженныя памяти великаго государя, царя и великаго князя Михаила Феодоровича, всея России самодержца»{722}.
Матвеев упоминает еще и другие сделанные при его участии и представленные царю Алексею Михайловичу «лицевые», то есть иллюстрированные рукописи по русской истории. Их перечень можно дополнить книгами, в составлении которых принимал участие переводчик «еллино-греческаго языку» Николай Спафарий, написавший трактат под названием «Книга избранная вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах». Спафарий пользовался особым доверием Артамона Матвеева, разрешившего ему жить и охранять имущество, оставшееся на дворе, где раньше жил Паисий Лигарид. Учеба «латинскому языку» у Спафария была поставлена в вину московскому боярину, а самого Спафария спасла от преследований только отправка в посольстве в Китай в 1675 году (в этом направлении действий русской внешней политики Матвеев тоже оказался новатором){723}. В 1673–1674 годах был составлен подносной экземпляр перевода труда имперского геральдиста Леонтия Хурелича о генеалогии русских князей и царей, где доказывалось родство московской династии со всеми главными европейскими монархиями{724}.
Матвеев – прекрасный исполнитель, хорошо изучивший мысли царя, знающий о его желаниях. Видимо, и здесь он по собственной воле исполнил то, что не могло не понравиться Алексею Михайловичу. И сделал это не с прямолинейной лестью, а с размахом и определенным вкусом к постановке новых задач. К работе в Посольском приказе были привлечены лучшие мастера, а чтобы успеть изготовить рукописи к сроку, иногда мастеров буквально закрывали в приказе на ключ. В своих челобитных золотописец Григорий Благушин с товарищами так говорили о создании «Всех окрестных государств Государственной книги»: «А у той работишки были отлучась домишков своих, денно и нощно». В «Титулярнике» представлены портреты всех правителей России от Рюрика до царя Алексея Михайловича, а также портреты монархов других государств, с которыми были установлены дипломатические отношения и велась переписка в Посольском приказе. Подобной работой Артамон Матвеев, по сути, заложил традицию создания прижизненных портретов царей. Новое направление было придано и внешнеполитической деятельности: царь Алексей Михайлович получал представление о внешнем облике тех монархов, с которыми обменивался посольствами{725}.
«Книга об избрании на царство Михаила Федоровича» освещала главнейшие события в истории начинавшегося Дома Романовых – избирательный Земский собор 1613 года и возвращение в 1619 году из польского плена царского отца – будущего патриарха Филарета. Каждый этап избрания на царство Михаила Романова был проиллюстрирован с выдающимся искусством, надолго определив наше восприятие тех событий, особенно учитывая многажды растиражированные миниатюры этой книги. История ее создания, недавно заново изученная Сергеем Павловичем Орленко, показывает, что работа над «Книгой…» продолжалась несколько месяцев. Начало ее создания датируется 6 июля 1672 года, а окончание совпало с Пасхой 30 марта 1673 года, и, вероятно, сама «Книга…» стала пасхальным подарком Матвеева царю{726}. Главная идея составления всех этих рукописей – «Титулярника», «Книги об избрании» и других, если взять их в совокупности, – вполне очевидна: укрепление идеи династии Романовых, обоснование срединного положения Московского царства в христианском мире.
Заметный вклад в дела Московского государства Артамон Сергеевич Матвеев сделал, управляя Посольским приказом. Показательно, как при нем снова изменилось отношение к чувствительной для самолюбия царя Алексея Михайловича идее династической унии. В конце 1673 года в Польше умер, совсем еще не старым человеком, недолго правивший после Яна Казимира король Михаил Вишневецкий. На этот раз, в отличие от прошлого элекционного сейма, московские дипломаты были активны и попытались предложить на польский престол кандидатуру самого царя Алексея Михайловича, обещая поддержать Речь Посполитую в войне с османами, а на деле пытаясь обеспечить контроль над Правобережной Украиной. На переговорах в Москве 14 февраля 1674 года с представителем литовского канцлера, заговорившим о возможной поддержке царевича Федора Алексеевича, было заявлено, что царь Алексей Михайлович сам хотел бы участвовать в выборах короля, но при условии сохранения православной веры: «…быти государем на Коруне Польской и Великом княжестве Литовском изволяет в своей благочестивой истинной православной христианской вере греческаго закона сам своею особою, а сына своего благовернаго царевича и великаго князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России, как словесное прошение твое было, отпустить на Коруну Польскую и Великое княжество Литовское государем не соизволяет»{727}. В итоге в мае 1674 года на польский престол вступил знаменитый Ян Собеский – будущий победитель турок под Веной.