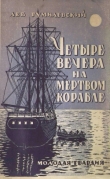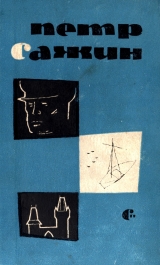
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
Закончив записи, я сфотографировал косатку. Жилин выхватил из–за пояса топорик и стал вырубать из пасти хищника зубы.
– На память, – смущенно улыбаясь, сказал он. – Все–таки первая моя добыча.
Я решил сфотографировать и его.
– А карточка будет? – покраснев, спросил он.
– Эта карточка будет известна всей стране.
Жилин покачал головой.
– Смеетесь, профессор! Ну что от косатки толку? Протухнет и на дно пойдет. Вот если бы финвала или голубого кита уложить – о це, как говорит боцман, дило!
– Важен почин, – сказал я.
– Вот именно – почин! – раздался за моей спиной голос капитана Кирибеева. – Вы правильно сказали, профессор… А кое–кто думает, что мы забавляемся: лучину дерем снарядами. А вы как, профессор?
Вместо ответа я протянул руку:
– Поздравляю вас! Ото всей души поздравляю!
– За что же меня–то? – спросил Кирибеев. – Вон Жилина и Чубенко надо поздравлять! Они молодцы!
– А вы?
– Я?.. – Он немного подумал и сказал: – Я обязан быть молодцом. Да разве только я один? И вы, и механик Порядин, и Плужник, и секретарь крайкома, и резчик китового сала на «Аяне», и нарком, и кочегар на китобойце, и жиротоп на китобазе – все должны быть молодцами!.. Все должны смотреть вперед! Не так ли?
Он присел на фальшборт и указал мне место рядом с собой. Некоторое время капитан молча смотрел на бухту. Успокоившаяся после стрельб вода, стеклянно поблескивая, едва покачивалась и только в кутах, у отмелей, то вскипала, то рябилась – там вскидывалась рыба. Птицы с голодным криком, то кружась, то падая к воде, хлопотали над косяком.
– Смотрите, профессор, – сказал капитан Кирибеев, показывая на птиц, – вот добытчики!.. Работают без устали. А мы?.. Я часто думаю, – сказал он, зажигая спичку, – для чего мы трудимся? Вопрос как будто глупый, верно? Каждый ребенок на него ответит. Но почему же мы, взрослые, делаем столько глупостей?.. Слыхали ль вы, профессор, что примерно двадцать процентов камчатского лосося идет на приготовление юколы, то есть собачьего корма? Нет? А это факт. Печальный, но факт! Скажите мне: стал бы колхозник рубить яблони на силос скоту? Нет?.. А можно топить печи красным деревом? Нет?
Он вздохнул и, щурясь от дыма своей трубки, продолжал:
– В Беринговом море около трехсот видов рыб. В Охотском чуть поменьше… Можно было бы найти для собак что–нибудь попроще и подешевле? Вы считаете, можно. Тогда почему же не ищут товарищи ученые?
Вы знаете, что составляют двадцать процентов рыбы, которая отдается на корм собакам? Не знаете? Это не ваша тема?.. Ладно. А я скажу вам: подсчитано, что рыбаки Дальнего Востока добывают двести двадцать миллионов штук лососей в год. Двадцать процентов от этого составляют сорок четыре миллиона. А лосось – рыба крупная, одной можно накормить пять человек. Ну, что вы скажете?.. Я понимаю, вы этот вопрос не изучали и сказать ничего не можете. А вот другая проблема. Примерно две трети лососевых идет в обыкновенный посол. Соль делает рыбу грубой и жесткой, как сыромятный ремень, и народ не любит такой рыбы. А можно ее готовить по–другому? Можно! Вы скажете: почему же это не делается? А вот почему: хозяйственники наши дальше процентов плана ничего не видят. Для них главное – план. Выполнен – и ладно. Вот ведь как, подлецы, рассуждают!
Но сами, профессор, эти, с позволения сказать, хозяйственники не едят сей «продукт». Они предпочитают другое. Поезжайте к этим деятелям, они вас угостят такой рыбой – пальчики оближешь! У каждого имеются бочоночки со своим посолом мальмы, горбуши, чавычи, своими маринадами сельди. Вам подадут такое, что от тарелки за уши не оторвешь. Угощают, да еще бахвалятся: «Кушайте, кушайте, у нас свой посол, не массовый!»
Вы не пробовали кету или горбушу семужного посола? А кетовые копченые брюшки? Это же теша белорыбицы! А копченую сардинку? Это «антик–марен», как говорит наш кок Остренко.
Капитан Кирибеев замолчал – то ли для того, чтобы собраться с мыслями, то ли ждал, что я скажу. По выражению его лица чувствовалось, что он не все высказал, хотя мысль его была мне понятна. Положив руку на мое колено, он сказал:
– Знаете, что нужно, профессор? На военном флоте есть такой сигнал: «Поворот все вдруг». По этому сигналу все корабли делают резкий поворот и ложатся на новый курс. Пора бы нашему правительству поднять на реях такой сигнал для наших ученых и хозяйственников. Пусть каждый знает простую истину: если ты добываешь рыбу или снимаешь яблоки с дерева, то думай не только об отчете вышестоящему начальству, а главным образом о том, как это будет выглядеть на столе у советского человека. Понимаете?
Зайдите в любую береговую столовку, в меню все найдете: и подпись директора и калькулятора, и количество граммов мяса, «заложенного» в котлету, и «выход», – только котлеты нет, вместо нее на тарелке, извините, не поймешь что! Не так ли с нашей рыбой?
Когда я хочу представить себе, как же у нас на промыслах должно быть, мне видятся целые флотилии первоклассных промысловых и рефрижераторных судов; опытные инженеры, ученые, консультанты, техники, отличная промысловая разведка.
А когда я думаю о конечном результате, то в моем воображении вот как это рисуется: рыба в пергаменте, в бочоночках, в ящичках, в баночках, чистая, нежная, ароматная, сочная и жирная. И представьте тебе такую картину. Вечер, над столом мягкий свет, на столе перламутровые дольки крабов, золотая сардинка, серебристые килечки, шпроты. Вот входят гости, рассаживаются. «Ай, рыбка, ну и хороша! Спасибо тем, кто выловил, и тем, кто так вкусно приготовил!»
Он облизал губы и спросил:
– Вы, наверное, думаете, что я вам лекцию читаю?
– Нет, – сказал я, – то же самое мне говорил профессор Вериго—Катковский.
– Да? – спросил капитан Кирибеев. – Вериго—Катковский настоящий ученый; он занимался наукой, но на первом плане у него всегда была помощь нам, промысловикам. Это большой человек! Мало здесь таких людей. Дальний Восток, профессор, может завалить страну рыбой, лесом и золотом. Пришла пора взять эти богатства. И мы, конечно, возьмем их. Работы здесь столько, что стой хоть по три, хоть по четыре вахты кряду, а всего не переделаешь.
– Вот, – указал он рукой на кут бухты, – видите, кипит все от рыбы. А где тут рыбак и ученый? Их нет. Рыбу пожирают птицы, а когда мы уйдем, с гор спустится медведь и начнет лапой выкидывать рыбу на берег. Потом морские звери придут. Затем японский хищник заявится. Ведь они что делают? Опускают ставные неводы на путях миграции лососевых, берут и молодь и половозрелую рыбу. Берут у нас под носом, пользуясь тем, что наши ученые и промысловики боятся оторвать зад от берега… Эх, профессор! Разве можно мириться с этим?
А китобойный промысел? Мы можем добывать китов в три раза больше. Но с кем? С иноземными гарпунерами? С Плужником?
Вот я и решил на свой страх и риск учить ребят стрелять из пушки… Я знаю, мне будет взбучка. Но, профессор, смирного волка и телята лижут.
Я бы и вам посоветовал настоящим делом заняться! Надо изучать то, что важно народу. А то что получается? Ученые подсчитывают, сколько икринок откладывает лосось, прослеживают рунный ход рыбы, а не замечают того, что устья рек, куда лососи идут на нерест, заносятся песком, илом, галькой… На многих руслах валяются бревна, корье. Реки от вырубки леса и кустарника мелеют – лососям негде будет откладывать икру.
Почему же ученые не играют тревогу по этому поводу? Надо свистать всех наверх! Дайте слово – когда вернетесь в Москву, грохнете в печати по этим вопросам. Не дрейфьте, профессор! Беритесь за перо – и «полный вперед»!
Он встал.
– Вот мы не побоялись, взялись за китобойное дело. И что же? Сами видели, как Жилин одним выстрелом косатку взял. А Кнудсен делает вид, что у пушки может действовать только гений. Какая чепуха! Норвежцы десять лет выдерживают будущих гарпунеров в учениках, а потом подводят к пушке. Ученик должен без промаха десятью выстрелами убить десять китов! А когда ученик отстреляется, думаете, все? Нет! С него возьмут клятву на Библии, что он никогда никому не раскроет секрета охоты на китов, и лишь после этого дадут диплом. Нужно ли нам идти этим курсом? А вот Плужник не согласен со мной. «Что ты, что ты, говорит, в мировой практике такого нет, чтобы за один сезон готовили гарпунеров».
Я ему говорю: «Да! В мировой практике многого нет. Будем, говорю, свою практику вводить». Он на меня руками замахал.
Ну черт с ним, с Плужником. Я решил добиваться своего. Раз нужно, мы будем упорны и настойчивы.
Шесть лет назад, профессор, мы первого кита разделывали на палубе «Аяна» – жутко сказать – три дня, а теперь справляемся меньше чем за час.
Конечно, если бы эти задачи нужно было решать с профессором Мантуллиным или со штурманом Небылицыным, то я первый бы отказался. Вы Мантуллина не знаете? Это бог всех ученых волынщиков, главный консультант зверобойного дела в Москве. Вериго—Катковский терпеть его не может.
– Эх! – воскликнул он. – Скорей бы нам своих гарпунеров, разве так бы мы работали! Кнудсен – отличный китобой, а дело делает – как говорится, «у нашего Фали даже рукавицы спали». А заставить я его не могу. По контракту не имею права вмешиваться. Вот ведь чепуха какая! А Плужника, профессора Мантуллина, штурмана Небылицына это вполне устраивает. Да ведь оно со стороны кажется нормальным. Как же, план– то выполняется! Чего же еще надо? А что – план? Мой план такой: давай побольше да получше – народ спасибо скажет.
Капитан Кирибеев достал из бокового кармана записную книжку и, листая ее, продолжал:
– Вы знаете, профессор, что писал Мантуллин в двадцать седьмом году в журнале «Промысел Дальнего Востока»? «Если, говорит, раньше, то есть в прошлом столетии, когда наши воды изобиловали китами, мы не смогли и не сумели стать китобоями, то теперь, когда запасы китов подорваны, у нас нет никаких перспектив для развития самостоятельного китоловства. Но, – слушайте дальше! – рационально использовать наши районы охоты можно. Это мыслится в плоскости предоставления иностранному капиталу концессий». Чуете, профессор, куда гнул этот «ученый»? И что же вы думаете, он своего добился. В те годы здесь вела промысел «в плоскости концессии» иностранная китобойная база «Командорэн» с пятью китобойцами. Китобои сдирали с китов жир, вырубали ус, а туши выбрасывали в бухты. Туши разлагались, гнили, вонь стояла дикая. Капитан Костюк рассказывал мне, что в бухты войти невозможно было. А через эти бухты на нерест в реки шли миллионные стада лососей… Ох, сколько же их тогда погибло, – страх сказать!
Спасибо Костюку, он в то время командовал охранным судном: акт за актом, и «Командорэн» было отказано в продлении концессии. Мантуллин такой аврал поднял – хотел помешать расторжению договора! Не вышло. Но скажите мне: почему этот человек занимает пост главного консультанта Морзверпрома? Вы понимаете, как все тут у нас не просто? Поэтому и прошу вас помочь нам… Так как же, профессор, по рукам?
Я не чувствовал себя подготовленным к такому большому делу. Он заметил мою растерянность и продолжал:
Неужели вы хотите вернуться в Москву, так же как многие из вашей братии, с образцами черноглазки и выписками из вахтенных журналов? А? Поймите же, профессор! Я не был здесь три года. И что же? Все осталось по–прежнему! Терпеть–то дальше нельзя. Либо надо сдаться, спустить флаг, либо идти против ветра! Я предпочитаю второе. Ну так как же? Что ж молчите?..
Что я мог сказать? Мог ли я отнестись ко всему тому, что рассказал мне капитан, иначе, чем он? Конечно нет!
23
Разговор с капитаном Кирибеевым вселил в меня беспокойство и чувство робости. Ночь показалась мне необычайно длинной, каюта – душной, а постель – жесткой. Что я знал обо всем том, о чем с такой страстью рассказывал мне Кирибеев? Не больше, чем картограф средневековья Птолемей о современной географии. Я не рыбник. После института я занимался изучением биологии гренландского тюленя и черноморского дельфина–пыхтуна. Правда, я много читал; мой отец, учитель географии, рано разбудил во мне интерес к книге. В детстве и юности я не одерживал побед ни в футболе, ни в прыжках, ни в дворовых драках, но зато я прочитал океан книг. Отличная намять позволила мне сохранить уйму имен, названий стран, рек, городом, островов, морей… Я хорошо знал историю, но не знал или почти не знал жизни. Как и все юноши, я мечтал о путешествиях, об открытиях и страшно досадовал на то, что все великие географические открытия уже свершены, что на мою долю не осталось ни диких мустангов, ни лошади Пржевальского, ни розовых чаек, ни одногорбого верблюда, ни неведомых земель и необитаемых островов, словом – ничего…
Как я завидовал капитану Геннадию Невельскому, который проявил нечеловеческое упорство и доказал, что Сахалин не полуостров, как это утверждали Лаперуз и Браутон, а остров!
Что же можно сделать в наше время, время невиданно быстрых темпов? В прошлом веке путь от Москвы до Приморска по знаменитой колесухе длился три месяца, по первой железной дороге – двадцать два – двадцать пять дней; теперь экспресс пробегает это расстояние за девять суток, а самолет перекрывает колоссальные пространства Урала, Сибири и Забайкалья не более, чем в двое суток.
Во времена колесухи и деревянных, оснащенных парусами судов воображение путешественников будоражили рассказы о «золотых россыпях», «голубом жемчуге» и «серебристом мехе». Смелые люди искали таинственную землю Гамы и неведомые «золотые острова». Корабли плыли на Восток из Акапулько, Марселя, Роттердама, Лиссабона… в океан, который Фернандо Магеллан в 1520 году назвал Тихим, а Бюаш через двести лет – Великим. В океан, на северных землях которого действительно были скрыты золотые россыпи, а в лесах и на прибрежных скалах многочисленных островов было столько меха – серебристого, красного, бурого, белого, голубого, золотистого, темного и искристого, как старый янтарь.
Не все искатели вернулись к своим семьям. Не были найдены тогда ни земля Гамы, ни золото, ни голубой жемчуг, ни серебристый мех. В шканечных журналах и штурманских дневниках говорилось о дьявольском холоде, сырых и липких, как плесень, туманах, о льдах и безграничных пространствах холодной и злой воды. Только русские землепроходцы, крепкие как кремень, одолевая сибирские просторы, продираясь через таежные чащобы, через бурные и многоводные реки и высокие горы, исходили вдоль и поперек «необъятную землицу» и первыми принесли весть о настоящих богатствах далекого края, помеченного по карте Птолемея как страна Мангула, о морях и плавающих в них островах.
Славные русские землепроходцы и мореплаватели сделали великие открытия, а маленький русский царь и его ничтожные министры быстро растеряли почти все завоевания: в первой четверти прошлого столетия царское правительство заключило конвенцию с Америкой и Англией, по которой дозволялось кораблям этих держав «заходить без малейшего стеснения во все внутренние моря, заливы, гавани, бухты для производства рыбной ловли и торговли с туземными жителями».
Сотни судов, тысячи людей ринулись в наши воды, на наши земли. В дремучих лесах Охотского побережья застонали вековые деревья под ударами топора пришельца, на Шантарских, Командорских и островах Прибылова с утра и до ночи не умолкал крик зверей, на берегах бухт запылали костры, над ними повисли огромные медные котлы салотопен. Бородатые люди в клетчатых рубашках, в шляпах, в кожаных штанах, заправленных в высокие сапоги, с ножами у поясов гонялись с дрючками за бобрами и котиками, метали гарпуны в китов, валили на землю мачтовый лес… Что только не делалось в те годы на далекой окраине, в наших водах, открытых и добытых пόтом и мозолями отважных землепроходцев и мореплавателей! Передовые русские люди, истые патриоты, кому были дороги завоевания отцов, не единожды стучались в золоченые двери царских приемных, чтобы выжить из русских вод пиратов. Но царские чиновники были глухи и немы.
Около тридцати лет продолжалось опустошение наших восточных берегов и морей. Свыше двухсот шхун и барков приходили каждый год весной к русским берегам из Нью—Бедфорда, Род—Айленда, Бостона и Гонолулу. Их трюмы были набиты спиртом, порохом и табаком. В обратный путь шхуны забирали с собой китовый жир и ус, бесценные шкурки котика и сверху еще нагружали дрова, заготовленные из рангоутного леса.
Сколько трудов было вложено русскими землепроходцами и мореходами, строителями, коммерсантами, рыбаками, зверобоями, учеными, чтобы открыть и заселить Аляску, острова моря, бухты, проливы! Сколько пота и крови стоило это! И все пошло ни за грош…
Много передумал я за эту ночь. Я спрашивал себя: как мог профессор Мантуллин утверждать, что у нас «нет никаких перспектив для развития самостоятельного китоловства»?
В детстве, юности и в годы учебы в институте я насосался книжной мудрости и довольно много «путешествовал» по сказочным мирам мечты… Наступила пора книжную мудрость соединить с практикой, то есть с «художествами», под которыми Ломоносов подразумевал промыслы всех отраслей.
Год тому назад, плавая в водах Баренцева моря, я упражнялся в бесплодных мечтаниях, что вот, мол, человек научился разводить рыб, слонов, серебристых лисиц, лосей, зубров, – хорошо бы найти способы разведения морских млекопитающих, которых человек беспощадно уничтожает на протяжении нескольких веков. Исчезла с лица земли морская корова Стеллера, в арктических водах выбит весь так называемый гладкий, или гренландский, кит, в Южной Атлантике на многочисленных островах Антарктики англичане уничтожили все стадо котиков, такая же участь чуть–чуть не постигла дальневосточных котиков, которых американские я английские зверобои в течение ряда лет безжалостно избивали стальными дрючками… Разводить котиков еще можно. Но китов?
Как все молодые мечтатели, я слишком часто рассчитывал на счастливый случай. Конечно, в истории открытий есть немало случаев, когда счастливые или трагические обстоятельства приводили к огромным открытиям. Так, случайно, из–за сильного шторма, португалец Бартоломеу Диаш обогнул Африку и открыл мыс Доброй Надежды… Но в наше время к счастливым открытиям есть одна дорога – дорога труда и исканий. Капитан Кирибеев показывает мне эту дорогу. И неужели я должен от нее отказаться?
Не должен! Хотя бы во имя тех, кто открыл, исследовал и завоевал эти воды.
Ведь сейчас мы идем путями, где на дне среди водорослей лежат покрытые ржавчиной старинные якоря, пушки, остовы кораблей и останки тех, кто заплатил жизнью за честь и славу родины…
Я вскочил с постели. В иллюминатор уже пробивался рассвет.
Туман, гладкая, как полированная сталь, вода да летящие низом чайки… Ни кусочка синего неба, ни единого отблеска утренней зари. Все окрашено аспидным цветом: скалы, воздух, вода. Китобоец осыпан изморозью, как крупной солью. Воздух сырой, промозглый, тяжелый.
Поеживаясь от холода, я хотел было вернуться в каюту – подремать до завтрака, но тут из дальнего кута бухты донесся надсадный и беспокойный крик чаек. Я подошел к борту и посмотрел в ту сторону, где раздавался птичий галдеж. Что там случилось? Туман закрывал угол бухты, и мне ничего не удалось увидеть. Я быстро вернулся в каюту, взял бинокль, зарядил фотоаппарат высокочувствительной пленкой и занял прежнее место. Крик чаек становился все громче и тревожнее, но я по–прежнему ничего не видел.
Прошло много времени, китобоец уже просыпался. Из кочегарки доносился стук лопат и звон ломиков; на камбузе повизгивали дверцы плиты – Остренко разводил огонь; в каюте механика засвистел напильник. В матросском кубрике кто–то громко сказал:
– Опять этот чертов туман! Нечего было уходить от «мамы» (так китобои называют «Аян»), кино посмотрели бы.
– Да-а, – сказал другой, и я по голосу узнал Жилина, – жаль, не тебя назначили капитаном! Ты бы так и стоял у матки под бортом, а китов бы за тебя медведь бил…
Продолжение разговора я не слышал, так как в куту, где галдели чайки, в этот момент немного просветлело, и сквозь кисею изреженного тумана я увидел огромное животное. Что это? Выбросившаяся на берег косатка или «обсохший» на отмели горбач? Я поднял бинокль. Но даже сквозь сильные стекла не удалось разглядеть того, что происходило на дальней отмели.
Что могло быть там? Какую тайну скрывала аспидная пелена? Боже, как же далеко я забрался от тех мест, где на улицах горит электричество, вода бежит по трубам, а туманы так редки, что о них сообщают в газетах!
Я продрог и хотел было пойти погреться, как услышал на палубе шаги. Я оглянулся – это был кок Остренко.
– Здравствуйте, профессор! – сказал он. – Что вы там смотрите?
Вытирая на ходу мокрые руки, он направился ко мне.
– Вы это смотрите? – указал он рукой на место, куда я глядел.
– Да, – сказал я.
– Ну и что?
– Не могу разглядеть. Что это такое?
– Тю, – сказал он, – да это же Степан Петрович на шлюпке! Ну конечно, сам кэп. – И, понизив голос, Остренко пожал широкими, как у борца, плечами. – Не понимаю – чего он не спит? Встал я ночью. Темень, ни Млечного Пути, ни луны – мы же на краю света. Пригляделся к темноте и вижу – капитан наш на полубаке ходит. Трубка, как паровоз, дымит, а он все ходит и ходит… Поглядел я на него и подумал: «Э, Жора, твое дело спокойней. Накормил команду, селедку на завтрак в заварку положил, чтобы отмокла, гречку перебрал – и пожалуйста: хочешь себе – спи, хочешь – читай Майна Рида «Всадник без головы». От книжонка! Умереть не даст! А еще Горького про детство… Лихо написано! А между прочим, не говорил вам капитан, чего это с ним?
– Нет, ничего не говорил.
Остренко оглянулся и шепотом сказал:
– Штурман говорит, что у нашего капитана жинка – того… Правда ли это?
– Вранье, – сказал я.
– Вы видели жинку капитана?
– Нет.
– Я ее видел один раз в Приморске. Не женщина, а антик–марен! Все мужчины города оборачиваются, когда она идет… Жалко, – вздохнул Остренко.
– Кого?
– Да капитана Кирибеева… Не жизнь у него, а… Встал чуть свет, взял шлюпчонку – и айда… Как вы думаете, может, он через это и переживает? Сейчас вернется и начнет гонять по ящикам. Я думаю, что он умно делает: зачем валюту платить?.. Что мы, богом обиженные или из жалости тетей рожденные? Что мы, сами не можем китов бить? Подумаешь, хитрое дело! Я где–то читал, что англичане блоху заводную сделали да и подарили ее царю нашему: вот, мол, смотри, что наши мастера могут. А смотреть на ту блоху можно было только через лупу – такая она была маленькая, как пороховинка. Царь показал нашим мастерам и говорит: «Вот какую диковину англичане сделали. А вы что можете?» Наши с них посмеялись, блоху тую разобрали, на ножки ей манэсенькие подковочки надели и опять собрали… Здорово, а? Так то блоха, а тут самое исполинское животное, тут проще.
Он помолчал немного, глядя, какое впечатление произвела на меня его речь, и, заметив, что я внимательно слушаю, добавил:
– Между прочим, Кнудсену не нравится, что Кирибеев гарпунят готовит, очень не нравится. Ну и что? Капитану Кирибееву все эти недовольные – что слону дробина. Он до своего дойдет, ночи спать не будет, а дойдет… Я уже про себя решил: как только он убьет первого кита, торт такой сделать – фигура кита из орехового теста с изюмной начинкой, сверху шоколадом, как глазировкой, покрывается… В эту фигуру вводится гарпун из цуката, а к нему придается линь из атласного сахара. Тортик – будь здоров! Ни на этой, ни на другой стороне земного шара не найдешь ничего подобного.
Пока он говорил, туман в дальнем куту бухты растаял, и я отчетливо увидел шлюпку и капитана Кирибеева. Он греб в сторону китобойца. Над ним с диким гвалтом вились чайки. Остренко вдруг засуетился.
– А теперь дробь! – сказал он. – Надо идти кофе заваривать. Степан Петрович голову оторвет, если к его приходу не будет кофе… Дайте–ка мне бинокль на секундочку… Тяжело идет шлюпка… То ли рыбы накидал, то ли еще чего. А я, дурак, солонину вымачиваю. Ну, нате вам бинокль и считайте, что меня тут нет и не было: я давно уже на камбузе, кофе у меня готов, гречка парится, компот кипит, самовар свистит…
Он засмеялся так, что живот его заходил ходуном, и вразвалку направился на камбуз. Скоро оттуда донесся сиплый тенорок, перебиваемый иногда шипением пара, звоном конфорок и повизгиванием натачиваемых ножей. Шлюпка с капитаном приближалась. Кирибеев греб, сидя спиной к кораблю, энергично взмахивая веслами, изредка поворачивая голову в сторону «Тайфуна». Заметив вышедшего на палубу Чубенко, оп опустил весла и махнул левой рукой. Чубенко, а вслед за ним и я перешли к левому борту, куда и причалила шлюпка. В носу ее лежало ружье, а под ногами Кирибеева бились, беспомощно хватая ртом воздух, десятка три крупных рыбин. Среди них, тяжело дыша, раздувала бока чавыча и беспомощно лежали плоские, как ракетки пинг–понга, камбала и палтус.
Капитан Кирибеев поднял весла, уложил их в шлюпку, затем взял ружье, рыболовные спасти и, подавая их Чубенко, сказал:
– Пусть Остренко заберет рыбу и не кормит нас сыромятными ремнями. Да пусть в следующий раз сам сходит… Ему полезно протрястись – жирный стал, как финвал.
Чубенко крикнул кока и занялся шлюпкой. Капитан Кирибеев направился к себе. Он шел медленно, сгорбясь, словно нес тяжелый груз. Видно, что–то случилось у него. Может быть, опять с Небылицыным схватился.
В последнее время между ними установились такие отношения, что один вид друг друга вызывал раздражение.
У каюты Кирибеев остановился, огляделся кругом, затем поманил меня рукой. Когда я подошел, он посмотрел на меня в упор:
– Вы, профессор, чего так рано поднялись? Я видел вас с отмели, когда таскал лососей.
– А вы?
Он улыбнулся.
– Какая же любопытная молодежь пошла… Мне по должности не положено спать, я могу только отдыхать, да и то не всегда. Разве охотники и капитаны спят?
Он звучно и продолжительно зевнул.
– Вот видите, похвастал перед вами, а зеваю, как бухгалтер после составления годового отчета.
Он зажег спичку и раскурил трубку.
– Вы, наверное, и спите–то с трубкой? – сказал я.
– Бывает… Не раз прожигал одеяло… Я, как Тарас Бульба, и погибну, наверное, из–за трубки.
Он открыл дверь, жестом попросил меня зайти и присесть, а сам плюхнулся на койку. Пружины застонали. Глядя на носки своих сапог, он пожал плечами, поднял голову, молча посмотрел на меня, вздохнул и спросил:
– Вы драться умеете, профессор?
– То есть?
Он подался вперед, сел поудобнее.
– Ну, не на кулаках, конечно!.. Для этого, я вижу, вы не очень–то подготовлены. Драться за идею?
– Думаю, что да, – сказал я.
– Думать тут нечего, профессор. Надо отвечать прямо – да или нет.
– Хорошо, – сказал я, – пусть да. Но мы ведь с вами об этом уже говорили…
– То дело дальнее, то вы будете делать потом, в Москве. А сейчас, как говорится, «противник уже у ворот».
– Какой противник и у каких ворот? Штурман Небылицын? Кнудсен?
– Нет, Кнудсен стоит в сторонке… Противник не здесь, не на борту «Тайфуна».
– Кто же он?
Капитан сделал глубокую затяжку, энергично выпустил густую струю дыма, забрал трубку в кулак и, словно раздумывая, говорить или не говорить, помолчал немного, затем вскочил на ноги, прошелся по каюте и, остановившись у стола, сказал:
– Плужник! Да, именно он – капитан дальнего плавания, герой партизанский, черт старый!
Он остановился, положил свою тяжелую руку на мое плечо и, нажимая на него, сказал:
– Вы знаете, я прибыл сюда не для того, чтобы кого–то выживать или заниматься дипломатией. Я вернулся сюда, чтобы делать большое дело. Понимаете? Вся страна вздыблена: задача – догнать и перегнать передовые капиталистические страны… В Ленинграде, Москве, на Урале, в Сибири, на Украине – всюду строятся заводы, фабрики… Люди работают как черти – недоедают, недосыпают. А тут, на флотилии?
Он еще крепче надавил на мое плечо.
– На флотилии, конечно, знают, что нужно догонять и перегонять, а тянутся на буксире. Люди рвутся к гарпунной пушке, на разделочную палубу, к жироварным агрегатам. А Плужник?.. Вчера вызывает меня к радиотелефону и спрашивает: «Чего это ты, Степан, надумал по ящикам стрелять? Заряды, – говорит, – тебе некуда девать? А?..» Я молчу. Плужник злится: «Чего, – говорит, – молчишь?»
Ну, думаю, драться так драться! Спрашиваю: «Товарищ капитан–директор, какая у вас погода?» – «Туман», – говорит. «Значит, салотопня зря уголек пережигает?..»
Капитан Кирибеев засмеялся. Я первый раз видел его смеющимся. Совсем другим стало лицо: глаза зажглись, на щеках – румянец, и куда только делись суровость и мрачный прищур!
Что тут было! В микрофоне забулькало, захрипело. Потом послышался крик. Боже мой! Чего только он не говорил! И кончил тем, что приказал прекратить обучение гарпунеров. «Категорически, говорит, запрещаю тебе государственные деньги на ветер бросать! А вернешься, отчитаешься за каждый заряд, за каждый гарпун!» Значит, пока мы швартовали косатку, Небылицын успел сообщить обо всем на китобазу. Понятно, профессор? Ушел я из рубки и всю ночь просидел за столом – писал в крайком, в Москву. Напишу – порву, напишу – порву, так все и выбросил.
Кирибеев тяжело вздохнул и замолчал, хотя по лицу его видно было, что он сказал еще не все.
– Зря вы это сделали, – сказал я.
– Что зря?
– Письма порвали.
– Нет, профессор, не зря. Во–первых – их не с кем отправить… Во–вторых – даже если я отправлю их по радио, то кто–то когда–то сюда прискачет, а сезон будет упущен… И, в третьих, – а это, пожалуй, самое главное, – зачем мне жаловаться? Зачем загромождать цека, крайком жалобами? Что я, не хозяин на судне? Что я, маленький? У нас завелась такая привычка: по всякому поводу обращаться в цека. Доказывать свою правоту нужно делом, на месте. И если ты за дело борешься, то тебя никто не слопает. Главное – добейся победы, а победителей редко судят. Правильно, профессор?
– И правильно и неправильно… Приказ старшего начальника…
Кирибеев вскочил.
– Что же, значит, по–вашему, конец моей затее?
– Боюсь, что да, – сказал я.
– Нет, профессор, я не намерен задний ход давать! Что скажут китобои? Конечно, нарушать приказ начальника – значит подавать плохой пример подчиненным. А объяснять им мои отношения с Плужником ни к чему. Придет время, сами узнают. Что вы посоветуете мне, профессор?
Он испытующе смотрел на меня.
– Что же вам посоветовать? По–моему, продолжать идти старым курсом, – сказал я.
Он хлопнул меня по плечу.
– Молодец, профессор! Я тоже так думаю. Значит, драться, так уж драться до конца! Вы не завтракали?
– Нет.
– Отлично! Я так проголодался, что готов один целого лосося съесть… Пошли!
Мы вышли из каюты. Утро уже разыгралось, но в бухте не было заметно перемен – по–прежнему висел густой туман, галдели чайки и кое–где выхлестывалась рыба. Но на сердце было легко и свободно, словно через густую завесу тумана проглянуло солнце.