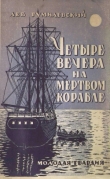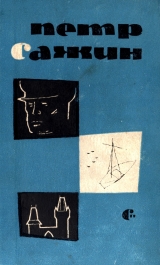
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
…Квартира оказалась просторной. Дом был старинный, комнаты низкие, сводчатые, стены, как в крепости, толстые, окна маленькие. На стенах – гравюры: какие–то замки, каналы, римские развалины, оливковые рощи, рыцари, гончие собаки и всякая такая чертовщина. На шкафу – старинные морские инструменты – угломер, секстан и хронометр работы Баррода.
Медные ручки у дверей надраены по–корабельному, с озорным блеском. Всюду морской порядок. Это было по мне. Квартира принадлежала капитану дальнего плавания. Он уезжал в Англию представителем Совторгфлота. Собственно, он уже был там, в Англии. Теперь к нему собиралась уехать семья.
Меня тут все устраивало. У капитана была обширная библиотека, хозяйка разрешила пользоваться ею. Как видите, все шло отлично. Лариса вначале была не очень довольна, ей не нравилось, что квартира далеко от центра, но скоро она смирилась и стала строить планы, как мы будем жить. Время до отъезда хозяйки мы решили посвятить осмотру города. Занятов вызвался быть нашим гидом.
Эта жизнь очень нравилась Ларисе и Занятову. Меня же она тяготила. Я не привык зря тратить время. Ведь это, профессор, были годы первой пятилетки.
…Представьте себе огромный город, дым корабельных и фабричных труб, гудки паровозов, звон трамваев, вспышки электросварки, огни фонарей и реклам, афиши, всплеск волн под винтами кораблей на Неве. И среди всего этого – нас троих, мечущихся без дела. Понятно, почему я испытывал угрызения совести? Или, быть может, я говорю не очень убедительно?
Язык мой, профессор, как якорь – тяжелый. А вот «Рембрандт» – тот был мастер. Я поражался не только его памяти, но и умению как–то по–особенному рассказывать. И ведь не уставал, дьявол! Целыми днями таскал нас по городу и все говорил… О чем только он не рассказывал нам! Эх, если бы я знал столько, сколько он!
К ночи я так уставал, что мне снились чугунные решетки, прямые, как стрела, проспекты, каналы, дворцы, мосты и всякие там фризы, капители, пилястры… А на следующий день все повторялось сызнова.
«Рембрандт» затащил нас в «Дом двенадцати коллегий», где сейчас Ленинградский университет. Мы даже прошлись по его длиннущему, как причальная стенка, коридору. Студенты называют его «глистой». Он узкий, а длина его достигает почти двух кабельтовых. После «Двенадцати коллегий» мы осмотрели Зимний дворец, Эрмитаж, Адмиралтейство.
Где только мы не были!
Ездили в Петергоф, Ораниенбаум, Детское Село, Павловск, Гатчину. Мы сбились с ног, а ему все было нипочем. Этот чертов «Рембрандт» был влюблен в свой город и знал его как хороший норвежский лоцман – шхеры. Теперь, после Ленинграда, когда я смотрю на современные здания, то, верите ли, часто испытываю чувство стыда за тех, кто их проектировал. Неужели мы оскудели талантами? Быть того не может! Просто, я думаю, как и в нашем китобойном деле, кое–где засели люди, которым собственный престиж дороже государственных интересов. Хуже нет, профессор, когда человек умен не по уму, а по положению. Ведь вот Занятов был и умен и талантлив, а его затерли. И почему? Его сынишка, пятнадцатилетний сопляк, начитался книг и, как чеховский «Монтигомо – Ястребиный Коготь», удрал на пароходе за границу. Ну и испортил отцу биографию: его сняли с работы. Он запил. Потом его бросила жена. Он еще больше опустился. А ведь талант! И вот скатился вниз. Прибившись к нам, он ожил. А мог бы работать сам и учить других. Ведь он все понимал. Он показал нам Ленинград во всей его красе. Да не просто показал, помог разобраться, научил понимать истинную красоту и ее строгие законы. И в благодарность за это нам хотелось помочь ему. Но он сам, к сожалению, все испортил, дурак…
Капитан Кирибеев сделал паузу, разжег трубку и продолжал:
– Я стал замечать, что Лариса становилась какой–то странной, даже тревожной, когда его долго не было.
Это насторожило меня. Нет, ревновать я не ревновал: я же говорил вам, что он был уродлив. А Лариса… Ну как бы это вам сказать? Она с трудом переносила физическое уродство. Но зато поддавалась влиянию любого, кто был сильнее ее в умственном отношении. А он, конечно, был сильнее. Превосходный художник, образованный человек, и притом образованный, так сказать, в той сфере, куда она тянулась всей душой, то есть в сфере искусства. Но что я мог сделать? Прогнать его? Закрыть перед ним двери?
Мы продолжали бродить по городу, читали стихи – Занятов помнил наизусть уйму стихов, – катались по Неве, смотрели заход солнца со Стрелки, назначали свидания друг другу под арками и у памятников, которых в Ленинграде бездна…
В общем, жизнь наша в те дни была похожа на плавание среди островов Океании, где местные жители канаки, как рассказывают восторженные путешественники, только и делают, что плетут венки из роз и поют песню любви: «А лоха ойе». Но мне–то нужно было знать, профессор, что около островов Океании много рифов и опытный капитан всегда держит там ухо востро. А вот я, старый дурак, вовремя не увидел. Хотя… как вам сказать… одним глазом видел, конечно, но не придал значения. Ну и наскочил на риф. А все этот чертов «Рембрандт»…
34
С чего это началось? Через две недели после переезда на квартиру мы стали устраиваться: Лариса – в консерваторию, а я решил все–таки попытать счастья в море.
Ларисе вызвался помочь Занятов. Он стал у нас своим человеком в доме. Без него ни к завтраку, ни к обеду не садились.
Пока я ездил в порт, он помогал Ларисе устраиваться в квартире. Она же не может без того, чтобы десять раз не передвинуть всю мебель. Вероятно, мне не нужно было ездить в порт и надолго оставлять их одних. Но кто его знал, что все так получится?
Наступил день, когда я вдруг почувствовал, что не могу без моря. Выйдешь на набережную Невы – на воде корабли качаются. Рядом, на Балтийском заводе, – стук молотков, треск электросварки. Напротив, у Канонерских мастерских – суда стоят. А чуть дальше, в порту, – дым, гудки…
Эх, думаю, что же я – то, старая калоша? Неужто мне–то в мои годы да с моим характером – в сухой док? Нет, думаю, попробую счастья.
Флот наш рос, развивалась торговля с заграницей. В Барочном бассейне столько грузилось лесовозов! У элеватора и холодильника корабли – корма в корму, очередь целая. А флагов–то! Наши, английские, шведские, финские, французские, бельгийские.
Но мне не повезло, наткнулся на крючкотвора из отдела кадров, заел меня анкетами да вопросами: почему да отчего уехал с Дальнего Востока? Я ему так и так – уехал, ну, то есть как оно на самом деле было, рассказал. А он говорит: «Подождите, сделаем запрос»… Ну, я плюнул и решил идти в мореходку. Лариса тем временем подала документы в консерваторию. Ей тоже сразу было отказали: каких–то бумаг не хватило. Но тут проявил бурную энергию этот самый «Рембрандт». Бумаги у нее взяли условно. Словом, все как будто налаживалось. Хотя и с трудом, но, как говорится, мы оба легли на правильный курс.
Времени у нас свободного было много: ей – до экзаменов, а мне – до начала занятий. Оба мы стали готовиться: она дома, а я ходил в Публичную библиотеку. Все шло хорошо.
Так жили мы недели три или около того. И вдруг в один момент все полетело к чертям собачьим…
В тот день я с утра ушел по своим делам и собирался прийти лишь к обеду. Но вышло так, что дело я уладил быстро и вернулся раньше. У меня был свой ключ. Я осторожно открыл дверь и услышал разговор, от которого сначала остолбенел, а потом, не раздеваясь, пошел на голоса.
«Рембрандт» стоял на коленях, плакал и все повторял:
– Лариса Семеновна, только не гоните! Только не отталкивайте! Без вас для меня нет жизни…
Она, прижавшись спиной к раскрытому пианино, говорила:
– Да вы с ума сошли!
Они не видели меня, хотя я стоял в дверях почти против них. Он продолжал:
– Если вы не скажете, он не узнает. Умоляю вас, не гоните. Степан Петрович – ничего… Он добряк… Да и счастливы ли вы с ним? Вы талант! Вы большой талант! Вы будете блестящей актрисой. А он кто? Вам нужен человек искусства… Я, конечно, понимаю… Я в ваших глазах жалкий, нищий человек. Но встреча с вами окрылила меня, подняла. Я никогда еще так не работал. Я могу работать еще больше… Ради вас я готов на все.
Тут она как крикнет:
– Встаньте! Вы не смеете так говорить о Степане! Степан…
Она не договорила: увидела меня и бросилась ко мне.
«Рембрандт» поднялся с колен. Согнувшись, прошел мимо нас к вешалке, схватил пальто и, не одеваясь, вышел.
Как только дверь закрылась за ним, Лариса – она вся дрожала – прижалась ко мне и заплакала. Я стал гладить, успокаивать ее.
– Степочка, – хныкала она, – я не виновата. Ну, скажи – что же мне делать? К людям просто хорошо относишься, а они уже бог знает что начинают думать! Ну как мне быть?
Я не ответил. Я сам не знал, что ей в самом деле делать.
Если бы каждый человек знал, что ему делать, от скольких бы глупостей мы избавились!
Тяжко мне было. Хотелось взять Ларису и убежать куда–то. А куда? И что бы мне это дало? Вот я убежал с Дальнего Востока, и что же? И стал Ленинград мне вдруг противным, чужим…
О «Рембрандте» я в этот момент не думал. Да и что я мог с ним сделать? Мне вдруг все стало безразличным: и великие творения, и красота города… В тот момент больше всего хотелось очутиться в море… да так, чтобы шторм, чтобы мостик обдавало волной, чтобы ветер свистел в вантах…
До вечера я просидел в кресле, закрыв глаза. Лариса, накрывшись шалью, свернулась в клубочек на диване.
Пока я сидел в кресле, перед моим мысленным взором пронеслась вся жизнь. Я пытался найти в ней какую–то опорную точку, чтобы встать на правильный курс.
Не найдя этой точки, я подошел к буфету. Стаканчик коньяку немного успокоил меня и вызвал аппетит. Я обнял Ларису.
– Ладно, – сказал я, – не расстраивайся. Но тебе, Лара, пора подумать о том, как вести себя.
– Неужели ты считаешь, что я виновата? – спросила она и сделала удивленные глаза.
– Да, – ответил я, – кое в чем виновата ты.
– Но что же я сделала?
– Твоя доверчивость иногда выглядит как обещание каких–то близких отношений. Ты порой как бы забываешь, что ты замужняя женщина.
– Не понимаю, – сказала она.
– Ладно, – говорю, – не понимаешь сейчас, поймешь потом, и не поймешь, хуже будет и для тебя и для меня… Короче, пора нам кончать с праздной жизнью. А теперь давай поужинаем.
Она пожала плечами и пошла собирать на стол.
После ужина мы вышли на набережную и гуляли до ночи. Прогулка вернула спокойствие и то правильное ощущение жизни, которое должно быть у человека всегда.
Но утром, чуть свет, нас разбудил звонок: пришла телеграмма из Лондона – хозяева квартиры неожиданно возвращались домой. Что же было делать?
Наскоро позавтракав, мы отправились на поиски по объявлениям в газете. Конечно, не нашли ничего путного.
Вопрос решился совсем неожиданно, на третий день, когда мы вернулись из очередной поездки по объявлениям. К нам зашел управдом. Он тоже получил телеграмму из Лондона, в которой его просили предупредить нас об освобождении квартиры. Вот он и предложил нам адрес, по которому сдавалась квартира. Мы поехали.
…Квартирка оказалась в двух шагах от консерватории. Место превосходное. Правда, улочка узенькая, оттого что по одной стороне ее течет канал Крунштейна. Но зато вид! Напротив окон – Новая Голландия, справа – Галерные мастерские, слева – золотая шапка Исаакиевского собора… Лариса без особой радости переезжала на новую квартиру. Выглядела она хуже прежней, и рядом не было хороших магазинов. Но, как говорят англичане: «Если ты не можешь делать то, что тебе нравится, то пусть тебе нравится то, что ты делаешь». Философия, конечно, рабская. Но у нас, как видите, профессор, другого выхода не было. Когда мы обжились, то все, как говорится, встало на свое место. Ведь переезд на новую квартиру и устройство в ней похожи на отход корабля в рейс. На берегу, на палубе – уйма грузов, суета, пыль. А приходит час, когда все укладывается, пыль и грязь с палубы скатываются шлангами, капитан дает команду очистить кормовые и носовые швартовы… Потом гудок, и пошел корабль в дальнее плавание. Так и мы устроились. Затем пошли смотреть, где и что вокруг нас есть для жизни и радости. Оказалось, в двух шагах живет сапожник, через дом – мастерская для ремонта керосинок и примусов, рядом на площади – аптека, газетно–журнальный киоск, магазины бакалеи и гастрономии. Тут же – трамвай. Словом, все под боком. Да и Нева рядом, а на той стороне реки как на ладони Горный институт, Академия художеств и перед ней знаменитые каменные сфинксы.
Переезд с Васильевского острова на канал Крунштейна отвлек нас от истории с Занятовым. Портрет, который он написал, я спрятал подальше, чтобы ничто не напоминало о нем.
Когда мы устроились, Лариса стала готовиться к поступлению в консерваторию, а я взял на себя заботы по хозяйству.
Настал день экзаменов. Лариса волновалась, плохо спала ночь, а утром вскочила чуть свет, гладила, причесывалась.
Пришли мы значительно раньше времени. Что делать? Мы то ходили, то сидели на скамейке у памятника Глинке, говорили о каких–то случайных вещах. Лариса часто отвечала невпопад. Когда подошло время, она осмотрела себя, проверила сумку – есть ли платочек, гребенка, ну и там прочие мелочи, прошлась передо мною и спросила:
– Ну, Степа, прилично я выгляжу?
Я сказал, что все в порядке и что выглядит она отлично.
Она подошла ко мне, поцеловала, как на вокзале, когда уже дан третий звонок, и быстро ушла.
Часа через два она вернулась. По ее сияющему лицу я понял, что все обстоит хорошо. Мы присели на скамейку. Она рассказывала торопливо, перебегая с одного на другое. Успех был полный. Несколько членов приемной комиссии, когда она спела, даже аплодировали ей, хотя это и не полагается.
Я поздравил ее, и мы отправились обедать.
Стоя на трамвайной остановке против оперного театра, Лариса наклонилась ко мне и тихо сказала:
– Видишь, Степочка, там консерватория, а здесь театр. Их разделяет площадь, а сколько нужно сил, чтобы пройти это расстояние от консерватории до театра! Удастся ли мне?
– Удастся! – сказал я и хотел добавить, что я в нее верю, но тут подошел трамвай.
35
Вскоре и мои дела уладились: меня взяли преподавателем в мореходное училище. Незаметно наступила осень. Кончились наши прогулки по городу. У обоих появились свои дела и свои заботы. Лариса училась прилежно, с большим интересом. Мне моя работа сначала была не совсем по душе, я же не береговой человек, меня тянуло в море. Каждый день, идя на работу, я видел перед собой мачты кораблей, и они, словно острые иглы, кололи мне сердце. Но ради Ларисы я подавлял в себе эту боль. Признаюсь, несколько раз мне хотелось сбежать из мореходки. Ведь это было время бурного роста советского торгового флота – все новые и новые корабли вступали в строй. Да какие корабли! Красавцы! На такой корабль, как говорят моряки, пойдешь служить за один лишь гудок. Как я удерживался на берегу – одному богу известно.
Но я удержался. Жили мы с Ларисой дружно. Она училась с азартом. Я тоже старался дать моим ребяткам все, что знал. Ребята хорошие – морская косточка. Они еще до мореходки на память знали весь корабельный набор, а дома у каждого найдется модель парусника, да не простая лодчонка с парусом, а целая бригантина с полным такелажем, с оснащенным гротом, с мостиком, с великолепным резным бушпритом, ахтерштевнем, со шпилями, с шлюпчонками, подвешенными на еле видимых канифас–блоках… А любознательные – до невозможности! Начнешь им рассказывать – глазенки засверкают, как топовые огни ночью, сидят, прямо не дышат. Чуешь, что хотя и слушают они внимательно, а мыслями на мостиках: тело, как говорится, в классе, а душа давно на корабле, в море.
Я сам был таким когда–то, поэтому понимал их состояние, и, признаться, нравились они мне. Я стал привыкать к ним, и приступы тоски по морю являлись все реже и реже. Да ведь и дома у меня все шло хорошо. Ах, как хорошо! – воскликнул он и замолчал.
Я посмотрел на него и увидел, как оживленное скупой улыбкой его лицо вдруг снова стало тускнеть. Так бывает в облачные дни, когда на только что блестевший всеми красками лес вдруг ложится длинная и черная тень от облака.
– Да, – сказал он глухо и без оживления, – хорошо мы прожили два года. А потом опять понеслась наша жизнь, как тройка, вскачь да под уклон…
Лариса, по совету профессора консерватории, участвовала в конкурсе оперного театра. Выдержала с успехом.
Сначала ей поручали небольшие партии и занимали редко – она еще продолжала учиться в консерватории. Но через год положение ее изменилось из–за одной случайности. Заболела актриса, которая должна была петь партию Кармен, попробовали Ларису, и ее имя появилось на афише. Я хорошо помню то утро. Изморозь, от, Невы пар, с Балтики тянет свежачок. На площади Труда у тумбы – женщина с холщовой сумкой, набитой афишами, рядом с ней – ведро с горячим клейстером. Ведро дымится, пальцы у женщины красные – осеннее утро холодное.
Наклеивает женщина афишу, я читаю и как–то весь поднимаюсь. Партию Кармен поет моя жена! Вы понимаете, профессор, что это значит?
Расклейщица заметила, что я со вниманием читаю афишу, сказала:
– Новая.
Я промолчал. Тогда она сердито добавила:
– Я говорю – новая артистка; если через голос попала в театр – хорошо, а уж по знакомству с режиссером, то Ленинград не примет…
Я удивился.
– То есть как не примет?
– А так… ходить на нее не станет!.. Но, говорят, эта, – она запнулась, – что голосом, что собой – редкая… С Дальнего Востока. И откуда там такие? Говорят, там, как и у нас, туманы – для голоса вред.
Она водила толстым помазком по тумбе, наклеивая новые афиши. Одна из них приглашала на лекцию известного полярника о Великом Северном пути, а другая на лекцию о международном положении, которую читает популярный академик, но говорила женщина о новой актрисе.
В день премьеры я был на ногах с утра и до самого спектакля. Квартирный и телефонный звонки трещали не переставая. Кто только не был у нас: подруги Ларисы по консерватории, фотограф из театра, парикмахер, сотрудники газет.
Не помню, как мы с ней дожили до вечера. Проводив ее за кулисы, я отправился в зал. В театре было все как обычно, но мне казалось, что душно, что на меня все смотрят, что долго не начинают, что публика очень шумно себя ведет. Но вот поднялся занавес, и я замер.
Когда Лариса вышла на сцену, в зале раздался сдержанный шепоток и сотни биноклей устремились на нее. Пела она, по–моему, хорошо. Сочный, звонкий голос ее звучал, как флейта.
Но кончился первый акт – жиденькие аплодисменты. Второй – тоже. Когда шел третий, я почти не глядел на сцену – мне было стыдно. Кругом шепот: «Откуда взяли эту синицу?.. Где Ковалева?» Ковалева – актриса, которую из–за болезни заменила Лариса. Я готов был провалиться. Не помню, как досидел до конца.
Когда кончилось представление, я побоялся идти за кулисы. Я представлял себе Ларису. Опять, думаю, слезы, истерики. Но я ошибся: не было ни слез, ни истерики. Все это было дома, да в таком количестве, что пришлось врача вызывать.
Три дня она пролежала. К ней приезжали из театра, успокаивали, уговаривали, ссылались на какие–то примеры из жизни великих актрис. Но она, кажется, не внимала никому – лежала черная, с провалившимися сухими глазами, искусанными губами и больше молчала. Когда с ней заговаривали, только вздыхала и качала головой.
Из этого состояния ее вывела народная артистка Самборская, бывшая звезда Мариинского театра. Ее привез с собой дирижер, кажется Лобанов. Бодрая, надушенная старушка просидела у Ларисы часа два и заставила встать, одеться – одним словом, поставила на ноги. Как я потом узнал, дирижер этот Лобанов и Самборская несколько раз слышали Ларису еще в консерватории, верили в ее способности и вообще покровительствовали артистической молодежи.
Через три дня после этого Лариса снова выступила в той же роли. Она так волновалась, что я опасался – опять сорвется.
Встретили ее сдержанно. В персом акте ни в пении, ни в игре она не показала себя, действовала выучкой, и я думал, что опять провалится.
Второй акт тоже начала робко и даже как–то скованно. Я опустил голову – мне было больно за нее. Слушали ее плохо – перешептывались, ерзали на стульях.
Но вдруг я заметил, что в зале наступила тишина, а голос Ларисы словно налился соком, стал крепче, увереннее, сильнее. Я поднял голову и все понял: она преодолела страх, расковала свои силы. К концу спектакля все словно с ума сошли. По залу пронесся тайфун – зрители галдели, топали ногами, требовали на бис…
Выбраться из театра было трудно. Лариса очень устала, и я хотел поскорее увезти ее домой. Но этого не удалось сделать: тут налетели какие–то доброжелатели и друзья искусства.
Словом, мы очутились в «Астории». Шампанское, цветы… Мне удалось перед мореходкой поспать лишь два часа. В семь я уже снялся со швартов и самым малым ходом затопал к училищу. Лариса даже и бровью не повела, когда я уходил: она устала, да и шампанское свое дело сделало.
С этого дня началась у нее новая жизнь. Первое время все мне было интересно. Я ходил на каждый спектакль, в котором участвовала Лариса. Но вскоре как–то незаметно и как бы само собой сложилось так, что мы стали жить разной жизнью: у меня день в мореходке, у Ларисы утром репетиция, а вечером спектакль. Вот в это время ее и окружили околотеатральные люди. Как они пробрались в наш дом, кто они, я не имел понятия. Но то, что это люди ловкие, было видно, как говорится, и невооруженным глазом. Для них в жизни не существовало никаких препятствий: они могли достать любую вещь – от французских духов «Коти» до роскошной антикварной мебели.
Они вскружили голову Ларисе похвалами ее таланту, принесли в наш дом излишнюю суету, ажиотаж и всякую такую чертовщину и как–то незаметно оттеснили меня от Ларисы и завладели ее душой. Словом, получилось по пословице: «Был бы мед, а муха прилетит и из Багдада». Я оказался в стороне. Приходил из мореходки поздно, усталый, ее дома уже не заставал, в театр идти не хотелось.
Она все реже и реже приглашала меня с собой, а уходя из дому, говорила: «Я скоро», или: «Не сердись, зовут ведь только меня». Потом стала мне говорить: «Пока», или: «Я позвоню», а то и просто: «Обедай без меня». Когда же нам случалось бывать вместе, то и в эти дни нас не оставляли одних: то приходили гости, то телефон без умолку трещал. Стоило подняться на звонок, как она тут же вскакивала: «Это меня… Ты сиди, Степа!»
Говорила она долго, утомительно. Разговоры чаще всего были необязательные.
Несколько раз я пытался серьезно поговорить с ней. Несколько раз предупреждал, что ее окружение портит нашу жизнь, что эта среда, как подводное течение, медленно сносит нас с правильного курса. Но где там!.. Она была словно слепая. Считала, что я стал стареть, что ничего не понимаю и так далее. Без конца поучала меня, то не так вилку или ложку держу, то хлюпаю, когда борщ ем…
Вскоре я заметил, что она стала стыдиться меня в обществе своих гостей, словно боялась, что я не то или не так скажу. Всякий раз, как только я хотел что–нибудь сказать, она спешила остановить меня.
Сначала я думал, что все это мне кажется из–за какого–то обостренного отношения к ее поступкам, а потом понял: дело тут не в обостренном восприятии ее поведения, нет! Дело глубже. Очевидно, настала пора для серьезных выводов. Но я тянул. Ведь я, профессор, очень любил Ларису!
Но у всякого дела есть конец… Как–то я сказал ей, что нам надо поговорить. Она сидела у трельяжа и массировала кожу под глазами.
– О чем?
– О наших отношениях.
– Что ж, – отвечает, – говорить о них? Разве я тебе мешаю?
После этих слов я понял, что пора выбирать якоря, пора подумать о своей судьбе. Я стал все чаще уходить из дому. Я очень люблю один из замечательных уголков Ленинграда – набережную за мостом Лейтенанта Шмидта.
Тут живут старые моряки, которые помнят первые дни ледокола «Ермак» и адмирала Макарова. Заслуженные водолазы, лоцманы, штурманы, капитаны.
Выйдешь на набережную – так и застынешь: идет седой моряк с папкой под мышкой, навстречу ему – школьник. Глянешь на Неву – баржи, катера, шлюпки. Мощный буксир, захлебываясь, тянет корпус нового корабля. Тросы натянуты, гудят, ветерок в вантах свистит, белый пар из контрапарника, как пена у коня, скидывается в воздух… Глянешь на мост Лейтенанта Шмидта – машины, трамваи, пешеходы. Всюду люди, везде труд, все заняты, у всех дело. Так хорошо, так чудно и счастливо кругом!
А дома у меня жизнь, как говорят в Одессе, дала трещину. Я стал думать о том, как безболезненно перейти эту трещину. Однажды увидел корабль, который напомнил мне «Тайфун», и так захотелось вернуться на флотилию! Эта мысль не выходила у меня из головы ни днем, ни ночью. И она была так сильна, что я дошел до галлюцинаций: стал слышать характерный всплеск воды, который бывает при всплыве китов. Мне чудились горы Чукотки, айсберги, кудрявые сопки Камчатки и суровые берега земли коряков. И я решил вернуться на Дальний Восток. Бежать решил…
Кирибеев вздохнул, затем сделал небольшую паузу и продолжал:
– Но, профессор, уехать так, без ничего, я не мог. Нет, не семейные дела, я говорю о другом. Конечно, Плужник меня принял бы и так, в любое время. Ведь я с завязанными глазами могу дойти от мыса Поворотного до Наукана. Но я хотел вернуться на флотилию с хорошим подарком китобоям. Вы, профессор, хорошо знаете гарпунную пушку Свена Фойна? Ну, ту, что стоит на баке каждого китобойца?
Я кивнул. Кирибеев продолжал:
– Создание чудесное, но далеко не совершенное. Конечно, в те дни, когда она впервые сменила ручной гарпун, эта пушка была волшебной флейтой в руках китобоя. И норвежцы все еще молятся на нее. Как же, китобойная пушка – их национальная гордость! Спросите Кнудсена – чем гордится Норвегия? Он не скажет, что Григом или Ибсеном… Оп ответит так: «Мы луччи китобой мира».
Но если Норвегия и довольна пушкой Свена Фойна и вообще довольна всей организацией промысла, то мы не можем быть довольными, потому что нас это уже не удовлетворяет, темпы у нас другие. Ну, да вы–то, профессор, хорошо знаете, о чем я говорю… Так вот, когда я понял, что настала пора готовиться к отъезду на Дальний Восток, я засел за книги…
Баллистика, траектория… Четыре месяца как в горячке. Говорили, что на черта был похож. Но я не жаловался. В то время для меня – что ни сложнее задачка, то лучше…
Долго бился над тем, чтобы увеличить расстояние для убойного выстрела. Вы сами видели, профессор, какое мучение для людей и для судна, пока подведешь китобоец к стаду китов… Угля сколько зря сжигается на маневрах. Вот если бы брать кита со ста метров!.. Но как сделать это?.. Сам гарпун тяжелый, да и у троса не аптекарский вес… Я пробовал облегчить трос, но не нашел прочного и легкого волокна. Трос, которым мы пользуемся, сделан из маниллы. Это для нашего времени самое прочное волокно. Но он же, собака, тяжел. Шутка ли – сто семьдесят пять миллиметров в сечении! Делать его тоньше нельзя: этот и то порой рвется…
Когда убедился, что с тросом ничего но выходит, решил гарпун перестроить. Заглянул в историю… Отыскал знаменитый славянский «кутило», которым поморы в семнадцатом веке били китов у Шпицбергена, затем двулапый «сандоль» – им азовские рыбаки бьют пыхтунов и морских котов; нашел рисунки гарпуна басков, каким они промышляли китов в Гасконском заливе… Еще попались мне три разновидности гарпуна: гарпун, которым англичане били морского котика и морского слона на Кергелене и на островах Маквари и Южной Георгии; гарпун, который французы и швейцарцы метали в быстроногих оленей, и, наконец, гарпун африканцев, с которым они охотились на гиппопотамов. И нашел, нашел, черт возьми! Четыре месяца был как в тумане – только телом был в Ленинграде, а душой здесь, на борту китобойца. Мне чудилось: вот я прибываю в Петропавловск, мы устанавливаем на «Тайфуне» новую дальнобойную пушку, я выхожу в море, обнаруживаю кита, а он, проклятый, не подпускает близко. Я становлюсь к пушке, целюсь под левый плавник. Попадаю. Лебедка подтягивает кита к борту. Помощник гарпунера дротиком пробивает тушу, вставляет шланг, накачивает сжатый воздух. Кит, как мяч, держится на воде. Остается водрузить вымпел. Сделано. Китобоец оставляет кита и отходит на новый поиск. На горизонте – сейвал, самый пугливый из всех китов, но пушка наша дальнобойная. Выстрел – и кит, как рыба, на крючке. И этот кит накачивается воздухом, и в нем остается вымпел, а мы уходим на новый поиск. Снова кит. Снова выстрел…
– Вы понимаете, – сказал Кирибеев, – какой активной становится флотилия! Китобойцы охотятся, а матка собирает трофеи охоты и перерабатывает их. Вы знаете, какой эффект может дать такой метод? Если мы сейчас добываем около пятисот китов, то новым методом мы будем забивать в два раза больше! А если вести воздушную разведку, то темпы промысла будут еще выше.
Вот с этими идеями и чертежами я и выехал в Москву, в Морзверпром.
Сколько я столов обошел! Все выслушивали и говорили, что это здорово, но что нужно заключение профессора Мантуллина.
Захожу к Мантуллину. Принял меня сухонький, высокий, гладко выбритый человек, только одни брови оставлены. Лысина у него как свекла кормовая. Когда я изложил ему все свои планы, он поплевал, пожевал нижнюю губу, затем засунул одну руку в карман, а другой забарабанил по плеши. «Видите ли, молодой человек, то, что вы предлагаете, в абстракции представляет некоторый интерес. Но если подходить к вопросу практически, то идея ваша не имеет под собой почвы. Ну зачем нам увеличивать китовый промысел? То, что мы имеем сейчас, вполне устраивает нас как опытный промысел. К тому же кадров китобоев у нас нет. Всё делают и будут делать норвежцы – первые в мире китобои. Все новинки будем черпать оттуда. Вы что думаете, норвежцы, которые бьют китов со времен Адама, не додумались бы до этого? Разве они не заинтересованы в увеличении добычи китового жира? Франция и Швейцария живут доходами с туристов, норвежцы – рыбой и продажей китового жира… Короче, идея ваша хороша, да только не…»
Кирибеев на минутку замолк. Трубка его закипела, как самовар. Продув ее, он продолжал:
– «…только, говорит, не для нас. Ведь перспектив на расширение промысла у Советского Союза никаких. Тихоокеанское стадо китов изрежено, а об Антарктике и мечтать нечего: у нас нет ни судов, ни специалистов. Да еще, говорит, неизвестно, как на это посмотрят иностранные круги».
Тогда я спросил этого «специалиста»:
– Вы у кого, говорю, служите: у Советской власти или у короля Хааокона?
Ну, тут «ученый специалист» глазками заморгал, снял очки, рот раскрыл, а сказать ничего не может, как коклюшный ребенок зашелся.