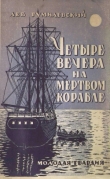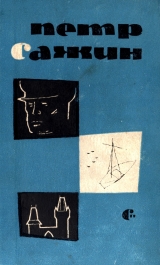
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
У Либуше со Староместской площадью связано столько воспоминаний…
Здесь, перед творением гениального механика Гануша, перед чудо–курантами с движущимися фигурами двенадцати апостолов, выходящих на «круги своя» под хриплый бой часов, она познакомилась с Яном Витачеком… Ян Витачек! Дурная голова. Он остался в Праге. Когда Либуше спросила, для чего, – Еничек [15] ответил, что об этом ей расскажут… немцы. Дурень Енда!
Подпольная радиостанция передавала, что немцы обстреляли с Летны Староместскую площадь прямой наводкой. Варвары! Ратуша разрушена. Снаряды рвались и у храма св. Николая и у памятника Яну Гусу… Цел ли их дом? Что дом! Жив ли Енда? После изгнания немцев из Праги советскими войсками прошло уже несколько дней, а от него никаких вестей. Любит ли она Яна? Может быть, и любит, а может, и нет. Но почему всякий раз, когда нечем заняться, она думает о нем? Зачем отец увез ее из Праги? Зачем она выбежала навстречу советским танкам с букетом сирени? Вот тут–то и случилось все. А ведь могло бы и так быть: танки, не останавливаясь в Травнице, промчались бы прямо к Праге, немцы не успели бы их обстрелять, и этот лейтенант, конечно, не лежал бы тут, и она давно была бы в Праге. А что, если Енда убит? На баррикадах столицы легло много патриотов… Нет! Нет! Енда смелый, ловкий! Он не мог погибнуть. Как бы она хотела сейчас быть в Праге! Приезжие рассказывают, что хотя Прага и сильно пострадала, но всюду гремит музыка, и чехи и русские кружатся в танце. Одержана великая победа! Фашизму конец! Армия Шернера развалилась. Чехи и русские пируют. Ах, Еничек, Еничек!
Либуше тяжело вздохнула. А может быть, она уже любит этого «противного» Витачека?
На самой маковке куста сирени Либуше заметила цветущие кисти. Взяла со стола ножницы и, не задумываясь над тем, хорошо ли делает, выпрыгнула из окна. Вскоре она возвратилась с букетом сирени.
У цветов нежный, чуть сладковатый запах. Поставив в вазу сирень, Либуше посмотрела на русского, затем села в кресло, взяла в руки книгу, раскрыла, но сразу же началась какая–то чепуха: буквы стали наскакивать одна на другую, и вскоре все слилось в сплошной серый тон – Либуше закрыла глаза и забыла, где она…
В детстве, чтобы подольше побыть с родителями, послушать, о чем они будут говорить между собой, а иногда и поглядеть на гостей, Либуше прибегала к распространенному среди детей средству – капризам: она то хныкала, то трещала как сорока, то болтала ножонками, то звала отца. И вот, когда отец подходил, плакалась, что под простыней, должно быть, еж лежит, а если не еж, то, по–видимому, еловая шишка. Отец не находил ни ежа, ни шишки – на простыне образовалась складочка, оттого что баловница вертелась в постели. Но не успевал отец сделать и шага от постели, как выяснялось, что подушка уехала из–под головы.
Хорошо рассчитанная атака продолжалась до тех пор, пока отец не начинал рассказывать сказку…
Либуше очень любила эти минуты – мать почти никогда не баловала ее. Обычно после нескольких предупреждений: «Либуше, не злобь меня!» – мать, дробно стуча каблучками, торопливо подходила к кроватке и, как Либуше ни старалась зажать одеяло между коленками, стаскивала его и отпускала дочери несколько внушительных и довольно тяжелых «аргументаций».
Отец же души не чаял в дочери и позволял ей все, даже разрешал называть себя «милым Иржиком», что в других семьях никогда не позволялось детям. Он садился у постели и начинал рассказывать дцерке [16] про волшебника Оле—Лукойе. Сказка старая, давно известная, но «милый Иржик» всякий раз рассказывал про Оле—Лукойе такие чудеса, что Либуше тотчас же переставала трещать, лежала тихо, с широко раскрытыми глазами. Вскоре веки у нее делались ну прямо пудовыми, удержать их не было никаких сил. Она начинала засыпать. Но глаза полностью не закрывались – какие–то недреманные силы оставляли в них крохотные щелочки. Такие же щелочки оставлялись и в ушах. А «милый Иржик» не замечал этого и часто попадался, как пескарь на удочку. Увидит, что у Либуше веки, как створки ракушки, сомкнулись и не дрожат, да и дышит она ровно, ну, думает он, вот и уснула его любимица, умолкнет и встанет со стула. Но не успевал он и спину распрямить, как Либуше ловила его:
– Куда же ты уходишь, Иржик? Рассказывай дальше!
И «милый Иржик» продолжал рассказывать всякие чудеса про Оле—Лукойе. Как этот старый, добрый чудодей ходит вечерами по домам и опускает шторы на глазах детей, а по утрам открывает. Каждому ребенку, который заснет тотчас же, Оле дает по волшебному ключику от Царства Сновидений. С этим ключиком можно пройти всюду. Им можно отпереть любую дверь в чертогах Царства Сновидений. С помощью этого ключика можно войти даже в подземные кладовые, где хранятся бочки с медом, кошелки с пряниками, горшки с вареньем, кадки с кислой и сладкой сметаной. А кнедликов просто целые горы насыпаны! Стоит лишь поднять ключик вверх – и горшок с вареньем сам подскочит к тебе. И ты можешь не стесняться, лезть в него рукой хоть по локоть; когда наешься, к тебе, тоже сам, подскочит тазик с водой, и полотенце подлетит само.
С этим ключиком можно пройти и в мастерские, где лучшие мастера сновидений ткут ткани снов из тонких хитросплетенных нитей самого лучшего, самого дорогого в мире материала – фантазии. Стоит лишь взять в руки кусочек такой ткани, три секунды подумать, кем ты хочешь стать, и тотчас же поднять левую руку вверх.
К сожалению, когда становишься взрослой и когда появляется столько желаний, Оле—Лукойе не приходит! Нет! И «милый Иржик» заметно стареет… Когда Либуше называет его так, конечно, не на людях, – он не возражает. Это напоминает ему покойную «мамичку» – она называла его «милым Иржиком», а он ее: «мамичкой Мартой». Мамичка Марта! Как же рано она ушла от них! Мать погибла в автомобильной катастрофе при возвращении в Прагу из Пльзеня, где она сделала блестящую операцию на сердце. Это о ней говорили, что она – будущее чешской хирургии…
Ах! Если б сейчас снова стать маленькой! Вечером пришел бы Оле—Лукойе, задернул бы шторки на глазах, дал бы волшебный ключик, и Либуше тотчас же задумала бы желание. Подняла бы ключик вверх – вернулась бы мама. Подняла во второй раз – узнала бы, что с Ендой Витачеком. А потом… Что же она сделает потом?
Либуше задумывается. Ведь загадывать желание и поднимать ключик вверх можно только три раза.
Нет, ни золото, ни драгоценности ей не нужны!
Раздумывая над третьим желанием, Либуше поймала себя на том, что она все чаще и чаще смотрит на русского, и сердце ее замирает, как в Высоких Татрах… Сегодня русский, этот цизак [17], кажется необыкновенно красивым.
Енда Витачек против него просто мальчишка безусый и к тому же невыдержанный, заносчивый. А русский – настоящий мужчина! С ним, пожалуй, нигде не пропадешь. А Енда… Но что это? Что с русским стало? Он вдруг подскочил и с криком «Вперед, Петров! Не отворачивай! Не отворачивай! Дави гадов!» грохнулся на пол.
Каких трудов стоило Либуше поднять его с пола и уложить в постель!
Он сильный, этот цизак! Как взял за руку – чуть–чуть не сломал. Но это чепуха! А вот как она не сломала иглу шприца… Сделать укол человеку, когда он колотится в припадке, – это все равно что стрелку с одного выстрела попасть в яблочко. И, конечно, она промахнулась бы, если б не работала ассистенткой у отца. «Милый Иржик» учил ее работать иглой, как учат скрипача гонять смычком по струнам – с утра и до ночи. Сейчас русский спит. Грудь ходит, как мехи.
Либуше внимательно следит за ним. В чертах лица русского, когда они неподвижны, иконописное спокойствие. Высокий лоб, хорошо выведенные брови, прямой нос, курчавая бородка…
Боже, какую же чепуху писали о русских немцы! Разве этот лейтенант хоть сколько–нибудь похож на варвара?.. Немцы кричали, что если русских пустить в Европу, то ее постигнет участь Геркуланума и Помпеи. Фашисты просто шизофреники!.. Русские вернули нам свободу! Отныне они для чехов самые близкие люди на свете. Можно ли их не любить!
Глава третья
Сознание вернулось.
Усталый, измученный болезнью, Гаврилов пытался разобраться: где он, что за девушка сидит в кресле? Почему правая рука словно вмерзла в лед и на уши давит так, будто голова в тиски зажата? Неужели он, идиот, заснул в шлемофоне? Может быть, еще и в комбинезоне? Гаврилов попытался поднять правую руку, проверить, что же с головой. Рука не послушалась. Он попытался еще раз – электрической искрой ударила боль. К счастью, он не потерял сознания. Боясь, что и левая поведет себя так же, как и правая, Гаврилов пошевелил пальцами. Шевелятся! Осторожно поднял руку. Пощупал голову. Повязка… Понятно… Но где же это его ранило? Когда? Почему он не в медсанбате? Зачем тут эта девушка? Где же Петров? Где экипаж танка? Где полковник? Может быть, позвать эту красотку и спросить, кто положил его сюда? Ее лицо кажется знакомым. Куда же он попал? Ни в Берлине, ни под Дрезденом он не был ранен… Надо сосредоточиться и попытаться вспомнить все, что было с полком, начиная с 17 апреля 1945 года. В этот день началось, совместное с другими танковыми соединениями, наступление на Берлин. Вспомнить все шаг за шагом, и тогда, быть может, прояснится эта чертовщина.
Когда полк подошел к Берлину, было раннее утро. Это Гаврилов хорошо помнит. Над Берлином стояли столбы дыма – авиация «обрабатывала логово фашистского зверя». Сильные взрывы доносились из центра города, где находились рейхстаг и имперская канцелярия. Гаврилов хорошо помнит и то, как началась операция по окружению Берлина. Во время этой операции танкисты, отрываясь от пехоты на пятьдесят – сто километров, дерзко заходили в тыл к немцам. Порой они оказывались в самых неожиданных местах. Танки влетали в города, где на улицах текла обычная жизнь – немецкие хозяйки стояли в очередях, а на площадях офицеры муштровали солдат, набранных из пожилых немцев.
Однажды полк Бекмурадова влетел в тыловой городишко так стремительно, что немецкий генерал – строитель противотанковых укреплений, ничего не подозревая, сидел за чайным столом в кругу семьи. Когда полковник Бекмурадов вошел в дом к генералу, тот размешивал сахар в стакане…
Рейды были тяжелыми – полк Бекмурадова прорывался далеко на запад и вел бои с «перевернутым фронтом», то есть бился на две стороны.
Только после падения Берлина танкисты поняли, через какой ад они прошли. На их пути возникали то «зубы дракона» – стальные надолбы, то глубокие рвы, то хитроумные фортификации.
Гаврилов вспомнил, как они переходили реки вслепую – по дну – и с ходу форсировали каналы, как давили огневые точки и выламывали «зубы дракона», как рвали «стальной браслет» Берлина – залитую бетоном круговую железную дорогу – и появлялись там, где их не ждали.
Так однажды с хода они ворвались в Цоссен, где под унылой тенью редких сосен, в окружении сильного военного гарнизона, под толщей песков, в бетонных патернах находился штаб верховного командования германской армии. Его руководители – генералы Кейтель и Йодль – бежали, заслышав шум дизелей советских танков…
Гаврилов мысленно выругал себя за то, что увлекся, но тут же подумал, что если он обойдет подробности, то не найдет ключа к тому, что с ним произошло. И он продолжал разматывать клубок событий.
Разве можно забыть бои тех дней? Против русских танков и пехоты были брошены отборные дивизии, части СС, составлявшие фашистскую гвардию, танкоистребительные бригады, новые пушки со звонкими названиями, вроде: «Шмель», «Оса», «Куница», «Слон», «Носорог»… Пятьдесят тысяч фашистских фанатиков были вооружены новейшим средством борьбы с танками – фаустпатронами. Каждому было приказано уничтожить по одному русскому танку…
Гаврилов хорошо помнит, в каком сложном положении оказался полк на узких улицах Берлина. Улица вообще не место для маневров, тем более узкая, а без маневра танк – мишень. К тому же танки не могли стрелять ни по верхним этажам, ни по подвалам, их пушки имели предел возвышения и склонения. Ох и тяжело же было!
Лишь на широких улицах танкисты вздохнули. Здесь можно было маневрировать, и Бекмурадов воспользовался этим. Шли по–флотски, строем уступа. Шли и своим, выработанным в боях строем, напоминающим вогнутое зеркало: один танк идет левой стороной улицы, другой – правой, третий – посредине, четвертый – за ним. Левый бьет по окнам, балконам и карнизам правой стороны; правый – по домам левой; третий – в зев улицы; четвертый срывал крыши с домов, на которых за трубами прятались смертники.
К центру Берлина пробивались как кроты, сквозь завалы, ямы, баррикады, в клубах пыли, сквозь завесу плотного огня.
Это не война, а какая–то чертова мельница! Нужно было долбить снарядами дома, железобетонные укрепления, нужно было переползать каналы с вонючей водой, забитые бог знает чем, вплоть до обгорелых и изуродованных трупов, набухших как бревна.
Недалеко от рейхстага экипаж его танка вместе с саперами двадцать часов штурмовал стоявший на пути шестиэтажный дом. На двадцать первом часу штурма дом вдруг зашатался и начал валиться на танк – гитлеровцы подорвали его… Как успел водитель танка старшина Петров выскочить – уму непостижимо!
Десять дней и десять ночей и, наконец, в дыму показался рейхстаг.
Да, Берлин! Тяжело достался он! Но никто из экипажа гавриловского танка не получил в этом аду ни одной царапины, хотя у самой машины было полно вмятин. Но где же его сейчас разукрасило? Под Дрезденом он не был ранен… А что же было после Дрездена? Марш к Праге – на помощь жителям чехословацкой столицы, восставшим против фашистской армии Шернера. 8 мая полк пересек чешскую границу.
По Чехословакии шли почти без боевого охранения… Ну какое тут боевое охранение, когда в этот день в Берлине представитель верховного командования германских вооруженных сил фельдмаршал Кейтель подписал акт о полной и безоговорочной капитуляции.
Радиостанции весь день передавали одно и то же: война окончена, матери, жены, сестры, дети солдат и офицеров могут спокойно спать, пушки больше не будут стрелять, самолеты – сбрасывать бомбы, а ружья и автоматы нужны теперь лишь для караульной службы.
В репродукторах раздавались салюты и победные речи, звон колоколов и рассказы корреспондентов о том, что делается на белом свете. А белый свет в этот день весь был охвачен ликованием.
В соборах горели свечи, и князья церкви и простые служители – кто в тяжелых золотых доспехах, кто в белых одеждах, а кто в черных – возносили всевышнему благодарственные молитвы; правительства награждали победителей; родные готовились к встрече героев; ротационные машины выбрасывали миллионы бумажных оттисков с описанием церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии; на страницах газет и журналов мелькали портреты Сталина, Рузвельта, Черчилля; печатались интервью, телеграммы, приказы, послания, фотоснимки поверженного Берлина и трупов Гитлера и Геббельса…
Правда, в Праге колокола еще не звонили. Чешская столица переживала тяжелые часы – танкисты хорошо об этом знали и хода машин не сбавляли. В танках было так жарко, что на броне их, как шутили танкисты, можно бифштексы жарить!
В таком беспечном настроении полк шел от самой границы до Травнице. А что же было дальше? Кто эта девушка? Почему она кажется такой знакомой?
Гаврилов приподнялся на локте. У девушки в ушах дрожали три гранатовые вишенки с листочками из зеленой эмали… Что же это напоминает ему? Боже! Да это же все было в Травнице! Старшина Петров, белая сирень, свист снаряда… Гаврилов снова потерял сознание.
Когда он очнулся, девушка из прошлого столетия, хрупкая как былинка, с озабоченным видом стояла над ним. Платье туго обтягивало ее стройную фигуру. Гаврилов заметил трепетное движение ребер при дыхании. Укрывая его, она нечаянно коснулась упругой грудью его руки. Гаврилов вздрогнул, его словно бы обожгло.
Девушка продолжала молча и сосредоточенно делать свое дело. Лоб Гаврилова покрылся испариной, когда он глухим голосом спросил:
– Вы?
– Ано, – ответила она по–чешски и, спохватившись, что Гаврилов мог не понять ее, добавила: – Да, товарищ!
Голосок ее был удивительно теплый.
Очевидно, пришло время Гаврилову выздоравливать – он захотел курить, да так, что за сигарету мог бы пообещать полцарства. Сильно помятая пачка сигарет лежала на столике, где стояла ваза с белой сиренью. Неудобно переваливаться на правый бок, чтобы достать левой рукой со стола сигарету и спички. Конечно, можно было попросить ее. Но что он, ребенок, что ли? На «раз» – он повернется, на «два» – возьмет сигареты, на «три» – спички… А-а, черт! Кто подсовывает под руку вазы с цветами!
Глава четвертая
Гаврилов уже сам вставал, сам одевался и выходил в сад. Через неделю его перевезут в Прагу, в госпиталь. А потом в Россию, в один из военных санаториев на Кавказском побережье Черного моря, либо в Крым.
Он долго стоял на дороге и с грустью смотрел вслед машине, на которой уехали санитарка и медсестра: ему тоже захотелось в полк.
Кто не знает, что такое тоска по части, в которой ты служишь? Ведь Гаврилов прошел с полком через «крокодилью пасть» войны.
Когда машина скрылась за горизонтом, Гаврилов огляделся и заметил тропку – она бежала вверх на холмы, еще совсем недавно называвшиеся высотками. С этих холмов шернеровские громилы и дали свой последний залп по танковой колонне Бекмурадова. Гаврилову захотелось посмотреть гитлеровские артиллерийские позиции, и он свернул на тропу, тянувшуюся на холмы, как виноградная лоза к солнцу.
С высоты Травнице – типичный чешский городок: островерхие, наборные, как рыбья чешуя, крыши костелов, красная черепица коттеджей, сады, мелкая, налитая серебряной водой речушка и уходящие вдаль красноватые земли, самые лучшие земли для разведения хмеля – подлинной души чешского пива.
Гаврилов быстро отыскал глазами дом, в котором прожил уже три недели. Три недели?! А ему кажется, что он прожил тут всю жизнь! Почему ему так казалось, он не мог на это ответить, потому что с тех пор, как Советская Армия, наступавшая на Берлин, пересекла немецкую границу, Гаврилов видел много таких или не таких, но очень похожих друг на друга городов, и ничего бы в этом Травнице, как в городе в прямом смысле этого слова, для него не было бы, если бы судьба не столкнула его здесь с Либуше…
Легкий ветерок играл его чубом. Задумавшись, он не заметил, как по той же тропке, почти вслед за ним, на холм легко поднялась и Либуше. Ее лицо, чуть осмугленное первым весенним солнцем, горело.
Гаврилов быстро обернулся, когда услышал за спиной торопливые шаги.
– Вы? Что случилось?
– Матэ срдце?[18]
– Сердце?
– Ано, срдце [19].
– Нет, – сказал Гаврилов, – мое сердце украдено…
Либуше вспыхнула и заговорила по–чешски, да так быстро, что Гаврилов ничего не мог понять.
Он рассмеялся.
– Просим, – краснея и стараясь говорить реже, сказала Либуше, – здесь нет забава! Мы пуйдэм там! [20] – она показала рукой на острую иглу костела, в двух шагах от этого самого приметного здания Травнице – домПаничеков. – Розумите?..[21]
– Да, – сказал Гаврилов, улыбаясь.
Их глаза встретились. Либуше отвернулась, а Гаврилов глубоко вздохнул, глядя на тонувшие в синей мгле дали, на изрытые холмы, где валялись раздавленные танками полковника Бекмурадова немецкие орудия, снарядные ящики, шанцевый инструмент и другое воинское добро. Все это пока еще не успело покрыться пылью, а на кожаных подкладках касок темнели следы пота.
Тут же валялось и всякое солдатское барахло – стельки от плоскостопия, кисточки для бритья, носки из грубой, шерсти, сигареты, предохранительные пакеты…
Гаврилов не раз после боев бродил по разгромленным позициям врага – это было интересно. Во–первых, интересно, с кем ты дрался. А во–вторых, Гаврилову всегда хотелось понять, что заставляет немцев так упорно, а порой просто нагло сопротивляться? Стойкость? Мужество? Или боязнь расплаты?
Скажем, для себя, то есть для своего поведения на войне, он никогда не искал объяснения, потому что считал, что иначе советский человек и не может вести себя.
Конечно, в словаре родного языка много слов, которые объясняют поведение человека на войне: «долг», «патриотизм», «священная обязанность» и т. д. и т. п. Гаврилов считал все это правильным и сам произносил эти слова, когда выступал на собраниях, но в бою никогда не думал о них. Какой–нибудь наивный сеятель этих слов спросит: «Почему?»
Прежде всего потому, что поступки человека глубже, значительнее всех, даже самых правильных, слов! Поведение – зеркало воспитания. А воспитание дается не одними словами и не вдруг. Оно, как старое вино, зреет долго.
Когда санитарки танкового полка принесли Гаврилова в домПаничеков, то среди его документов была найдена залитая кровью записная книжка. На ее страничках – цитаты из прочитанных книг, собственные мысли, памятные даты: когда вызвали в военкомат, когда прибыл в танковую школу, когда попал в полк, первый бой, первый орден. Было в книжечке и популярное во время войны стихотворение «Жди меня» и маршрут полка до Берлина. На одной из страниц крупно и четко написано: «Самообладание армии есть гнев народа». Слова принадлежат перу английского писателя Джильберта Честертона.
Может быть, эти слова и не запали бы в душу Гаврилова, если бы он прочел их в мирное время. Но книга Честертона «Человек, который был четвергом» попала в руки Гаврилову в то время, когда он томился в стенах Ульяновского танкового училища. Немцы тогда подходили к Москве, и Гаврилову скорее хотелось на фронт.
Тяга эта была настолько сильной, что он места себе не находил. Особенно тяжело было, когда давали увольнение в город. Он видел, как трудно жили люди, но никто не ныл – радость искали в сводках с фронта. Но были в городе и барахольщики, их терпели, как грязь, когда под рукой нет мыла.
Однажды, бродя по городу, Гаврилов вышел на самое высокое место Ульяновска – на высокий берег Волги, который местные жители называют Венцом. Венец для Ульяновска то же, что и улица Горького для Москвы или Крещатик для Киева.
С Венца открываются сизые дали. А за ними, за этими сизыми далями, за щеткой лесов, за пойменными лугами, за темь–темной пропастью горизонта, – война. Война сделала шумным этот тихий волжский город – сюда эвакуировалось несколько заводов. К станкам встало много женщин и девушек. Работали они порой до упаду – «Все для фронта», но были и у них часы, когда сердце подталкивало их на Венец. Сюда приходили и увольнявшиеся в город военные. Перестрелка глазами, комплименты… Гаврилов не участвовал в этих «сражениях».
Есть на Венце старинный дом с колоннами и обтянутыми лепниной окнами, с гипсовыми аллегориями и гербом на фронтоне. Кто–то сказал Гаврилову, что герб принадлежал роду писателя Ивана Гончарова. Теперь в доме Ульяновская городская библиотека. Гаврилов стал ее усердным посетителем. И хотя заводские девчата, когда Гаврилов появлялся на Венце, и осыпали его звонким и рассыпчатым смехом, он словно не видел их – шел прямо в библиотеку.
Из окон высокого читального зала, где некогда звучали грустные мелодии менуэтов, жарких мазурок, лучше, чем с Венца, видны были заманчивые волжские дали. В ожидании заказанных книг Гаврилов часто простаивал тут и… до его ушей как бы доносился гул войны.
Здесь, в этом зале, Гаврилов и прочел книгу Джильберта Честертона «Человек, который был четвергом», – привлекло название книги.
Он досрочно окончил училище. День выпуска был для него праздником.
После официальной части он улучил минуту, сбегал в библиотеку. Библиотекарша без очереди приняла у него книги. Он торопливо попрощался с ней и, обжигая ладони, скатился по лестнице, как мальчишка, забыв, что на петлицах у него кубики младшего лейтенанта…
Отдавшись воспоминаниям, Гаврилов не заметил, что Либуше наблюдает за ним. Глядя на русского, она вспомнила о Яне Витачеке. Непонятно зачем, сравнила их.
«Конечно, этот цизак – красивый мужчина. А Витачек? Витачек – личинка… Личинка? А как же баррикады? Бедный Енда, сколько же он там, наверно, натерпелся. А почему не пишет ей? Может быть, полюбил другую? Что же ей делать? Русский все больше начинает занимать ее. Но русский уедет домой… А может быть, у него уже есть манжелка? [22] Или невеста?.. Конечно, есть!
Либуше отступила на шаг от Гаврилова. Он повернулся к ней, улыбнулся, ноги, словно бы сами, без его воли, сделали шаг к Либуше, и губы нашли ее губы…
Может ли земля обойтись без тепла и света, без воды и ветра, без цветов и снега, без крохотных гамбузий и исполинов морей – голубых китов? Нет! А человек – без счастья? Нет! А счастье – без любви? Тоже нет! А любовь без взгляда в глаза любимой, без молчаливых пожатий рук, без поцелуев, без горечи разлук и радости свиданий, без страха друг за друга? Нет! Счастье. О нем говорят все, и каждый понимает его по–своему. Счастье в наше время не частное дело, и пути к нему редко бывают легкими. Ибо счастье не выигрыш по лотерейному билету и не находка самородного золота или голубого алмаза.
У счастья нет начала, как и нет конца, пока тянется нить жизни. Не нужно только без нужды испытывать крепость ее!
Гаврилов много думал об этом, но всегда боялся забираться в дебри этого сложного вопроса.
Надо знать чешскую весну, чтобы понять, что для рождения счастья на этой земле у природы нет лучшего времени. Сколько ласки и радости в теплых руках весны! В ее нежно–зеленых лугах, в шумливом хороводе пчел над сливами и хмелем, в улыбках утреннего солнца и в вечерних зорях, когда леса, горы и земные дали погружаются в царство сказки!
Пять дней с того времени, как Гаврилов поднялся с постели, пролетели, словно голуби перед окном. И шестой начался с ослепительного восхода солнца, с пения птиц в садах, со звонкого рожка пастуха и веселого гомона школьников…
Либуше и Гаврилов с трудом дождались, когда уйдут отец и дядя.
Кто хоть раз в жизни любил, тот знает, что никто не учит влюбленных ни порывам страсти, ни взволнованным словам, ни красноречивому молчанию – все приходит само собой, лишь только возникает любовь, и страсть возгорается, как порох на полке ружья…
Гаврилов и Либуше не могли ни минуты жить друг без друга. Страсть бродила в них, как хмель. Они не могли усидеть на одном месте: их видели то на холмах над городом, то на плантациях хмеля, то на берегах речушки с звонкой серебряной водой. Они сидели обнявшись, ничего не видя, не слыша, ничего не понимая и не желая ни видеть, ни слышать, ни понимать… Они видели, слышали и понимали лишь друг друга. И когда это понимание достигало вершины, они возвращались в домЯна Паничека.
Глава пятая
Солнце только начинало проклевывать ночную тьму, когда из Праги в Травнице выкатился «виллис» Бекмурадова. Рядом с водителем сидел невыспавшийся, но тщательно выбритый, подтянутый Скурат.
Шофер несколько раз порывался «газануть», но всякий раз подполковник останавливал его:
– Тише!
«С таким ездить – наплачешься», – думал Морошка.
Около травницких холмов Скурат приказал остановить машину. Морошка резко затормозил, доктору пришлось упереться в ветровое стекло. Шофер ждал нагоняя, но тот промолчал.
Когда Скурат стал подниматься на холм к тому месту, где стояла немецкая батарея, последний залп которой породил столько неожиданных событий, Морошка посмотрел ему вслед и только теперь – а он возил подполковника не первый раз – заметил, что у того кривые и тонкие ноги, «как спички», да и китель висит на нем, как на вешалке. И уши не как у всех – тонкие, острые, и нос шильцем, и волос топорщился щетиной. И взгляд ежиковатый…
Шоферы, как и пастухи, обладают уймой свободного времени. Одни посвящают его чтению книг, другие – «припуханию».
Морошка запоем читал книги. Бекмурадов стал докучать ему: «Читаете, товарищ Марошька? Интэресно?»
И обязательно заставит рассказать, о чем написано в книге. Морошка оставил книги – купил гитару. Полковник стал подсмеиваться: «Ти, Марошька, что, артистом хочешь становиться?»
Морошка выменял гитару на хромовые сапожки и стал «припухать». Полковник и тут не оставил его своими заботами: «Ти, Марошька, спишь больна многа. Эго виредно – дрыхаться на автомобильных падюшках! Назначаю тебя дежюрным вадителем!»
Так Морошка стал изучать и наблюдать жизнь. Это занятие увлекло его, как картежная игра.
О том, что лейтенанта Гаврилова лечит «мировецкая врачиха», красавица–чешка, первым в полку рассказал старшина Морошка. От него же весь полк узнал, что врачиха «по уши втюрилась» в Гаврилова и что сам лейтенант Гаврилов «попал в кювет».
Новость эта была сенсационной, потому что Гаврилов среди женщин танкового полка слыл недотрогой. А некоторые даже считали его задавакой и человеком «подумаешь, о себе воображает». И вдруг «дзот» был взят. Но как? Кем? Всем хотелось знать подробности.
Пока подполковник взбирался на холмы, Морошка дремал: в эти минуты ему ни о чем не хотелось думать – он фатально верил, что время работает на него, в Прагу он вернется, как всегда, с новостями.
Через полчаса «виллис» остановился у коттеджа Яна Паничека. Подполковник ушел в дом, а Морошка остался в машине.
Чехи встают с петухами, и поэтому, несмотря на то что солнце еще не успело высушить на крышах ночную росу, на улицах Травнице было полно народу.
Удобно устроившись на сиденье, Морошка разглядывал проходивших мимо людей. Одни с портфелями и просторными кожаными сумками деловито спешили на работу; другие – с метлами и совочками, как будто неторопливо, но тщательно убирали мостовые и тротуары; третьи – открывали магазинчики, различные мастерские, кафе, бюро, конторы.
Тихий городок медленно наливался деятельной силой жизни. По выражению лиц было видно, как велика и животворна радость свободы!
Морошка вздохнул, подумав: «Не приди мы, сколько бы еще они тут, бедолаги, слезой умывались!»
И ему нестерпимо захотелось выйти из машины и потолкаться среди людей.
Полковник Бекмурадов любил Морошку за то, что тот мог водить «виллис» с головокружительной быстротой, и за то, что этот балагур умел молчать как рыба, хотя говорить ему хотелось так же, как птице летать.
Бекмурадов любил Морошку также и за то, что у старшины была «магнитная память» – в ее недрах ничего не терялось, ничто не забывалось. Морошка помнил номера танков, фамилии командиров… Да что там! Морошка знал, какой танк, когда и где был подбит, когда прошел капитальный ремонт, знал, кто, когда и чем награжден! Морошка помнил даты всех боев полка, даты посещений полка высшим начальством, приказы, даже сроки получения полковником обмундирования. Голова Морошки неплохо переваривала не только эти сведения, но и некоторые тактические вопросы. Удобно было и то, что Морошка всегда под рукой, – а кто же лучше его выполнит любое поручение полковника? А поручений у полковника всегда много. То и дело слышался его хорошо знакомый в полку скрипучий басок: