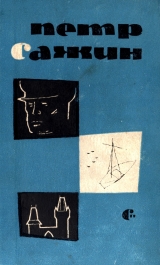
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
И тут свершается чудо. После этого не совсем интеллигентного вопроса мотор заводится. Конечно, не сразу – он еще, как певец, прокашливается раз–другой, затем даст несколько пробных оборотов, повторит их не очень уверенно и вдруг «возьмет»! О блаженство! И ты уже стараешься даже не думать о том, что недавно обругал его, ты говоришь: «Дорогой мой, какой же ты молодец!»
Вот так примерно было и у нас с нашим мотором у Ачуевской косы. Но на этом не кончились наши муки.
Через час, идя Ясенским заливом, который образуется Камышеватой косой и косой Ачуевская, мы, убаюканные стройным жужжанием мотора, забыли обо всем: и о безотрадном состоянии кубанских лиманов и гирл, о заилении и захламлении устьев Кубани и Черной Протоки, и о капризном характере нашего двигателя… Данилыч держал лодку на точном курсе – к Должанской. И вот, когда мы были уже близки к цели, то есть форсировали языкообразный отмельный выступ подводной Елениной косы, когда в палевой дымке можно было уже видеть крыши должанских хат, наш мотор внезапно перестал жужжать. На этот раз он не поддался ни силе, ни ласке, ни полному «боцманскому набору», которым угощал его Данилыч. Мотор встал – и баста. Что мы не делали с ним! Мы его вертели, как старый будильник Госчасзавода № 2, который, как известно, любил работать лежа на боку либо вверх ногами… Мы все делали с нашим мотором: ругались и молились, мы даже дышали на него и, если бы он ел конфеты, ей–богу, мы пообещали бы ему «трюфели» или «мишку на Севере»! Но, увы! Он, созданный человеком для того, чтобы служить человеку, требовал от нас жертв. Он требовал от нас терпения и изобретательности.
Я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы в это время не столкнулись интересы двух ветров: накаленного солнцем южного, который Данилыч называет «острая», и северо–восточного, по–местному, «тримунтан», или, как правильно звучит он на своей родине, в Италии, трамонтана.
Сначала ветры щупали силы друг друга, как борцы на ринге. Окружающая природа не принимала участия в их первых задиристых шагах – я имею в виду море, – оно лишь слегка вздрагивало, словно удивлялось: из–за чего это богатыри затевают ссору? Но «тримунтан» по своей натуре не только задиристый, он и упорный и сильный боец! О нем знают не только в Италии, но и в Каталонии. Кое–кто считает, что он не уступает ни одному ветру в мире. Испанцы полагают, что знаменитый бискайский «террерос», который способен расправиться с любым кораблем, всего лишь псевдоним трамонтаны. Если это верно, если эта вольность допустима, то почему же нельзя сказать то же самое о вест–индском хурикане?.. Словом, как говорят в Одессе, это «тот ветер»! В Новороссийске его знают под двумя именами: «бора» и «норд–ост». Я привык к местному энергичному, мужскому названию – «тримунтан». Но черт с ним, как бы он ни назывался, только бы не трогал нас! Хотелось отведать азовской юшки!
Но пока мы с Данилычем бесконтрольно расходовали силы, пока мы танцевали около мотора, «тримунтан» покончил со своим противником, опрокинул его и пошел гулять!.. Я не помню, как мы успели выволочь лодку на берег, под серебристый куст дикой маслины, опрокинуть ее и стащить сюда все вещи и мотор… Данилыч носился как вихрь – не человек, а чудо какое–то! Он набивал мешок вещами, взваливал его на спину, становился на свои костылики и несся, сердито фыркая, как раненый кабан. Задыхаясь от усталости и дикого ветра, мы едва успели укрыться под опрокинутой лодкой, как все завыло кругом. Море словно охнуло и пошло качаться, как на гигантских качелях. Поднялись тучи песка. Мы накрыли головы и приткнулись к борту лодки…
51
Ветер мчался, как казачья лава, прорвавшая в ожесточенном бою фронт и кинувшаяся в глубь вражеского плацдарма. Земля дрожала, и все кругом стонало, словно от посвиста клинков, всхрапывания коней, матерной ругани и криков «ура»… Если кто видел пьяную от боя конницу, кто знает, как страшно стоять на пути у нее, тот поймет, о каком ветре идет речь… Захмелевший от победы над южным ветром, «тримунтан» то пронзительно свистел, как падающая с самолета бомба; то хохотал, как миллион филинов; то будто бегал по гигантской железной крыше; то с маху рвал стометровый парус… Он подымал тучи пыли и песка и забивал нам глаза, нос, рот и уши. Мы чихали, скрипели зубами и проклинали все на свете. С каждым часом ветер становился все злее. Он то смеялся, то словно плакал от восторга. Он срывал крыши, ломал изгороди, гнул к земле деревья и выбрасывал на берег корабли. Пыль и песок, поднятые им вверх, заслонили небо. Напуганное и озябшее, оно куталось в черные облака.
На море играла настоящая метель: белая пыль неслась с немыслимой быстротой к самому горизонту.
Словно мелкий снег, курилась она над морем. Вода отступила от берегов на несколько метров, и заросли зостеры приникли к корням, дрожа от страха. С каждым порывом ветра вода отступала все дальше и дальше. Порой казалось, что стоит «тримунтану» захотеть – и он выплеснет море в степи Украины. Представляю себе, что делалось на противоположной стороне моря! С каким бешеным накатом и исступленностью оно грызло обрывистые песчаные берега косы. А ветер все пуще выл, готовый вот–вот ударить во всю свою силу, перейти в ураган, и тогда – прощай все: было море – нет моря! Чего там! Он мог бы швыряться материками…
Только через сутки ветер упал, и тотчас же обрушился ливень. К счастью, у нас был брезент. Ливень опустил на землю пыль и песок, поднятые в воздух «тримунтаном». Он сбил волну и вернул море в берега. Хотя порывы ветра еще были сильны и упруги, хотя он давал звонкие затрещины морю и гонялся за облаками, как пастуший пес за разбежавшимся стадом, мы чувствовали, что это уже не казачья лава в атаке, а всего–навсего летучий отряд. Впервые мы закурили. Какое блаженство! От дыма легко и сладко закружилась голова. Данилыч разыскал хлеб, соль и лук, и мы принялись за еду. Как были вкусны хлеб и лук с солью! Наш лук не годился бы для настоящей юшки: из него бежало горькое молоко. Но зато как же звонко вонзались в него зубы и как же приятно он пощипывал нёбо!
Сидеть под навесом лодочного борта было неудобно, но он прикрывал нас от ливня. Дождевой водой, стекавшей с лодки и собранной догадливым Данилычем в котелок, мы вымыли руки. В анкерочке оставалась пресная вода. Мы разделили по стаканчику.
Дождь монотонно бил по борту лодки. Ни читать, ни писать. Спать тоже нельзя: мокро кругом. Чертовски хотелось глотнуть хоть капельку горячего чая. Во рту горько и сухо от чрезмерного курения. Я вспомнил о капитане Белове… Где он сейчас? Отстаивается где–нибудь или борется с волной?
С тех пор как мы вышли из Темрюкского залива и мотор «пошел чихать», меня стало мучить сознание того, что из–за барахлящего мотора не придется побывать в Таганрогском заливе и в устьях Дона. Как нужен был сейчас капитан Белов со своим сейнером! Сколько же времени мы будем сидеть, как птицы с обрезанными крыльями? До Ветрянска, когда ветер стихнет, мы, конечно, доберемся хоть на веслах, а дальше? Черт бы его побрал этот мотор! В чем тут дело? Данилыч не любит этого вопроса, потому что причина ясна и ему и мне: мотор глохнет оттого, что бензином заливает. А вот отрегулировать подачу бензина мы никак не можем. К тому же Данилыч не только устал, но чем–то расстроен после возвращения из Гривенской. Настроение у него часто меняется: он становится все более мрачным и неразговорчивым. Оживляется только тогда, когда требуется что–то сделать.
Вот и теперь – уже который час! – мы сидим, курим, покашливаем и молчим, нахохлившись как мокрые воробьи. Тошнотная скука. В другое время Данилыч не утерпел бы и стал «байки рассказывать», а сейчас молчит. Я некоторое время мирюсь с этим, но долго не выдерживаю.
– Вы спите? – спрашиваю я.
Он прокашливается, вздыхает и откликается:
– Нет, а шо?
– Расскажите, – говорю, – что случилось с вами в Гривенской?
– Случилось? Ничего не случилось. Разве шо курочка бычка родила, поросеночек яичко снес. Шо я тебе, Лексаныч, расскажу? Ну, был на кладбище… еле нашел могилку тетки Наталки. А вообще ни к чему…
– Что?
– Ходить было туда.
– Почему?
Данилыч глубоко вздохнул, пристально посмотрел на меня, словно хотел убедиться, стоит ли мне говорить то, о чем он думал.
– Знаешь, Лексаныч, шо я скажу тебе?.. Только сумей понять. В детстве была у меня игрушка – лев хварфоровый… Отец из плавания кругосветного привез… Какая–то она была то ли датская, то ли французская. Цена ей там – грош, а я любил ее, быдто она с чистого золота. Спать не ложился без нее, криком исходил, пока мне не давали ее. Взрослые с меня смеялись через эту игрушку. Оно, Лексаныч, если смотреть по поверхности, быдто и смешно. А если бы глянуть кому глубоко на самое донышко человечье, а?.. Но кто же будет глядеть глубоко в душу ребенка?! «Мал, глуп, чего он понимает?» – так говорят все. А ежели б задуматься всурьез, так не говорили бы. Сказать тебе, Лексаныч?.. Вот я мал был – от горшка два вершка, – а сколько видел через тую игрушку!
Кондрат–то, когда к нам в Голую Пристань с отцовыми вещами приезжал (это когда он за Наталкой стал ухаживать), столько мне наговорил про того льва, да про Африку, про черный арапский народ, да про овазисы – страсть! Жалко мне было арапский народ! Он хотя и черный, а с таким же, как у всех людей, понятием: и обрежется – ему больно, и плачет, когда кто помирает, и смеется, коли весело, и любовь у него есть, и красоту понимает… А англичаны той черный арапский народ за людей не считают: самую грязную работу – арапам; бить кого надо – арапов; на жаре стоять – арапам… Больше того, торгуют арапами, продают их, как овец.
Плакал я тогда: жалко мне было арапов. Но слезы слезами, а вместе я думал: вот вырасту и пойду в эту самую Африку, арапский народ от гнету освобождать… Игры такие придумывал. У меня казанки англичанами были, а черные камешки – арапами. Бывало, разложу их на полу так: в середине арапы, а со всех сторон из овазисов англичаны идут, идут. Плохо арапам, одолевают их англичаны. Но тут вылетают африканские львы, в голове их мой лев, и я на нем: «Ур–ра!» Англичаны бежать. Арапы встают… Тетка Наталка услышит, как я то львом рычу, то «ура» кричу, улыбнется и спросит:
«Ты чего это, Сашко? Кого пугаешь?»
«Это, – говорю, – тетя, я англичанов прогоняю и арапов ослобоняю».
Она посмеется надо мной – хорошая была – и скажет:
«Придумаешь же ты, Саня! Ну играй, играй!»
И я играл. Придумывал всякие игры, и взрослые, глядя на меня, улыбались и думали: «Чем бы дитя ни тешилось…» А дитя не тешилось, а мучилось. Мне снились настоящие африканские львы, овазисы, англичаны и черный арапский народ, страны разные заморские… О многом мечтал я… а вот, видишь, без меня арапы сами освобождаются.
52
Шо ж тебе говорить… Долго я не расставался со своей игрушкой, годов эдак до шестнадцати. На ночь под подушку клал. Я тебе раньше то не сказывал об этом? Нет…
Данилыч вздохнул и после небольшой паузы продолжал:
– Как только умерла тетка Наталка и остался я один, еще больше полюбилась мне тая игрушка. Стал я ее за пазухой таскать. Плохо мне – тайком выну, погляжу на нее – отлегает. Как–то начал драть меня вожжами энтот рыжий кобель, Григорий Донсков, куркуль проклятый. Я наутек, да зацепился за колоду, растянулся и льву–то лапу отшиб.
С тех пор и еще дороже он мне вроде стал. Мог кого угодно забыть, а его не забывал. Он для меня стал вроде этого, ну, как его? Не по–нашему называется. Слово–то какое, натощак не выговоришь.
– Талисман?
– Вот–вот, талисмант, именно!.. Бывало, Надея, новая жена Кондрата, схватит рушник, шоб меня отодрать, а я прижму льва–то к груди и, веришь ли, в ногах такая резвость объявлялась… Она вдогонку орет: «Ну погоди. Окомёлок! – Так она меня неизвестно с чего называла. – Погоди, – говорит, – дед с тебя портки сташшит да надерет зад–от!»
Она была не местная, тоись не казачья, а второго попа дочь. Они не то вологодские, не то костромские, не то вятские, черт их знает, жеребячью породу… Знаешь, как их дразнят: «Мы вятчики, ребята хватчики: семеры одного не боимси».
Григорий Матвеевич души в ней не чаял: внука она ему носила. Но, видно, над Кондратом беда висела, как кобчик над степью: родить–то родила Надея, да во время родов сердце у нее, будто гнилая парусина, разорвалось. Доктора с ног сбились, а назад воротить не удалось: это тебе не на корабле, тут заднего хода не дашь. И ребеночек жил всего месяц после этого.
Григорий Матвеевич после похорон снохи и внука постарел лет на десять и почернел весь, как земля стал. Пить пошел. Напьется, плачет, меня зовет, на судьбу жалуется, куркуль. Худо ему: добра полный дом, усадьба, как у помещика…
«Что же это, – говорит, – Лексант, деется на белом свете? А?.. Жил Кондрат с Наталкой, ждал я внуков, а что получилось? Тетка–то твоя – с виду яблочко красивое, а снутря червивое. Отсватал я Кондрату бабу хошь некрасивую, да крепкую, ядреную, северную, литую, и вот, на те, сердце у нее, как подпруга, лопнуло!.. Ай–яй–яй! А хлопчик–то какой славный был, перед тем как затихнуть ему, сиську все искал. Дал я ему палец – сосет, сосет, как варению… И вот, на тебе, помер. Что теперь, Лексант, делать–то? Кому же все достанется? Наживал, наживал, и все на ветер пойдет? Женить надо Кондрата на казачке. Люди болтают, что, мол, за него никто не пойдет: двух, мол, в гроб загнал. Да рази Кондрат способен на то? Кондрат–то, он с бабами овца, а бабы любят, чтоб мужик жеребок был… И вот, говорят, двух баб в могилу свел. Эх!.. Но ничего, пойдут бабы за Кондрата: не им, так добром соблазнятся – ничего не пожалею!..»
Пьяный он быдто добрый, все готов отдать, а как проспится, снова кобель цепной: баб, работников шугает и ходит дьявол дьяволом – все в землю смотрит.
Я тебе, Лексапыч, говорил ай нет, как я с ветрянскими рыбаками бежал из Гривенской? Не помнишь?.. А я никак говорил. Ветер тогда был страшнеющий, и ветрянских рыбаков штормом выбросило на наш, на кубанский берег… Неужто не помнишь? Они, эти рыбаки–то, как и мы с тобой, пытались на берегу защититься, да где там!.. Ураган почище нашего с тобой был, все у них переломал. Вспомнил? Ну, как же, я ж тебе обсказывал все подробно, как в риляции… То–то оно и есть. И про то, как с Сергей Митрофановичем я ушел, тоже говорил. И как два года прожил в Слободке, как в море с рыбаками ходил, добру–делу учился… И как потом Кондрат таким же манером, как и Сергей Митрофанов, во время урагана на песок у Слободки выкинулся и часа три, быдто дохлый чебак, валялся. Приняли его рыбаки, как своего. А он оправился, очухался, обратно снарядился и меня прихватил с собой. Все это время лев мой при мне, я его из–за пазухи не вынимал: берёг, как этот самый талисмант… В мешочке вроде кисета на гайтане носил, рядом с крестом… Смеешься?
Данилыч закурил и продолжал:
– Через этого льва в моей жизни много чего произошло… Потом я в нем разочаровался…
– Это отчего же?
– Отчего?.. Скажу, дай только покурить, уж очень зябко стало… Зараз бы горилки, хоть мапэсенький глоточек! Хоть макову роснику!..
Я отстегнул от пояса фляжку и подал ему. Он тряхнул ее и сказал:
– Эге ж! Да тут на двоих хватит!
– Нет, – сказал я, – только капельку вам. – И подал ему пластмассовый стаканчик – крышку фляжки. – Остальное «энзэ»!
– Добре, – сказал он, – зараз нальем аптекарскую дозу. – Он налил немного в стаканчик, посмотрел на него. – Гляньте, Лексаныч, як у этих докторов, шо дробинками лечат… гимепатов, ай как их? – Выпив, Данилыч крякнул: – Это мине шо слону горошина… Даже вусы не помочив.
Все же маленький глоточек сделал свое дело: Данилыч согрелся.
– Шо я тебе говорил за того льва? – спросил он. – Ага, вспомнил!.. Так вот, когда началась война с германцем, Кондрата снарядили на действительную, а этот черт рыжий остался с бабами один, как бык в стаде. Чуть чего, давай на бабах да на мне прынцып свой показывать. Но баб–то он больше языком, а меня, чуть что, то подзатыльником наградит, то кнутом, когда не ждешь, вытянет. А когда Надея померла, он будто с ума сошел, позеленел весь и все кулаками разговаривал. Чистая сволочь кулацкая! Сколько раз задумывал я рожу ему скосоротить! Я ить сильный был. Он хоть и пытался работой меня придавить, а я от нее креп – кулаки–то у меня у самого каменные были. А как ты думаешь, Лексаныч, если от зари до зари лопатки у меня под рубахой ходуном ходили. Рубаха от соленого пота трескалась, как кислотой проеденная. В руках то вилы, то топор, то черт в ступе: делов в его хозяйстве еще бы на десятерых хватило! Одних яблонь штук двести было, груш, слив, вышен, винограда, томатов, буряка, кукурузы… скота рогатого двадцать пять голов, лошадей табунок добрый, овец, свиней… птицы там – гусей, индюшек, курей, цесарок – на миллион! Да будь это все проклято! А работников–то было всего трое. От темна до темна возились с его добром.
Конечно, я мог, как говорится по–морскому, «подорвать» от него к Сергею Митрофановичу – Азовское море зимой замерзает. Но случилось так, что я не мог уйти, я говорил тебе: «привязочка» объявилась. Ты, Лексаныч, помнишь, еще спрашивал меня: кто она такая?.. Хотелось мне тогда сказать тебе: графиня! Да грубость–то, она никого не красит, правда? Кто же полюбит–то бедного сироту? Это теперь мы все князи, а тогда время было другое. У себя на родине жили, как черные арапы з Африке…
Шо, не терпится тебе, Лексаныч?.. Ну шо ж, обещал – скажу. Дай закурю поначалу, и оно, как по волнам, в полный ветер – фордевин – пойдет!
53
– Много годов прошло, – сказал он, гася папиросу, – а вот вижу все, будто вчера это было… Сидел я как–то майским утром на речке, дудку делал из молодого побега ивы. Солнце только–только подымалось. Над рекой еще туман стоял. Тишина немая. Только в станице надрывался какой–то поздний кочет да в реке крупная рыба вскидывалась. От лугов медом несло. Сижу я и на дуде узоры режу, кругом райская природа, а у меня на душе такое – хоть в петлю. Вечером рыжий черт огрел меня вожжами так, шо и талисмант не помог. И за шо огрел–то? Гусей загонял я во двор, а тут казаки с ученья возвращались – молодые, чертенята, озорные, по улице скачут, быдто в поле чистом… Вот одному из них под ноги лошади и попал гусак. А виноватый оказался я. Вот, значит, сижу я, режу узоры и думаю: «Да что же это за жизнь моя такая разнесчастная! Бежать, думаю, надо, а то либо черт рыжий меня искровенит, либо я его убью…»
А за убийство–то что?.. Никак каторга полагается? Вынул я из–за пазухи талисмант–то свой и спрашиваю: «Скажи, шо мне делать? Бежать или терпеть? Если терпеть, то сколько же?!»
А он, дурак, знай молчит. Хотел я его в воду бросить, даже размахнулся, но тут за камышами, на той стороне, появилась девушка. Я как увидел ее – и все… словно с полного хода на мель выбросился.
54
С коромыслицем на плече, подол юбки к поясу подоткнутый (роса была сильная), идет эдак, как трясогузочка, покачивается. Сама черная, как цыганка. Коса до поясницы, тяжелая, толстая, как якорный канат. Глазищи… глянешь – утонешь! Не девка, а прямо дева Марея!.. Подошла к воде, сняла с плеча коромысло. Огляделась и стала раздеваться, видать, решила, что она одна на реке.
Солнце уже выкатилось, туман над водой поредел. А речка тихая, гладкая, и небо в ней и берега отражаются, и даже видно мне, как девушка начала скидывать с себя одежу, ну там кофточку, юбчонку, белье… Осталась голая, потянулась, пробежалась глазами по себе – все у нее как на пружинах: грудочки востренькие, торчком стоят… Зараз мне такую только во снях и увидеть!.. Но недолго она так стояла: что–то ей вдруг как бы стыдно стало, – закрыла руками груди, чуть–чуть пригнулась и пошла в воду. Вошла по пояс, протянула руки вперед и сделала из них ковшик, зачерпнула водицы, напилась и, как уточка, поплыла тихо, спокойно. Я бросил резать дудку и гляжу на нее и не могу дыхание перевесть, вот–вот задохнусь…
Она поплавала, поплавала, да к берегу. Вышла, одной рукой груди прикрывает а другой за юбку, а сама вся вздрагивает, как олененок. Схватила юбку и словно нырнула в нее – через голову надела. Потом кофту. Расчесала волосы, заплела их в косу и с припевкой пошла полоскать белье.
Пока она купалась и одевалась, я не дышал и глаз с нее не спускал; сердце у меня, вроде нашего мотора, остановилось, а язык к нёбу прилип. Но как начала она белье полоскать, меня что–то подхватило, быдто там, на сердце, ураган поднялся, я словно охмелел: в голове кружение, а сам я весь какой–то легкий, вот–вот вознесусь. Взял я дудку и заиграл. Она, как услышала, встрепенулась, глаза во – как яблоки – стали. Смотрит на меня и не знает, как себя вести. Краси–ива – на миллион! А я играю да глаз с нее не свожу. Вдруг она как бросит полоскание, руки в бока и кричит:
– Эй, дударь, ты откуда взялся?
– Из станицы, – сказал я.
– Давно тут?
– Только шо…
– Врешь?
– Чего мне врать–то?
– Побожись!
– Лопни мои глаза!
– Смотри, и лопнут, если неправду сказал! Чей ты?
– Донсковых».
– Каких Донсковых…, их тут полстаницы… Рыжего Григория, что ли?
– А ты чья?
– Чья?! – с удивлением, словно не ждала моего вопроса, спросила она и завлекательно так засмеялась. И, быдто от стыда, отвернулась, взяла коромысло на плечо и сказала: – Я отцова да мамина.
И опять головку опустила и засмеялась звонко, как поддужный колокольчик.
– А звать–то тебя как? – спросил я.
Она не ответила, резво так, в полный ветер, пошла наверх. Вышла, остановилась и крикнула:
– Угадай!
И опять засмеялась. И пока не скрылась из виду, все оглядывалась. А я стоял как мачта без парусов иль, проще сказать, как дурак…
55
Откуда она такая взялась? В станице я не встречал ее. Приезжая? Это могло быть. Война с германцем второй год шла, беженцы и до наших краев докатились. В общем, ничего я не узнал в тот день. Ходил как в тумане. На другой день, чуть зарделся свет, я на реку. Но напрасно ожидал ее… Не пришла она и на следующее и на другое утро… С неделю я как подранок ходил. А потом плюнул и перестал. Попросился у Григория Матвеева с батраками в гирла – там камыш и чакан рубили. Но и там покоя мне не было: с трудом неделю прожил, – засела она у меня в голове, как заноза в большом пальце. Ну, не можу, до смерти хочется увидеть ее!..
– Что ж, увидели вы ее? – спросил я.
– Увидел, – сказал Данилыч, – и скоро.
– На старом месте?
– Нет, в церкви…
– То есть как это?.. Венчалась она или…
– Нет! На троицу, во время службы…
– А-а…
– Ну да… Я, правда, богомол–то хреновый, сроду не бил поклонов и рукой не махал… Да и тут случился в церкви со скуки… Ее не сразу заметил. Собирался уходить… Даже, скажу уже больше, пробирался назад, вдруг увидел ее: она стояла слева, там, где у нас бабы стоят… В церкви она показалась мне еще красивше. Только лицо у нее было какое–то сумельное, будто вину на себе какую чувствовала. Когда меня увидела, вся вспыхнула, словно через верхнее оконце утренним лучиком ее осветило. Губки поджала. Глазыньки опустила. Шепчет молитвы чи шо другое. Я как увидел ее, постоял для прилику минут десять и, как говорится, полный назад. Ну, не можу стоять в церкви: кажется мне, что все на меня смотрят, все догадываются, отчего я краснею. Ушел. Но покоя не обрел, не мог от церкви отчепиться: тянет глянуть на нее. Долго ходил около церкви и все ругал себя за то, что ушел, за то, что не дал ей понять, шо хочу встретиться. И вместе думал: «А как дать ей понять– то?..» Ты думаешь, Лексаныч, это легко? Ты сам–то когда переживал это?
– Переживал, – со вздохом сказал я, – да еще как 1
Ну вот! Это со стороны все легко, а когда коснется тебя, так дураком становишься… Пождал–пождал я ее в церковной ограде возле акаций, да не выдержал, ушел… Но скоро вернулся. В станице праздник, а у меня на душе черти в чехарду играют. Ругаю себя: зачем ушел, не узнал, кто она такая?
Когда обедня кончилась, народ повалил из церкви так густо, что ее, наверно, затерли…
После обеда я ушел из дому, ходил, глазел, как другие веселятся, и не заметил, как очутился на реке, в том месте, где первый раз ее встретил.
Лег в траву, вытащил дуду и давай под соловья подделываться. Оно, наверно, смешно было: слух у меня, як у вола. Скоро я сам заметил фальшу и бросил играть. Встал, решил в станицу идти. Немного прошел, как увидел, кто–то, согнувшись по–бабьи, цветы собирает, Я скрылся в траве: «Кто бы это мог быть?» Только поднял голову, гляжу, а это она! Идет прямо на меня, Я поднялся. Она, как увидела меня, вскрикнула «Ай!» – словно босой ногой на ежа угодила, и припустилась бежать. Ну тут я не сплоховал, прижал рукой талисмант и во весь дух за ней. Как ветер, летел… – Данилыч на миг остановился и, кинув взгляд на культю, сказал: – Ты шо, Лексаныч, глядишь? Тогда я об двух ногах был и бегал, как донской трехлеток… Да! Ну, догнал ее не скоро – она тоже легкая на рысь. Да, но не в том дело! Догнал, а не знаю, шо сказать и шо делать–то, руки у меня быдто ватные. Ну, баб–то я знал. Да то бабы, а это девушка.
«Ну, что, – опрашивает она, – догнал?.. А чего тебе надо?! Чего смотришь на меня, как валух?»
А и верно, я стою, как валух: сердце заходится от колотьев, и весь–то я как кипятком ошпаренный. Дышу как паровоз. Посмотрела она на меня да как засмеется.
«Теленок ты», – говорит. И припустилась бежать.
Я не тронулся с места. Она сбежала эдак метров на двадцать, остановилась и опять как засмеется: «Теленок!»
Ты меня не знаешь, Лексапыч, не выдержал я: «Теленок, – говорю, – я! Ну погоди, ты узнаешь, какой я теленок!»
Долго я бежал, уже мόчи не хватало, а она все несется как птица. Но тоже не больше меня паруса на полный ветер держала, начала, как говорится, потихоньку рифы брать. Сперва смеялась надо мной, а тут пошла покрикивать: «Чего тебе надо? Что бежишь за мной? Вот я…»
Когда между нами оставалось не больше двух–трех метров, она споткнулась и с размаху растянулась. Я, не ожидая такого конца, упал прямо на нее. Она охнула и замахнулась на меня. А я обнял ее да в губы… Она первая опомнилась – выскользнула из моих рук, как линь. И не успел я толком понять, как все это произошло, она кинулась ко мне с кулаками: «Вот тебе! Не будешь хулиганничать!» Как это со мной случилось, что я очутился под ней, доси не понимаю. А она знай колотит, словно цепом по снопу: «Дурак! Дурак! Вот тебе! Вот тебе!»
Она бьет, а мне не больно… Тоись больно, но тая боль какая–то вроде сладкая… А она красная вся, растрепанная, но красивая – любо смотреть. Ну, я и засмотрелся, а она как даст мне леща, ладонь–то у нее хотя и женская, да сильная, – в ухе звон, как на соборной колокольне. Я вскрикнул. Она заплакала. Я стал утешать ее. Ну, она не отогнала меня и не убежала…
Данилыч глубоко вздохнул.
– Да-а, – продолжал он, охваченный воспоминаниями, – просидели мы с ней в энтот день до самой лягушечьей зари. Узнал я, кто она и откудова. Звали ее Дуняшей. Была она шестой дочкой бедного казака Семена Глушенкова, озорного человека, грубого, красивого, похожего на цыгана. Он был хоть и беден, да щеголь, носил золотую серьгу в ухе, тонкого сукна шаровары с кантом. Про него говорили, шо он того, с атаманшей баловался, от нее, мол, и серьга и сукно. Казак он был действительно лихой, шашкой действовал, как жонглер в цирке. Лошадь у него текинской породы; отец его, видишь ли, у генерала Скобелева служил и оттуда, из Азии, привел ахалтекинскую кобылу, и повелись в станице эти лошади. Они выносливее калмыцких и донских.
Но не в лошадях дело–то, а в дочках… Чего так смотришь, Лексаныч? В старое–то время знаешь, шесть дочек–то? Это шесть приданых! Худо–бедно, а каждой по одеяле да по подушке надо было… Вот Семен–то Глушенков с того и был злой. Да и как ему было не злиться? Он на войну–то с первым эшелоном отправился. Перед тем как нам с Дуняшей познакомиться, он с двумя «Георгиями», но без руки вернулся в станицу. Хорошо, шо не без правой! Храбрый казак, но дурак немалый. Вернулся и просватал Дуняшу, как ты думаешь, за кого? И не угадаешь. За Кондрата…
– Какого Кондрата? – спросил я.
– Донскова, – сказал Данилыч, – какого же еще!..
История, которую рассказывал Данилыч, становилась все более интересной, я переживал все ее перипетии с той же горячностью, как и сам рассказчик.
– А как же без Кондрата–то?.. Он же на фронте был, – удивился я.
– Э-э, – махнул рукой Данилыч, – это теперь молодежь сама свою судьбу определяет, а до революции старики всё делали: одни продавали невесту, другие покупали. Ясно тебе? Меня вот тоже купил Григорий Донсков…
– Это как же?
– А так вот!.. Не надоело тебе, Лексаныч, слухать– то?..
– Что вы! – сказал я.
56
– Ты спрашиваешь, знал ли Кондрат Дуняшу. Там все знали друг друга. Только я быдто в шалаше на баштане жил: ни товарищей, ни товарок у меня не было, пока не столкнулся с Дуняшей. Да. Но все это лузга! Что мне до Кондрата?! У меня тогда свой галс наметился. После того как мы с Дуняшей просидели у реки до лягушечьей зари, возникла промеж нами любовь. Да такая! Минуты друг без друга не могли жить! Жег нас такой огонь, шо слепил глаза; мы ничего не видели и видеть не хотели. Отчаянные были, часто по краю беды ходили, по самой кромке пропасти… Сколько мы зорь в обнимку провожали! На падучие звезды загадывали, на кукушку… Как–то Дуняша увидела мой талисмант и давай надо мной смеяться: «ха–ха–ха» да «хи–хи–хи»… «Что ты, – спрашивает, – маленький?»
Я сказал ей, что это не игрушка, а память об отце… Да не простая память, а талисмант… Тут я такого туману напустил ей! Она слухает да глазами так стриг–стриг! А я еще больше травлю. Она перестала смеяться, смотрит на меня, как на колдуна. Когда я кончил рассказывать, она повисла на моем плече: «Давай, – говорит, – Саня, вместе беречь его!.. Пусть обоим на счастье будет!»
«Ладно, – говорю, – пускай по–твоему будет».
Она упросила, шоб я отдал его ей, шоб она его, как себя, берегла. Я отдал. Лето, как птица, пролетело. И стали мы зиму ждать… Видишь ли, Лексаныч, решили мы зимой, когда море замерзнет, бежать в ветрянскую Слободку к Сергею Митрофановичу… Вот как!
57
Осень тянулась, словно туча в безветренный день. Встречаться нам стало все труднее и труднее, ну, прямо как в шторм у причала швартоваться. Отец–то Дуняшин к осени стал злее: не то догадывался, шо с дочкой шото деется, не то рука его беспокоила. Я ить по своей ноге знаю: у меня, как на душе плохо, она ломит. Да так, шо становишься чисто бешеный! Бить он начал Дуняшу. И мне стало чаще доставаться от моего благодетеля. Шоб его сто раз перевернуло у сырой могыле! Я доси дивлюсь, как терпел! Если б не Дуняша!.. А вот из–за нее терпел. «Ладно, думаю, ничего со мной не сделается, поболить–поболить та перестанет. Еще ни одно дитя на свете не умирало оттого, шо его ремнем разглаживали». Но, скажу тебе, Лексаныч, на душе у меня все же было погано: хоть бы батько бив, все б терпел, ему все права! А то кто? Сволочь, куркуль проклятый, эксплататор!






