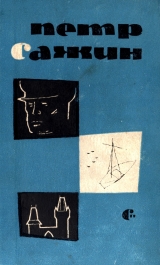
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
8
– Шо только он не делал, – продолжал Данилыч, – дверь вышиб, за которой отец скрылся, стол изрубил, перину и почти все подушки на волю пустил и все кричал: «Зарублю! Сгубили Наташку! Зарублю!»
А отец ему: «Кондратка, сопляк, брось шашку! Прокляну! Наследства лишу! Из дома выгоню!..»
Шо тут было – не приведи господь!.. Старуха было кинулась к нему, и ее чуть не разделил на две половинки: счастье ее, шо она запуталась в половике и упала – сабля мимо просвистела. Но тут он опомнился, шо ли, выбежал в сад и давай крошить яблони. А когда, видно, устал, в конюшню подался, оседлал коня – и айда в поле.
Вернулся к вечеру, сам на себя не похож – бледный, в чем душа держится, хотел слезть с коня, да оземь и хрястнулся.
…Когда схоронили Наталку, Григорий Матвеевич поминки устроил: вина было и своего и покупного, три индюшки зарезал, утей штук шесть, курей десяток, барашка. Такой стол устроил – всем показать хотел, как он любил невестку и как, стало быть, убивается по ней, поминает… Хитрая сволочь! Тишину хотел в доме водворить. Но ему это не удалось…
– Почему? – спросил я.
– Наверно, не все в расчет принял…
– А именно?
– Ну, вот, на поминках подсел к Кондрату, с которым меня, как Наталкина племянника, усадили… да, подсел, значит, рыжий черт, и начал сладенько так петь: мол, ты, сынок, не горюй: пройдет положенный срок, и женим тебя… Один не будешь. «Я, говорит, давно уже тебе невесту приглядел, еще когда Наталья жива была…» Не успел он досказать, как Кондрат вскочил из–за стола да за шашку и чуть не порушил старика – старуха выручила, заслонила мужа. Мол, руби меня. Ну, Кондрат, конечно, перед нею сдался, шашку в ножны кинул. Прощения просил… Шо? Конечно, выпросил!.. Но сраму было на всю округу.
…Меня в те дни Кондрат жалел. Прижмет к себе и все так ласково: «Сиротинушко ты мой…» Себя укорял за то, шо не сберег Наталку. Про море вспоминал. Грозился уйти из дому, поступить на пароход и уплыть в чужедальние страны. Тяжело ему было. Шо ж… Муж без жены шо гусь без воды. Я тогда, дурачок, жалел его, верил ему.
Но время, Лексаныч, бегить–крутится, как морская волна за кормой. Не успеешь, как говорится, оглянуться, а берег, от которого отошел, скрылся, и впереди замаячила новая земля… Да-а, так–то вот, прошло время, и у Кондрата горе заросло, как малая царапина, но зато началась моя каторга…
Нет, не от Кондрата! Появилась в доме у Донсковых этакая цаца – новая жена Кондрата Надея. Она чего–то сразу принялась меня грызть, ровно я для нее сладкий орех. Потом к ней Григорий Матвеевич присоединился, а за ним и его галка. Пришло время, и Кондрат забыл, шо я «горький сиротинушко», так ловко стал мне подзатыльники давать, шо у меня в ушах звон стоял, как на станичной колокольне, когда в набат бьют. И пошла для меня не жизнь, а, как я уже говорил тебе, чистая каторга…
Пропадет свинья, или коза, или там стригун… Ну, знаешь, под вечер, когда скотина на баз загоняется, жеребчик молоденький возьмет да заиграется, тоись забалуется вроде, как бы тебе сказать, ну, возьмет да «свиснет» намётом в поле – искать и ловить меня посылают. До самой чертовой темноты, бывало, ходишь по жнивью, все ноги искровенишь, пока найдешь. Боже мой, сколько я слез излил тогда, один степ и знает! А сколько проклятиев сыпал я на голову моему главному мучителю, куркулю проклятому, рыжему кобелю Григорию Матвеевичу, и на новую Кондратову жену! Женщина, а ведь, поди ж ты, какая душонка у нее нескладная! Верно говорится: во всяком звании свой сукин сын. У меня от нее вот тут, – Данилыч показал на сердце, – ровно бы опух появился.
Эх, чего только не желал я моим мучителям! Яму какую увижу – загадываю, шоб в нее попала бричка с Григорием Матвеевичем и с этой Кондратовой цацей. Пожар где случится – жалею, шо не у нас. В соседней станице, слышно, казаки передрались, пьяные были, в шашки пошли да так ошалели, шо сын отцу ухо отсек, а отец своему чаду два пальца отхватил, я опять: «Господи, почему же это не у нас?!» Словом, пошел у меня, как у покойной тетки Наталки, огонь в голове гореть… Ну, жгеть меня, и я навроде сохну, как осенняя груша на взвар. И ни к чему нет склонности: за стол сяду – забываю ложкой черпать; спать ложусь – до утра сна дожидаю. А ведь маленький был – двенадцатый годик шел. Трудно мне было так, шо сказать тебе не сумею!
Однажды наступил день, когда понял, шо дальше терпеть этого не могу, особенно от этой Кондратовой цацы. И вот, поди ж ты, у меня, хлопчика, в сущности у мальца совсем, родилась думка убить Кондратову Надею… Ты подумай – убить!
— Ну и что же, не убили же вы ее?
– А лучше б убил!.. Может, и не маялся теперь, а то ведь шо вышло–то… Когда я, значит, решился на это дело, то взял к себе в чулан спички и топор: после убийства хату–то думал того… на ветер. Три дня не мог решиться: возьму топор, сделаю шаг к спальне и назад – страшно мне делается, и будто крик ее слышится, и будто тетка Наталка в ухо мне шепчет: «Не надо, Сашко! Не делай этого, лучше убеги из дому навовсе…»
А настанет день, думаю, чепуха все! Никакого голоса нет и быть не может, вот шо. Решил сломить себя, взял топор и пошел. Только порог в спальне переступил, как она заорет: «Караул! Караул!..»
Нет! Не из–за меня, а, как видно, во снях ей шо–то привиделось. От энтого крика я как стоял у дверей, так и примерз; гляжу, Кондрат с кровати сигает да за карабин, затем подбежал к окну и в воздух стеганул.
На выстрел прямо в кальсонах Григорий Матвеевич явился. Бегает, снохи не стесняется, орет: «Лови! Лови!» А кого ловить–то? От выстрела и криков завелись наши собаки, а за ними во всей станице поднялся такой брех, что с ума можно сойти.
9
Данилыч снова сделал паузу для того, чтобы набить махрой очередную бумажную «оглоблю». От папироски, которую я предложил ему, он и на этот раз отказался: Данилыч любил табачок покрепче.
– Да-а, вот как оно получилось–то незавидно, – продолжал он. – Мне бы уйти, да не могу: ноги приросли к полу и коленки труса пляшут… Успел только топор за дверь сунуть, как меня и засек Григорий Матвеевич. «Ты, – говорит, – чего здесь?» Да как даст подзатыльника – я с катушек долой. А он заорет, как на собаку: «Марш на место!»
Я и не помню, как поднялся с пола и как прибег на свое место (я спал в чулане). Закрылся на крючок, лег, а сон мой где–то далеко–далеко. Голова горячая, нос в крови. До света вертелся на сеннике и все думал, как отомстить им. Поджечь?.. Нельзя! Кроме хозяев, в доме работники, чего им зазря страдать.
Ночка показалась мне длинней года! Страшно вспомнить, какая это была тяжелая ночь! Даже собаки еще засветло почуяли ее – шерсть у них на дыбки становилась. И ветер как взялся еще с обеда камыши причесывать, да тополя к земле гнуть, да волны в лимане гонять, так и не останавливался и за ночь еще пуще стал. Донсковский дом на шо крепкий – стены в три кирпича ложены, как добрая фортеця, – а и то весь гудел, и, ей–богу, не вру, шатался, как гнилой зуб во рту. А дом–то еще и сичас стоит – пережил войну германскую, революцию, гражданскую войну и теперь вот Гитлера. Сейчас, говорят, там расквартированы ясли колхозные…
В эту бессонную ночь, когда ветер по крыше, быдто Баба Яга в ступе, носился, а в трубу черт свистел, дал я клятву отомстить за Наталку и за себя. Дал клятву, и мне вроде легче стало.
Перед светом стало в сон кидать, глаза потяжелели – веки будто свинцовые. Тут слышу, в окошко застучал кто–то, потом голос: «Откройте!» А ветер, как видно, совсем осатанел и перешел в вихрь, все закрутилось, завертелось, дом донсковский качнулся и вроде как бы присел, потом оторвался и полетел куда глаза глядят. Прилетел он в неведомое царство–государство, где все люди равны, все трудятся и ласковые друг к другу. Еды сколько хошь и какой хошь, и табаку первостатейного, и вина какого только твоей душеньке угодно, и уродов нет – все красивые. Хожу я по этому царству–государству, дивлюсь, рукой пробую все. Сладость и фрукту ем. Иду и вижу, хлопцы в бабки играют, заметили меня, кричат: «Сашко, иди с нами играть!» Видишь, имя мое даже знают.
Поиграл я в полное удовольствие, иду дальше и вижу: дворец огромный и стражи никакой. Захожу в одну залу, самую большую, и вижу там постели пуховые, а на них люди лежат, безвременно погибшие. Как увидели меня, привстали. Батюшки, гляжу, отец мой как есть по всей форме матрос. Кидаюсь к нему. Он ласкает меня и шепчет: «Сынок мой любимый, здесь и тетка Наталка. Посмотри, во–о–он она! Пойди, повидайся с нею».
Недолго пришлось быть мне с теткой Наталкой: раздался гул, словно в соборный колокол ударили. Тетка Наталка испугалась и тихо говорит: «Уходи, Сашко!..» Тут кэ–э–эк меня в бок садануло! Хочу крикнуть, а не могу: дух захватило, и боль страшнеющая… Бежать хочу – ноги как ватные; короче говоря, очнулся я и чуть не взвыл от боли…
Шо ж произошло? А вот шо. Когда стал я дремать–то в первый момент, пока не провалился в сонный омут, слыхал и свист ветра, и какой–то стук, я думал, это крыша, а на самом деле стучали люди: ветрянские рыбаки, их штормом выбросило на наш, на кубанский берег. Они было пытались на берегу защититься, но где там, такой ураган был, шо все у них переломал. Они чудом добрались до Гривенской и угодили на донсковскую усадьбу, благо она крайняя. Собаки их чуть–чуть в клочья не разорвали. Собаки–то у нас по характеру не отставали от хозяина. Я, значит, слыхал и их стук, и собачий лай, и как хозяин орал «открой!». Но сон–то оказался сильнее меня. Ну, Григорий Матвеевич, не дождавшись, когда я встану, сорвал дверь с крючка и дал мне в бок пинка, как котенку шелудивому. От этого пинка у меня в боку шо–то треснуло и больно было так, будто ранили меня и рану солью посыпали. Но я встал. Эх, если бы я был большой!..
Рыбаки прожили у нас три дня, а затем, когда ветер улегся, ушли на берег чинить свои снасти и посудину. Неделю они там возились. Каждый день я к ним бегал. Их старшой – Сергеем Митрофановичем звали – приветил меня, и я ему, как отцу родному, рассказал все. Он вздохнул, подумал, затем поглядел на своих и говорит: «Пойдем, хлопчик, с нами в Ветрянск. Небось мы тебя одного–то прокормим всей ватагой. Как думаете, ребята?..» Тут все в один голос: «Быдто не прокормим?
– В лучшем виде устроим, и будет Сашко заправский рыбак…»
Я заплакал.
– Эх, – сказал Сергей Митрофанович, – горемыка ты! Ну ничего, пойдем с нами. Тут тебе оставаться не для чего! Чистая каторга с этими душегубами! А с нами, может, и радость встретишь. Хотя у нас праздники редко бывают. Но ничего, привыкнешь, – море любой камешек обточит.
И я убежал с ними.
10
Два года я прожил в Ветрянске у Сергея Митрофановича, как у отца родного. Погиб он в сорок первом году. Вовек его не забуду! Он тут, в Слободке, жил. Его хата вначале – во–он видишь нефтебаки, а рядом с ними, там, где мачта стоит, – городской пионерский пляж? Так это не доходя метров пятьдесят. Мой дом сто восемнадцатый, а его под номером три – значит, второй от угла. Как–нибудь покажу тебе и домСергея Митрофановича, там сейчас его племянник живет – Вася–милиционер.
Жил я у дяди Сережи, как я уже говорил тебе, Лексаныч, будто свой. Море с ним исходил вдоль и поперек. Крепкий был – никто не смел меня обидеть. Да я и сичас не дохлый!
Однако счастье мое продолжалось недолго: нашел меня Кондрат Донсков и увез.
– Как же так?
– Плесни, Лексаныч, еще чуток, – сказал Данилыч, показывая на бутылку коньяку.
Выпив, Данилыч, который к тому времени уже совсем отрезвел, провел ладонью по усам и продолжал:
– Очень просто. После того как я убег из Гривенской, рыжий черт – отец Кондрата – надумал рыбным делом заняться. Видно, Сергей Митрофанов сбил его с панталыку. Ну вот, завели Донсковы баркас, калабуху и несколько подчалков, ну там снасти и прочее. Наняли ахтарских рыбаков, которые были не у дела, и пошли в море. Григорий–то Матвеев думал, раз Кондрат служил в Севастополе, значит, дело их будет в ажуре. А наше море–то – не Черное, оно хоть и мелкое, да характер у него крутой. Иной раз такие кренделя выкидывает, что за минуту поседеешь, особенно когда «тримунтан» начнет. Да и с «левантом» ухо держи повыше!
Ну, пошли они в море, а тут, случись, шторм налетел. А Кондрат–то шо, он хотя и на корабле служил, но матросом сроду не был. Кондрат – артиллерист, пушку свою за милую душу знал, а с ветром, с его формарцами знаком не был. Шли они к Камышеватке – коса такая на той стороне есть. Ветер стал прижимать их к Бейсугам – лиман там, где станица Брыньковская стоит. Им бы покориться ветру, войти в лиман да переждать. Однако помешала гордость: как же, Донсковы, гиорьевские кавалеры, и отступать?! Ни за что! Ну, он их и саданул под дых, «тримунтан» – то! С ним шутки, как у мышки с кошкой… Баркас утопили, подчалки растеряли и на калабухе по уши в воде еле добрались до Ветрянска. Их тут у Слободки и выбросило. Как говорится, у одних и шило бреет, а у других и ножи неймут… Часа два на песке, как дохлые чебаки, валялись.
Известное дело, рыбак рыбаку всегда руку протянет – помогли им калабуху починить, парус новый поставить. Это все Сергей Митрофанович – добрейший человек. Ну вот, когда они трошки отдохнули у нас, море улеглось, надумали до дому. Вот тут–то и взял меня Кондрат.
– А зачем же вы пошли с ним?
Данилыч хмыкнул:
– Нешто вы, Лексаныч, забыли! Да ведь он мне кто?.. Опекун!.. Значит, у него права на меня были. Это, Лексаныч, нынешнее время будь он хоть опекун, хоть отец–разотец, но если ребенка забижают, то советский суд может отобрать, взять под защиту дитё. А ведь то было при царе Горохе… Ну, не совсем при Горохе, но в общем при царе… Вот он и увез меня.
Первое время ничего, не обижали. Но потом война с германцем началась, Кондрата призвали, тут рыжий черт, остамшись с одними бабами, прынцып свой на мне опять стал показывать: чуть шо – подзатыльник, а то и кнутом вытянет. А за кормой у него – Надежда, и та норовит свою метку поставить. Шо делать? Я уж стал большой – шестнадцатый шел. Мог свободно убежать от них к Сергею Митрофановичу: Азовское море зимой замерзало. Но тут я сам не схотел уходить.
– Это отчего же?
Данилыч смутился, опустил глаза и пожал плечами.
– Была причина, – сказал он.
– Влюбился? – спросил я.
– Влюбился? – переспросил он. – Гм! Это пустяки.
– А что же?
– Голову потерял, вот шо!
– Та–ак… Значит, из–за нее все терпел и не уходил?
Данилыч не сразу ответил. Он вдруг осветился весь изнутри, и черты его лица словно стали моложе, тоньше и благороднее, и какой–то огонек вспыхнул в глазах – весь он был объят трепетом.
– Да, терпел, – сказал он, заметно волнуясь, – да я и сейчас все бы мог стерпеть…
– Это кто же она такая?
Данилыч: будто вопрос вовсе не касался его, спросил, сколько теперь времени. Было одиннадцать часов.
– Надо «до Гриши» идти, сахару взять, – сказал он и весь потускнел сразу. – А то придет др–рагоценная, задаст такого шторму, шо три дня будешь качаться, как во–он тот подчалок.
Он поглядел на море.
– А ветер–то на убыль… Завтра, пожалуй, тихо будет… А насчет того, кто она, Лексаныч, это я потом, будет время, скажу тебе…
Он быстро собрал со стола. Снес посуду на кухоньку, прикрыл суровым полотенцем. Спрятал от мух хлеб. Дал рыбьих костей Боцману, погладил его густую, сверкавшую, как пламя, шерсть, затем вскочил на костыли, объяснил мне, где прятать ключ, обстоятельно рассказал, как пройти в правление колхоза «Красный рыбак», и пошел прыгать…
11
Вот как бывает в жизни! Несколько часов тому назад я с какой–то необъяснимой тревогой устраивался в горенке у Шматьков. Хозяева по первому впечатлению не понравились мне. А вот сейчас не успел Данилыч скрыться за калиткой, и мне стало грустно. Отчего это? Оттого, что я остался один? Но разве я первый раз в своей жизни оставался один?! Мне вспоминаются далекие островки Охотского моря… Катер уходит, ты остаешься один. Дико воет ветер. Берег захлестывается накатом разъяренного океана. Почти круглые сутки слышится то дикий рев сивучей, преследуемых кровожадными китами–убийцами, то изнуряющий крик крачек и глупышей – жуть!.. И ничего – пережито.
А что же сейчас заставило мое сердце отдаться какому–то смутному и тревожному изнеможению, которое бывает лишь при расставании с очень любимым человеком?
Рассказ Данилыча. Да. После того как Данилыч ушел, горенка показалась мне душной, тесной: виднелись чудесные приднепровские просторы, кубанские плавни, маленький Сашко и его тетка Наталка – женщина обжигающей красоты.
Я вышел во двор подышать, но и тут было не легче, хотя с моря дул ветер. Духота оказалась сильнее – она не покорялась ему. Над степью висело марево. Солнце какое–то затомленное и едва видимое сквозь кисею полупрозрачных топких облаков. Парило.
Не только я страдал от духоты. Боцман, чуть слышно взвизгивая, долго работал лапами, пока не добрался до влажного песка. Выкопав яму, лег на живот и распластался. Когда я подошел к нему, он сморщился, приподнял с одной стороны верхнюю губу, обнажил белый, мокрый, блестящий клык и заворчал: «Р–р–р-р».
Можно было бы пойти и выкупаться, но море не влекло: ветер перемешал прибрежные слои с придонными отложениями, и волна стала похожей на мутный суп. Некоторое время я бесцельно бродил по двору.
Хатенка моих хозяев с виду ничем не отличалась от других домиков Слободки, занимавшей окраину Ветрянска. Маленькие оконца, низенькие потолки, толстые стены – не дом, а равелин. Правда, в этом, как я узнал позже, был свой смысл: толстые стены зимой спасали от лютых северо–восточных ветров. Кроме того, в толстых стенах сделаны «хода» для дыма – таким образом, одна печь отлично согревает весь дом.
В хате, кроме горенки, – три крохотные комнатки, в которых хозяева почти не живут, это все для квартирантов. Под крышей пристроена просторная, без потолка, холодная кладовка для хранения овощей, солений и различного инвентаря и немудреных рыбацких снастей. Здесь же под стрехами висят пучки серебристой полыни, шалфея, ромашки и бессмертника; на перекладинах рыбачьи сети, весла, уключины, якорьки, дубовые бочоночки – так называемые анкерочки – для пресной воды, отпорные крюки; на полу – чаны для мойки и вымочки тарани, сулы и бычка, корзины, рогожи и еще добрый десяток вещей, которые могут и вовсе не понадобиться, но без них сердце рыбака не будет спокойным. Например, кухтыли – стеклянные дутые шары цвета аквамарина, – поплавки для поддержки верхней подборы сетей, столбы для ставников [8] и, как говорится, и т. д. и т. п.
Поперек двора от столба к старой акации протянуты шнуры (линьки) для сушки рыбы. Не знаю, для чего это все нужно Данилычу? Неужто он со своей культей занимается промыслом?
При хатенке небольшой участок с двумя сотнями кустов винограда, среди которых, как часовые, стоят четыре комолые груши и крепкая, молоденькая, со свежей, гладкой корой шоколадного цвета яблонька.
Возле дома и летней кухоньки хлипкие с виду деревца южной акации. На небольшом огородике кусты помидоров, облепленные пронзительно–красными плодами, арбузы–карлички и большие, как мексиканские сомбреро, тыквы.
В зарослях веничных растений колодец с солоноватой водой. Две «скреки» (так по–местному называют лягушек), облюбовавшие этот паршивенький водоемчик под свое роскошное жилище, иногда издавали довольные звуки, похожие на «скрэ–э–эк».
Хата и кухонька сверкали ослепительной белизной. Такую белизну с нежной проголубизной умеют наводить только украинские хозяйки. Хата стояла крепко, чуть сбочась в сторону моря, куда зорко глядели ее чисто вымытые оконца.
Между участком Данилыча и его соседом никакого забора. Только колючая трава, спинки осыпанных ржавчиной железных кроватей, давно отставленных их хозяевами от прямой службы, да еще полуистлевшие сети оберегали от докучливых кур.
…Владение Данилыча небольшое, и поэтому я на знакомство с ним потратил очень мало времени. А дальше что было делать? Спать? Не хотелось. А куда деть свободное время?..
В старину говорили: «Потерянного времени и на коне не догонишь». Что конь! Самолет и тот не в состоянии догнать потерянного времени! И все же чем заняться?
…Решение пришло неожиданно: на улицу, на люди! А там видно будет – может быть, не теряя времени, возьмусь за дело, ради которого я приехал в Ветрянск.
Я запер дом. Положил ключ в условленном месте и вышел на улицу.
12
Слободка выглядела как средняя казачья станица. Сильно вытянутая в длину, довольно пыльная, с собакой в каждом дворе, она была полна ребятишек, необычайно полных женщин и стройных и красивых девушек. Не тех – спортивного вида, которыми отличаются большие города и прославленные курорты, то есть девушек с коротко подрезанными волосами, узкими бедрами и небрежно крашенными губами, а стройных, с тугим, будто точеным, телом, с загорелыми ногами, с неискромсанными модой волосами, с чистыми, ненамазанными губами…
По центральной магистрали бегал автобус, связывавший Ветрянск и вокзал с курортом, расположенным в километре от Слободки. На булыжной мостовой с утра и до ночи стоял грохот моторов.
На остальных улицах машины ходили редко. Лишь велосипедисты настойчиво позванивали, вызывая переполох среди гусей, коз, кур, уток и свиней, которые свободно разгуливали по Слободке.
Свиньи подрывали все, что могло подрываться, и с сочным хрустом пожирали арбузные корки. Гуси ходили по улицам будто с единственной целью доказать, что более ревнивых супругов, чем гусаки, на свете нет: они шипели, лезли в драку почти со всеми прохожими.
Рассудительнее всех вели себя козы: они с аппетитом уплетали серебряные листья диких маслин и черную полынь, показывая, что для производства жирного молока подходяще всякое сырье. И только глупые куры, которых природа сделала болтливыми даже в ответственнейший момент приношения плода, безмятежно купались в пыли, словно дразня уток, которым для получения полного удовольствия нужно было, либо идти в лужу, либо дожидаться, когда на море кончится шторм.
…Я не заметил, как дошел до почты. В маленькой комнатке было душно. За барьером сидела беременная женщина с очень некрасивым, но добрым лицом. Некрасивость ее была, по–видимому, временная, а доброта, очевидно, постоянная. Работала она хотя и медленно, но очень душевно, и все у нее выходило ладно. Напротив сидел мужчина. Сиплым голосом он передавал в телефон телеграмму. Фразу: «Колхоз дал Василю премию мотоцикл» – на городской почте никак не могли записать, так как слово «мотоцикл» мужчина, даже диктуя по буквам, передавал как «моцотыкл». Женщина, подававшая телеграмму, взяла почтаря за рукав. Он приостановил передачу телеграммы и, вслушиваясь в объяснения женщины, даже просветлел лицом.
Еще только войдя на почту, я в уме сочинил телеграмму домой, очень обстоятельную и нежную. Но когда услышал, как передаются телеграммы, и представил себе, что и в моей вдруг обнаружится свой «моцотыкл», на ходу перестроился, написал обычный текст – «доехал благополучно» и далее в том же духе с прибавлением адреса.
Взяв газету, я вместе с женщиной, матерью Василя, премия которого доставила столько хлопот местной почте, вышел на улицу.
Слободка в этот час оказалась безлюдной, сонной. Женщины не толклись ни у скромного магазина «Сельпо», где господствовали с детства знакомые запахи соли, керосина, дегтя и сыромятной кожи, ни «у Вани» – продовольственной палатки, где Данилыч, как он сообщил мне по секрету, имел кредит, ни «у Гриши» – местного ГУМа, где «с утра давали сахар, который только сейчас кончился».
Обо всем этом сообщила мне женщина, «отбивавшая» мужу телеграмму о премировании Василя «моцотыклом». Да я и сам еще издали видел, что в «Сельмаге», кроме двух мальчишек, приклеившихся взглядом к горке фруктовых, обсыпанных сахарным песком конфет, никого нет.
В открытую настежь дверь виднелись большие весы, мешки с крупной чонгарской солью, ящики с гвоздями, куски мела, похожие на глыбы снега. В витрине центральное место занимали высокие рыбацкие сапоги – бахилы.
«У Гриши», в этом сельском чудо–магазине с большими зеркальными стеклами, – дорогие куклы в розовеньких воздушных с рюшами платьицах, эмалированная посуда, обувь, «культтовары», вазы, расписные глечики и богатый гастрономический отдел.
«К Грише» заходили дюжие рыбацкие жены, с прибылью отторговавшиеся на городском базаре, купить ребятишкам гостинчика, а «чоловику горилки и ковбасы». Хотя, как мне пояснила моя спутница, мать Василя, «зараз тильки дурный пьеть горилку»: сентябрь в Слободке да и во всей Ветрянской округе – время молодого вина, в каждом доме (у кого есть виноградник) «жмут вино», угощают друг друга, и рыбаки, пока в море орудует «тримунтан», охотно отвечают на приглашения: «Заходьте до нас, Пантелей Григорьевич, отведать «Изабеллы».
Виноградники Ветрянска очень богаты сахаром; здесь главенствуют сорта «мускатная шасла» и «Изабелла». Рыбаки любят, когда этот сахар огнем бродит в их жилах. Но вот, в один прекрасный день, не сговариваясь, а подчиняясь велениям поразительной женской интуиции, рыбачки убирают все со столов, хватают своих отважных капитанов, как говорят, за кушаки, сажают в шлюпки и мчат на рейд, где катера в ожидании хозяев давно, как застоявшиеся кони, танцуют на волне.
Уйдут рыбаки – и в Слободке, как осенью в поле, с которого свезен весь хлеб, тихо, пустынно, тоскливо. «У Вани» никого.
Не веселее и «у Гриши». А в чайной, всегда кишащей людьми, как муравейник, теперь за красного гостя идет заезжий уполномоченный.
Рыбачки в отсутствие мужей справляют большие стирки, чинят крыши, затирают полы, подбеливают хаты, ладят бродячих шоферов съездить в Донбасс за углем, готовят на зиму соленья и маринады, а вечерами, щелкая жареные семечки, судачат у калиток либо перед окнами своих горенок.
Посудачат, начнут зевать да молодость вспоминать, потом пожалуются на современную молодежь, забывая о том, что их Васили и Дарьи – настоящие герои: новые города строят, новые земли подымают, дороги прокладывают на земле, на воде и в воздухе. Вон Лешка, сын старой Дундучихи, в Слободке слыл за сорвиголову, опустошителя виноградников, а потом пришло время, взяли в армию, стал он там танкистом, благодарность за благодарностью получал; кончился срок службы, ушел «на гражданку», то есть демобилизовался, и махнул на шестой континент – в Антарктиду, водит там по ледяным горам вездеход с учеными. Перед отбытием на шестой континент домой заехал, матери дом починил, денег кучу оставил… А Сенька Диденковский рос совсем дохлым парнем и тихоней к тому же, а сейчас механиком на теплоходе в Индию ходит… Петька Зинченко – летчик… Э, да разве ж всех назовешь? От жалоб на молодежь перейдут к жалобам на поясницы, на «ревматизьму в ногах», которые «болять, аж в глазах тэмно». Потом начинают прощаться, захлопывают ставни, приструнивают собак, смачно пьют холодную водицу и, покряхтывая, вспоминают теплые объятия мужей, затем глубоко вздохнут разок–другой и ложатся на одинокие, прохладные постели.
…Слободка понравилась мне.
Люди жили здесь зажиточно, с достатком, который обеспечивали не только морем, но и трудолюбием: почти у каждого хорошо возделанные виноградники и приусадебные участки.
В Слободке хорошие магазины, отличная школа с большим парком и садом, превосходный клуб, библиотека и книжно–журнальный киоск. В клубе, конечно, на первом месте кино и танцы. Здесь можно – была бы охота – натанцеваться на две пятилетки вперед и посмотреть, кроме новых, и те картины, которые на экранах столичных городов не идут уже лет десять – пятнадцать: киноаппарат работает почти без выходных. В кино ходят чуть ли не целыми домами – в хатах остаются только старики да малые дети. Мать Василя говорила мне, что если бы кино крутили с утра, и то клуб не пустовал бы. Кстати, эта любезная женщина оказала мне содействие в знакомстве со Слободкой. Она же охотно проводила меня до правления колхоза «Красный рыбак», около здания которого мы взаимно пожелали друг другу успеха в жизни.
Председатель колхоза «Красный рыбак» товарищ Скиба был мужчина необыкновенных, каких–то сказочных размеров. Казалось, что ни одна мать на свете не могла родить такого великана, казалось, что он был собран по чертежам особого конструкторского бюро в специальном цехе, причем из весьма прочных и очень крупных деталей: что руки, что плечи, что лицо – все было истинное диво! Лицо Скибы и решетом не прикроешь. А нос! Видели ли вы когда–нибудь огурец–семенник? Это великан среди огурцов, с толстой, задубелой кожей, порой переходящей в темный–темный янтарь с мелкими, как на дыне «дубовке», трещинами… Словом, все у председателя было добротное, прочное, так сказать, изготовленное из отличного материала, щедро отпущенного этому железному человеку. Единственно, что не по калибру у председателя, – это глаза и уши. Представьте себе две маленькие ягодки черной смородины – это и есть глаза Скибы. Брови и ресницы у председателя тонкие, чуть–чуть рыжеватые, слегка окинутые легким золотцем – их за два шага уже не видно. Про уши лучше и не говорить: так, почти незаметные раковинки. Зато на голове Скибы вились дивные золотые кудри.
Скиба курил трубку, которая была не менее оригинальна, чем ее хозяин. Нет, это не украинская «люлька»! Чтобы встретить еще такой же экземпляр, потребуется объехать полсвета… Голова смеющегося гнома, крохотного старого колдуна, опутанного морщинами, как паутиной, – вот как выглядела трубка председателя колхоза «Красный рыбак» товарища Скибы. Сделана она из крепкого, почти железного корня вереска, да так, что оторваться от нее нет сил. Судя по работе и рисунку, трубка была, по–видимому, заморского происхождения и, как я догадывался, принесена товарищем Скибой с фронта в вещевом мешке как личный трофей.
Трубка закрывалась стальной, узорчатой насквозь крышкой, которая при ближайшем рассмотрении оказалась не чем иным, как подобием королевской короны.
Такой трубке подошел бы тонковолокнистый духовитый турецкий табак, а не грубая черкасская махорка, от которой в глаза лез едкий зеленый дым, а в нос бил острый и злой запах, как в цехе кислых овчин.
Я представился Скибе. Затем сказал, что мне для сбора научного материала о заболевании морских водорослей нужна шлюпка с гребцом или, еще лучше, моторная лодка.
Скиба подкинул брови вверх.
– Научного материала? – произнес он таким тоном, будто в этих словах содержалась явная крамола, и не спеша выколотил трубку. – Це важное дело, – заключил он.
Я ждал, что он скажет: «Ну что ж, раз вам нужна шлюпка, на такое дело колхоз ничего не пожалеет».
Но товарищ Скиба не спешил.
Поглядывая на меня, он долго молча набивал трубку. По его маленьким, с виду хитрым глазам нельзя было понять, добрый он или злой, щедрый или скупой.






