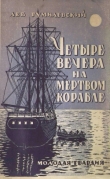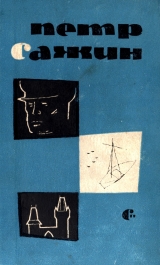
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
Данила Шматько недолго прожил после смерти жены: через год снарядом, взорвавшимся во время учебных стрельб, он был убит наповал. Останки его были отпеты корабельным священником, затем, согласно морскому обычаю, зашиты в брезент и опущены в море. Имущество же комендора Данилы Шматько было доставлено с нарочным в Голую Пристань.
Это был небольшой матросский деревянный сундучок, отделанный по углам блестящей, как золото, латунью, с широкой кованой ручкой, весь изузоренный каленым шомполом: артиллеристы на это – великие мастера!
Внутренняя сторона крышки сундучка оклеена видами Плимута, Лондона, Неаполя, Дураццо, Мальты, Пирея, Стамбула… Виды эти напоминали Даниле Шматько города и страны, куда ходил он во время учебного плавания, либо то время, когда на корабле находились особы царствующего дома, следовавшие в заморские страны на похороны или коронации королей.
В сундучке находились подарки для матери и для Сашка: были тут прямо райские, мягкие, красные сафьяновые сапожки, купленные отцом в одной из восточных стран; большие поющие раковины, сверкающие перламутром; зеркальце; крепкие–крепкие духи; кусок духовитого мыла, завернутого в красную с золотом бумагу, на которой был изображен бородатый восточный принц, весь в самоцветах и красном плисе, в голубых сапожках и такой же чалме…
…После гибели отца вскоре умер и дед Ничипор. Сашко остался с теткой, которая в дальнейшем заменила ему мать. Правда, были еще дядья – отцовы братья, но жили они далеко: один где–то на Кавказе, другой – у германской границы, а третий работал на Урале, на медных заводах.
Родные со стороны матери не знались со Шматьками, так как мать Сашка, Галина, вышла за Данилу против их воли и без родительского благословения в то время, когда ее сговаривали в семью богатого херсонского ссыпщика зерна. Куда же было деваться Сашку? Ведь с теткой Наталкой также было не все ладно: еще при жизни Ничипора и Данилы она была сговорена в семью богатого таганрогского грека–негоцианта, владельца мотопарусной шхуны «Элас». На ней грек возил в азиатские страны хлеб из Херсона, а оттуда вывозил пряности, сладкие стручки, апельсины, кофе и ковры.
Братья писали ей, чтобы она берегла дом до их возвращения, не торопилась за грека, а воспитывала бы Сашка и следила за бакенами вместо отца. А они, бог даст, скоро возвратятся и помогут ей выйти замуж. Но бог не дал братьям скоро возвратиться домой: война с японцем началась, и дядья Сашка поплыли кружным путем по морям красным и желтым, под палящими лучами, к черту на рога, аж на Дальний Восток.
Остались Сашко с теткой вдвоем. Наталка сделалась заправской бакенщицей: лодкой управляла лучше другого матроса. Ох и интересная жизнь была тогда у Сашка!
Нужно было Наталке бакен зажигать – Сашка сажала в лодку, сама на весла – и айда. Стирать начнет – Сашко рядом в лохани кораблики пускает. На огороде копается – Сашко тут же рядом пыхтит, грядочки свои ладит. А если тетке уходить куда надо, оставит Сашка в хате. Сначала Сашко ревел так, что становился весь красный от натуги, грязный от размазанных слез, мокрый: не удержится и обмочится… Но прошло время, и он перестал реветь; нету тетки – играет, верещит, как птаха, на своем непонятном для всех птичьем языке (он долго не умел говорить), правда, весь вымажется, но наиграется и уснет.
Хорошая была Наталка, красивая. Недаром грек сходил по ней с ума. Всякий раз, когда он приходил в Херсон, за грузом, он оставлял шхуну в Голой Пристани, а сам на нанятой лодке спускался вниз по Конке до домика бакенщика, в ноги падал Наталке, умолял ее выйти за него, царской жизнью соблазнял, подарки дорогие сыпал на стол.
Но Наталке грек был «хуже вуксуса» и тогда, когда жил еще Ничипор, а теперь тем более, когда сама хозяйкой стала…
Уж очень неказист был из себя этот грек… Только одно звание – мужчина, а сам худой, носатый, черный, глаза, как уголья, горят… «Кляча и в золотой узде не конь». Словом, она отказала ему.
Но хотя Наталке и удалось отвадить от дома грека, а перед судьбой она не могла закрыть дверь: та оказалась покрепче таганрогского негоцианта… Дело сложилось так. В 1905 году в России вспыхнула революция: поднялись заводы, шахты… Поднялся и рабочий Урал. И вот в одной из стычек с полицией погиб Наталкин брат, что работал на медном заводе. Не успели у Наталки высохнуть слезы, а с Дальнего Востока сразу две «похоронки». Осталась Наталка такой же круглой сиротой, как и Сашко. И вот тут–то и «причипився до нее» другой жених, матрос черноморского флота, уроженец казачьей станицы Гривенской, что на том, кубанском берегу Азовского моря. С этого матроса и пошли все несчастья…
6
Этот был не то что таганрогский грек. Добрейший с виду человек. В отличие от незадачливого сына Эллады, который был черен, как жук, он был «светлой масти», как хорошо отмоченный лен. Волосы у него пышные, золотые, усы плотные, лихие. А над правой бровью – казачий вихор, весь в кольцах! Нос русский, широкий, прочный. Подбородок крутой и «словно медный». Да и весь–то сам так и пышет, так и сверкает, «а глаза, как у ангела – такие стеснительные, невинные». Это он привез отцовский сундучок…
Сашко не видел, как он «влез в душу» Наталке: «мал хлопец был и ничего не понимал». И его этот «дядя» улестил не хуже Наталки разными играми да забавами. А силен был!.. Возьмет шестилетнего Сашка на левую ладонь и к потолку кидает, а правой подхватывает. Бывало, Наталка так мучилась, когда ей надо было лодку «осушить», то есть на берег вытянуть! Лодчонка старая, течет – законопатить надо да залить смолой. Позовет Наталка соседок, и вот с криками да приговорками еле вытянут. А дядька этот не то что лодку, а бочку с дождевой водой один подымал. С Сашком он подружился сразу: погладил своей пудовой теплой ладонью по голове, и Сашку стало хорошо! Известно, как вовремя нужна хлопчику мужская рука: ведь через нее вроде как бы сила передается.
Матери неверно думают, что отцы только и существуют для того, чтобы наводить строгость в доме. Нет! Отцы очень нужны, особенно когда хлопчики силенками наливаются. Матерям в это время горе да заботы: хлопчик то в штаны «набутит», то еще чего покрепче сделает – мать мой да стирай. А отец схватит дите на руки да к потолку подкинет либо ляжет, а сына на грудь определит и воркует с ним… Хлопчик радуется и с замирающим от счастья сердцем по отцу, как по жернову, ходит. Да. Но некому было так баловать Сашка. И вот тут–то вскоре и появился казак станицы Гривенской Кондрат Донсков. Наталка за то, что он обстоятельно рассказывал ей, какой геройской смертью погиб ее брат, и за то, что привез Данилин сундучок и справу, не знала, куда посадить, чем накормить и напоить: «Кондрат Григорьевич, скушайте рибки, выпейте горилки…» Почти не присаживалась в заботах о дюжем казаке, который то и дело подправлял свои пышные и густые усы да льняной чуб и все говорил, улыбаясь и сверкая белыми зубами: «Премного благодарствуем, Наталья Никифоровна».
Благодарил, но не отказывался – ел и пил вволю и все к Сашку подсаживался: забавлял мальчонку либо задумчиво гладил по головке, сироткой называл, вздыхал и мягко, баском гудел: вот, мол, был бы жив Данила, увидел бы, какой казак у него растет… Но Сашку не нравились эти речи. Сашко вовсе не хотел быть казаком: ему хотелось, как тятька, на флот, на моря!.. Кондрат же не сразу раскусил, чего хочет хлопчик.
Да разве сразу–то поймешь: «в кремне огня не видать!» Но, узнав, куда Сашко тянется, гривенский казак совсем завладел хлопчиком: он стал часами рассказывать ему про дальние моря и океаны, про пушки на корабле, которые выше колодезного журавля, про штормы и ураганы, про летающих рыб и морских свиней, про страшных акул и рыбу–меч, которая своим длинным и острым носом пробивает насквозь шлюпку…
Рассказывал Кондрат и про народы разные: одни с ног до головы ходят закутанные в ткани, другие, как малые дети, ходят без стыда вовсе голые – эти живут в диких странах.
А есть чудные дела и в образованных странах, таких, как Англия, где солдаты такие же, как и наши простые мужики, а ходят в юбках, сшитых из клетчатых кашемировых платков, какие носят у нас только старухи. В таком неформенном виде солдаты предстают даже перед ихним королем. У нас что сраму было бы с ними! А у них ничего.
Мичман сказывал, что эти, которые с голыми коленками, будто из горной, богатой скотом страны, потому скотландцами называются…
Много всяких диковин пересказал словоохотливый отцов приятель глупому, с восторгом его слушавшему Сашку, а сам нет–нет и стриганет своими рыжими веселыми глазами то по Наталкиному смуглому лицу, то по гибкому и стройному ее стану. Всего два дня гостил у них этот сильный, как черт, матрос и вот за это время и приворожил Наталку…
Не прошло и года после его отъезда в Севастополь (о чем Сашко очень тосковал) – Кондрат снова очутился у них в доме. Да не один, а с ним еще прибыли: здоровый, длинный, как верста, рыжий мужик со свалявшейся и жесткой, как проволока, бородой, с большим багровым носом, красноватыми глазами, с разорванным левым ухом, в суконной казачьей робе – отец Кондрата, – и с ним легонькая, черная, как галка, востроносая бабенка, несмотря на жару, закутанная в теплую шаль, – мать.
Отец Кондрата Донскова, с виду чистый лешак, как увидел Наталку, крякнул, сжал бороду в кулак, посмотрел на сына многозначительным взглядом, словно хотел сказать: «Ну и ловок ты, Кондрат, – отца обошел по женской части, отхватил такую красавицу, такую красавицу!..» И, словно боясь, что Наталка спалит его своим взглядом, пробормотал что–то невнятное, пошел осматривать хозяйство.
Мать Кондрата, от забот–хлопот худая, с цепким взглядом больших черных недобрых глаз старуха, тихой змеей вилась вокруг да около, все оглядывала да изучала: и рукой по божнице поведет – нет ли пыли, и на полы зычит – хорошо ли выскоблены, и рушник глазами прямо прожигает – чисто ли выстирано… Всему достается, ничто не ускользает от ее взгляда: и степенная, белая, с голубым отливом печь, и надраенный, как солнце, медный таз для варенья, и как будто вылизанные и отменно просушенные на солнце макитры, и даже аккуратненькие дерюги. Все, чем только располагала хата старого Ничипора, жившего хотя и не богато, но и не бедно – сыновья–то его были хлопцы трудолюбивые, послушные, трезвые и табаком не баловались, не только копейку, но и заполоскавшееся на Койке дубовое бревно, отставшее от плота, и щепочку, поднятую на шляху, тащили в дом, – все обсмотрела и ощупала будущая свекровь.
…Три дня прожил в хате у Наталки Кондрат со своими родителями, и за эти три дня обо всем и сговорились, нашлись сватья и свахи – все было совершено согласно обычаям церкви. Были слезы и смех, прощание с юностью, грустные, трогательные песни. Венчание было назначено на глубокую осень, в последний перед рождеством мясоед и по желанию родителей Кондрата и согласию сватов – в станице Гривенской…
7
Я никогда не бывал на реке Конке, на которой стоит Голая Пристань. Данилыч, рассказом которого я невольно увлекся, говоря о жизни в Голой Пристани, избежал многих подробностей, поэтому и мне нечего сказать об этом месте – благословенно ли оно богом или проклято чертом.
…Поздней осенью, когда с полей были свезены последние прибытки и когда о землю стукнулся крепкий морозец, так что она зазвенела, словно костяная, в Голую Пристань приехал, как и обещал, Кондрат Донсков. Он был не в морской, а в простой мужичьей справе и, кажется, еще больше порыжел и пополнел: насдобился на кубанских харчах.
Сашко, увидев вместо милого его сердцу моряка дюжего мужика, разочаровался в нем: и действительно, вроде это был тот славный «дядя Кондрат» и вроде не тот: он уже не просиживал часами с Сашком и не говорил ему о дальних странах, ураганах и голых арапах. Да и рука Кондрата тоже будто стала тяжелей, когда он на ходу гладил Сашка.
Другие дела и заботы появились у Кондрата Донскова: он все толковал с Наталкой да водил купцов, которые осматривали дом и несложное хозяйство, толковал о наследстве.
Тетка Наталка ходила какая–то странная: то песни пела, а то плакала. Особенно заливалась в отсутствие Кондрата, который все ездил, хлопотал, добивался разрешения на продажу дома. Но дело это оказалось не таким простым: Наталку надо было вводить в наследство, и Сашка тоже… Только по малолетству он еще не имел права вступать во владение наследством. Опекунами стали Наталка и Кондрат. В общем, долго крутилось это колесо, и пока оно крутилось, Кондрат метался туда и сюда, а Наталка то к себе подружек звала, то к ним ходила, и они, обнявшись, то «песни спивали, то слезы лили».
Иногда Наталка одна кручинилась – брала Сашка в лодку и выгребала на ту сторону реки, подальше от дому, и там пела печальные до слез песни. Иногда на нее находило – брала Сашка на руки, прижимала к груди и ну ласкать и целовать! Ой же, как хорошо было с ней Сашку! Но вот наступили опять жаркие дни, словно лето возвернулось. Хорошо было в доме: пахло яблоками и свежим хлебом, – и вдруг Кондрат объявил, что пора ехать: он все уладил. И в дом пожаловал новый хозяин.
На рассвете Наталка, Кондрат и Сашко погрузились на подводы, где нашли себе место и отцов чудо–сундучок, и самовар деда Ничипора, и кованый сундук, стоявший у Шматьков бог знает с каких времен, – словом, весь скарб, вплоть до чугунков, макитр, ухватов, таганов и сияющего, как солнце, таза для варки варенья, и даже ступа и косырь.
Разместились так: Кондрат и Наталка на первой подводе, а он, Сашко, на второй, которая шла вслед за первой. Дядя Петро, старый опытный возчик, посадил Сашка рядом с собой. Свистнул бич, лошади замотали головами, и пошли крутиться колеса, поднимая жирную приднепровскую пыль. Пошли мелькать версты, и только птицы в небе казались неподвижными да небо медленно ползло куда–то назад.
Кто–то сказал Сашку, что земля крутится, а на самом деле небо, ну там месяц да солнце крутились, и еще колеса бестарки, а земля не-е… земля оставалась землей. Когда еще был жив дед Ничипор, тоже говорили, что земля крутится, а ведь врали. Дед Ничипор доказал это всем простым способом, хотя и не был ученым человеком: дед воткнул с вечера палку в землю, сделал на одной стороне ее метку и при свидетелях сказал, что если палка к утру повернется в другую сторону меткой, – значит, правда есть на стороне ученых. И что же? Палка не повернулась в другую сторону…
Однако колеса бестарки крутились, лошади бежали бодрой рысцой, и дядя Петро мурлыкал под свист сусликов какую–то унылую древнюю песню, повторяя почти одни и те же слова… В Голой Пристани погрузились на пароход, который доставил их в Херсон. Там неизвестно зачем жили два дня. Потом сели на новый большущий пароход и пошли вниз по реке к морю.
На пароходе Сашку было куда веселей, чем в степи. Что степь? Она у него в глазах еще с того часа, когда впервые, отвалившись от материнской груди, сытый и довольный, он вдруг взглянул на нее: на колыхающиеся травы, на скачущий по их верхушкам бешеный ветер – и замер от восторга…
Слушая рассказ Данилыча, я живо представил себе и «ридный степ», и хату, стоящую на берегу реки, и сидящую на крылечке мать Сашка, и крохотного хлопчика на ее коленях, замершего от восторга при виде раскинувшейся перед ним безмерной красоты. Суча ножками, пуская пузыри, он что–то курлыкнул, повернул голову и увидел над степью такую синь неба, что его крохотное сердечко от восторга забилось еще быстрее. А когда он услышал клекот степных орлов и нежную песенку жаворонка, то так заерзал, что чуть не слетел с колен матери. Мать легонько шлепнула его и сказала: «Лежи ты!» Сашко с недоумением посмотрел на мать большими карими глазами.
«Ишь ты, обиделся, – сказала мать, – ну, гляди, как в небе птички купаются. А степ–то какой, а?!»
Конечно, Сашко не понимал ничего. Да и когда вырос, как–то быстро пригляделся к степи. Его тянуло к лиману и к неспокойным водам реки. Вот поэтому ему на море, где все было ново, показалось интереснее, чем в степи: как же, кругом говорят «Черное море», а оно вовсе не черное, а темно–голубое, а когда злится, зеленое какое–то… Около парохода крутились дельфины – их называли «морскими свиньями», а они вовсе не были похожи на свиней, – они такие же, как рыбы, что продавали рыбаки в Голой Пристани и в Херсоне, только без чешуи…
Из Ахтарей тоже ехали на двух кубанских бестарках. Опять крутились колеса, всхрапывали лошади, и возница пел свои грустные кубанские песни. Дорога в станицу Гривенскую, что привольно раскинулась среди кубанских плавней, недалеко от Кирпильского лимана, была не похожа на приднепровскую: лошади то и дело въезжали в густые заросли камыша или шлепали по воде. Над головой иногда свистели крыльями утки, а порой крутился стрепет. Высоко курлыкали журавли, летевшие куда–то в дальние страны…
…Долго добирались до Гривенской, и, может быть, лучше было вовсе не добираться до нее! Недаром Наталка плакала в Голой Пристани: уже на другой год после того, как была сыграна свадьба (а год пролетел незаметно), свекор, этот рыжий лешак, и черная, как галка, свекровка начали «характер сказывать». Что их толкнуло на это? Ведь они приняли Наталку очень сердечно, и первое время что свекор, что свекровь не знали, куда ее посадить и как угостить!
– Шо тут говорить? – сказал Данилыч. – Кулаки, Лексаныч, и в Америке кулаки. Как говорится: «Смола да вар – похожий товар», цена им везде одна… А, видишь ли ты, стало их бить сомнение: ту ли невестку они в доме держат? Во–первых, она всех мужиков в станице с ума свела, и бабы в каждой казачьей хате грозились ей хвост обрубить… Ну, да это еще не главная беда, нет! Не из–за этого они, сволочи, свели в могилу мою тетку–красавицу… Дело, видишь ли, в том, что Наталка прожила с мужем год и не стала чижолой… Ну, была не способна, что ли… Черт знает, отчего это бывает! Дохтора сами не знают – может, чего подняла, а может, какая женская неувязка у ей была – кто знает… Григорий–то Матвеевич наследников хотел: кому же добро–то оставлять? У Григория Матвеевича, кроме Кондрата, одни девки… Им, что ли? А добра–то у Донсковых было на миллион! Дом в два этажа, скот, птица, сад… Яблоков в саду – страсть, винограду – ужасть, а груши как золотые и ростом с кулак – дюшес и бергамот… Ну вот куды это все девать–то?
В старое время мужик дочерьми не обнадеживался, с ними одна морока: девка подросла – добро из дому унесла. Другое дело сыновья… «Толковый сын – правый глаз отца» – так говорилось в старину.
У Донсковых сначала семья–то была как есть в ажуре – кроме девок, был еще Флегонт… Был да сплыл… За убийство хорунжего его лишили казачьего звания и в Сибирь закатали… А Кондрат–то ведь был не родным сыном Григорию Матвеевичу, а племянником. Брат Григория Матвеевича, видишь ли, вышел из казачьего сословия, когда Кондрата и в помине не было. Потянуло его на железную дорогу. Но он вместо счастья на чугунке могилу нашел, когда Кондрату всего год был… Попал под поезд. А когда Кондрату стукнуло два года, от черной оспы мать померла. Остались двухлетний Кондрат с десятилетней сестренкой сиротами. Пришлось Григорию Матвеевичу взять их к себе. Сестра – настало время – замуж ушла, а Кондрат остался у Григория Матвеевича, которого почитал за отца и называл отцом, а привилегиев казачьих не имел и в войске не числился. Вот, между прочим, потому и попал он на флот.
– Вот в такую комбинацию и угодила тетка Наталка, – сказал, тяжело вздохнув, Данилыч. – Ни, ни, – возразил он, как бы отвечая на мой вопрос, – не обижал ее Кондрат, ни, зря клепать не буду… Поначалу у него не было к ней заносчивости, а свекровь, как я уже говорил, очень ее жалела, – к чижолой работе не допускала; шо до свекра, – тот, словно обожженный ее взглядом, всегда краснел при ней и говорил ей «вы», шо он позволял себе только перед их благородиями – казачьим начальством. Но когда им стало видно, что Наталка какая была тонкая, как былинка, такой и осталась, вот тут–то и пошли намеки да попреки… Наталка стала худеть и разом дурнеть.
Конечно, она понимала все. А как же? Чула, Лексаныч, все, да сделать ничего не могла над собой. Как–то она заикнулась Кондрату. «Давай, говорит, усыновим Сашка… Сиротка он, а мне – племянник, тебе – дитё друга по морской службе, а?!» Кондрат вроде как бы колебнулся. «Ладно, говорит, с батей обговорю, как батя скажет…»
– И вот, – продолжал Данилыч после того, как раскурил цигарку, – сижу я как–то возле Наталкиных коленей – волосы она расчесывала мне, – я ведь хлопчиком–то был страсть какой кудрявый, не то шо сичас: семь волос – и все густые… Да-а, сижу я, и тут входит Григорий Матвеевич – на морде зла, как снега зимой в поле. Рыжими зенками по мне как стрельнет, а голосом ласково, словно пышку в мед кунает: «Выдь, говорит, Лександра, в сад, мне надо с Натальей погуторить…»
Когда я проходил мимо него, он вроде как бы поласкать меня задумал, дал такой щелчок в затыльник, будто гвоздь вбил. Сволочь кулацкая! Рука у него, у сатаны, чугунная! Я не подал виду, шо мне больно, – мы тоже, Шматьки, не из глины деланы, – только пожалел в энтот момент, шо нету бати на свете или деда Ничипора, дали бы они этому рыжему сукачу, заимел бы он понятие, какие есть такие голопристанские!
А то он чуть чего: «Мы гривенские казаки…» Подумаешь, казак какой! Шо у него штаны с кантом, фуражка с кокардой, да в горнице на стенке карабин и шашка висят, да в стойле конь гладкий бьет копытом, да седло мягкое, как у чечни, на крюке висит? Ка–за–ак!.. Хануга и сволочь распроклятая – вот он кто! У него в амбарах добра на миллион. Иное гниет даже, а шобы дать бедному человеку, хоть своему же по званию казаку форменному, – ни–ни… А даст, так душу вымотает и сто раз выжмет должок… Чистый волк зимний…
– Да шо говорить тебе, Лексаныч, про этого изверга? – Данилыч махнул рукой и занялся цигаркой.
Покурив, он стал рассказывать о том, как болело у него сердце, пока старый Донсков гуторил с Наталкой. Сколько он ни пытался подкрасться и подслушать, о чем свекор говорит с Наталкой, ему все время мешали: то дверь скрипнет, то по двору кто–нибудь пройдет, то сама старая Донсчиха начнет птицу скликать, богатством своим любоваться… А на дворе, или, по–ихнему, на базу, такой галдеж стоит: утки, гуси, цесарки, индейки – будь они прокляты!
Сашко догадывался, что над теткой какая–то хмара виснет, вот–вот гром грянет, Сашко уж большой был: десятый шел хлопчику.
После разговора со свекром, в котором он укорял тетку, что она сбила жизнь Кондрату, Наталка стала горбиться, мерзнуть и нет–нет за бок схватится, словно заговорил ее проклятый кулак. Но как же она, бедная, старалась не оказывать своей слабости: что дома, что в поле на людях – огонь! Все в ее руках кипит. И не видела сама, что чахнет с каждым днем. Зато Григорий Матвеевич и три дочки – три чучелы гороховые, – как праздничные пышки с начинкой…
Скоро Наталка стала совсем плоха – через силу на ногах держалась. Вот тут и пошли Донсковы куражиться над ней.
Особенно сам рыжий дьявол… Осенью делов особых нет – с поля все прибрано, как со стола после еды, а он придумывать стал чего ни то. То белье пошлет полоскать в ерике, то камыш резать в плавнях. И все это на холоду, в мокроте… Шо только не делал, ирод проклятый, кулак собачий, казак чертячий! Зверь чистых кровей!.. Бывало, заставит Наталку лошадь ему в бричку запрячь – сядет, зыкнет на всех, лошадь кнутом вытянет, раза два повернется и все чего–то приказывает, пока не скроется с глаз… К закату вертался. Издали было слышно, что он едет, – лежит в тарантасе и поет. А голоса у него не было – орет, ровно осел. Подъедет, свесит ноги с тарантаса, красный, – значит, где–то до ушей вином налился.
«Натаха, возьми коня-а!»
В доме работники есть, да и Кондрат богом не обиженный, мог бы дорогого батяню вместе с конем на руках в конюшню отнесть, а нет, кураж–то свой надо показать – вот сноху и кличет…
– Ну и что же Наталья?
– А шо ей было делать?! Вставала с постели и шла распрягать коня…
Скоро она слегла окончательно. А вот ходить за ней некому было: на мне и гуси и табунок стригунков. Осень была холодная, ветер ледяной, а я босиком и по жнивью и по отмелям лимана: то гуси к чужим стадам прибиваются, то стригунки, задрав хвосты, носятся вокруг чужих маток… Сколько раз мамку родную поминал! И не знаю, как не простыл и не заболел?! Теперь–то ребята чуть чего – воспаление легкого или грипп… Ну вот, бегаю я это за птицей да стригунками, богатство Донсковых выхаживаю, а тетке некому водицы подать, прибрать за ней…
Сам–то, рыжий черт, рвано ухо, то в Ейск, то в Екатеринодар, то по приятелям своим носится. А свекровка богатство пасет: одно пересчитывает, другое сушит, третье вялит, четвертое солит… Дядя Кондрат от зари и до зари в поле с работниками. А тетка Наталка одна лежит, молчит, на долю свою не жалуется. Дочки Григория Матвеевича, телки племенные, палец о палец не ударят для тетки Наталки, а все около матери, как пчелы, гудят – она учит их, как добро стеречь и сундуки им набивать.
Я как только попаду домой по какому случаю – и сразу к тетке Наталке. За пазухой у меня всегда чего–нибудь заховано для нее: фрукта, огурчик… Летом она все кислого просила. Я доставал ей ежевички. Бывало, исколешься весь, а не больно – для тетки я хоть с горы сиганул бы! Очень она любила тую ежевичку…
А лежала она тихая, глаза только горят, прямо наскрозь прожигают, когда глянет в лицо, и щеки быдто закатное солнце, красные. Невозможно было, Лексаныч, без слез смотреть на нее. Мучилась она. Да и Кондрат тоже с поля придет и места себе не находит. Подойдет к тетке Наталке, спросит об ее здоровье, она через силу повеселеет, в глазах, как на маяке, огонь то вспыхнет, то погаснет, улыбнется. «Ничего, говорит, теперь лучше».
А какое там лучше! Болезнь глодала ее, как жадная собака кость. За лето совсем сухая, как сула сушеная, стала. И с каждым днем ей все хуже и хуже. И некому вроде подумать о том, шо дохтора ей надо, лекарства… Вижу, гаснет тетка, поймал я дядю Кондрата и говорю, шо тетка–то обманывает его, при нем улыбается, а со мной останется – по постели мечется, задыхается: дюже плохо ей, лежит совсем беспомощная. Кондрат со зла дал мне подзатыльник и пошел к самому, к Григорию Матвеевичу. Скоро поднялся такой шум, как если бы один из них стоял вот тут, где мы, а другой – на той стороне моря. Когда шум кончился, Кондрат выбежал из дому чисто бешеный, заложил жеребца в бричку – и айда со двора.
Уже темнеть стало, когда он возвернулся с фершалом, лысым старичком в очках. Фершал долго обстукивал тетку Наталку, за руку держал, пульс считал, – деревянную трубочку все прикладывал. А потом сказал ей: дескать, не горюйте, Наталья Никифоровна, скоро поправитесь и еще бегать начнете. А Кондрату другое: «Если, говорит, свезете к морю теплому и будете содержать в покое да про детей ни слова не поминать, может, и выживет. А ежели так все оставить, – помрет беспременно, и даже скоро».
– И что же, возили ее к морю?
– Как же, возили!.. Да Григорий Матвеевич желал, шоб Наталка скорее освободила ему руки. Он еще с тех пор, когда она на ногах держалась и лошадь ему запрягала, но станицам мотался: невесту для Кондрата приискивал…
– Ну и что же дальше–то было?
Данилыч махнул рукой, отвернулся, плечи его вспрыгнули, и он, не стесняясь меня, всхлипнул. Когда успокоился, сказал:
– На пятый день после фершала отошла… Кондрата дома не было, он, как хуже стало ей, за дохтором поехал… Мучилась она в свои последние часы страсть как!.. Всю ночь то мать, то деда Ничипора звала, то отца моего Данилу. И меня все требовала, хотя я рядом всю ночь с ней маялся… Я прильну к ней, плачу. Она слышит и говорит: «Не горюй, Сашко, мужчине плакать не пристало… Да и шо плакать! Я, – говорит, – все равно помру, чую, – говорит, – шо скоро. Внутри у меня огнем все горит… Да и на шо, – говорит, – я, кому нужна?.. Свекор радость жизни отшиб от меня… А Кондрат все в поле. И сичас нету его?» – «Нету, – сказал я, – за дохтором уехал». – «Ты, – говорит, – Сашко, скажи ему… – Она так и не сказала, шо надо было передать Кондрату, силы кончились у нее, она зашептала: – Ты, Сашко, когда схоронят меня, беги, – три раза сказала, – беги отсюда! А то и тебя…» – а дальше сказать не успела…
Да-а… Умерла. Успокоилась. А какая же она красавица даже мертвой была!
Когда она еще жила, я думал: отчего я не богатый?
– Что бы вы тогда сделали с богатством? – спросил я.
– Да нет, – сказал он. – Мне лично оно ни к чему… Не о себе думал я… Ну да шо там! Дурный был. Да нет, Лексаныч, не спрашивай… Ну, думал нарядить тетку Наталку как прынцессу и все предоставить, шо полагается для ее красоты… Понимаешь, о чем я говорю?
…Данилыч умолк и поглядел на море. Ветер с каждой секундой становится плотней, море шумело громче. Оно уже было серое, почти грязное: волны, высокие и злые, с ожесточением грызли берег. Чья–то одинокая шлюпчонка да рыболовный сейнер местного колхоза обреченно болтались метрах в ста от берега на якорях. Шлюпка вертелась, словно исполняла под свист ветра какой–то дикий танец, а сейнер хлопался кормой о воду, гудел весь и тяжело и тревожно раскачивался. Брызги летели от него во все стороны…
– Ну, будет этому сейнеру, – сказал Данилыч, – «тримунтан» себя показывает… Ну да… Ветер такой, – пояснил Данилыч. – У вас он, кажется, «северным» зовется, на Черном море его «нордом» или «борой» называют, а у нас «тримунтаном». А есть еще «левант» – это восточный ветер… Потом «майстра» – западный и «острая» – южный… Затем «горишняк», «сгонный» и «керчак»… Но всего страшнее «тримунтан»! Этот чисто бешеный… Горе тому, кто в море, – ох, и дасть же! Смотри, подчалок–то как мотает!.. А сейнер, слышь, будто стонет?! Не дай бог там сейчас быть! Кишки на голову намотает… Но долго ему не царствовать!
– Откуда вам известно?
– Нога у меня иной раз погоду сказывает, как баромет хороший, – ломота в ней такая, будто льду у том месте кто насыпал… Вот тут, около паха, где нога–то отсечена, а чувствуется, будто в ступне… Так вот, нынче ломоты не чуется, – значит, «тримунтан» озоровать долго не будет.
– Это хорошо, – сказал я. – Ну, а что же было потом, после смерти тетки Наталки?
– Шо было? – повторил мой вопрос Данилыч. – А вот шо… Когда Кондрат поутру вернулся с дохтором и увидел ее новопреставленной, белее снега стал… Потом как заорет – и бегом в горницу. Снял шашку со стены – и на отца. «Вы, – говорит, – загубили ее!..» Видно, человек в нем проснулся… И пошел крошить все кругом… Ну, думал я, все, теперь каюк всем!