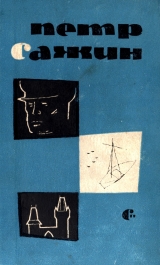
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц)
Annotation

В книгу Петра Сажина вошли две повести – «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».
Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев – человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.
В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо–восточный ветер – трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).
Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
Капитан Кирибеев
Трамонтана
ОТ АВТОРА
Сирень
Часть первая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Часть вторая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Часть третья
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень

М. «Советский писатель»
1963, 656 стр.
Редактор Г. А. Блистанова
Художник Э. Н. Рогов
Худож. редактор Д. С. Мухин
Техн. редактор Р. Я. Соколова
Корректор В. Н. Стаханова
*
Сдано в набор 19/III 1963 г. Подписано к
печати 5/VIII 1963 г. А-03313. Бумага
84×1081/32 Печ. л. 201/2 (33,62). Уч. – изд. л. 34,52.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 983
Цена 1 р. 14 к.
*
Издательство «Советский писатель»,
Москва 9 Б. Гнездниковский пер., 10
Типография № 1 Государственного
издательства литературы по строительству,
архитектуре и строительным материалам
г. Владимир

Капитан Кирибеев
Если парус остается без ветра, он становится обыкновенной тканью.
1
Экспресс Москва – Приморск опаздывал. Я был в отчаянии. Месяц тому назад директор Института океанографии, в котором я стажировался, предложил мне отправиться с профессором Вериго—Катковским, известным знатоком морских млекопитающих, на Тихоокеанскую китобойную флотилию. Но профессор внезапно заболел, и в назначенный день мы не уехали. Не выехали мы и в следующий срок, и я распростился с надеждой попасть в этот сезон на промысел, так как знал, что флотилия ушла в Берингово море. Но директор института неожиданно предложил мне выехать без профессора.
– Если застанете в Приморске «Анадырь», вы сможете нагнать флотилию у Камчатки, – сказал директор. – Но помните: ни часу промедления!
И вот в тот же день я выехал. Перед отъездом успел на часок забежать к профессору, затем кое–как сунул в чемоданы белье, кучу книг, фотоаппарат, набор инструментов – и на вокзал.
Восемь дней экспресс с грохотом несся на восток. На каждой станции я проверял расписание, сверял местное время с московским. Меня изводил сосед по купе, сахалинский объездчик – загорелый, бородатый и крепкий, как воронежский битюг:
– Чего ты волнуешься, паря? Успеешь, догонишь!.. Это в Москве – дело не дело – бегут все как чумовые. А тут спехом дела не сделаешь. Тайга! Окиян! Побежишь, упадешь, да и не встанешь…
Я просто возненавидел этого человека. Ему–то что, спешить некуда, с курорта возвращается.
На девятый день мы попали в страшный ливень, и я совсем потерял покой. В Приморске я выскочил из вагона, растолкал толпу китайцев–носильщиков, кинувшихся под дождем к пассажирам, и выбежал на площадь. Ни одного извозчика.
Не помню, как добрался под ливнем до Морзверпрома. Там мне вручили билет, но предупредили, что вряд ли я успею на пароход. Я помчался, не разбирая дороги, по лужам и потокам, несшимся к морю с сопок. Чемоданы стали вдвое тяжелее.
В проходной порта меня задержал вахтер.
– «Анадырь», – прохрипел я, отстраняя его.
– «Анадырь»?! Да он, никак, ушел! Беги скорей!.. У шестого пакгауза.
Я кинулся к шестому пакгаузу.
«Анадырь»!.. Океанский пароход, окутанный черным дымом, покачивался у стенки, и мне казалось, что он уже отходит: трап медленно поднимался вверх. Мне хотелось крикнуть… Но с борта меня заметили, и трап медленно пошел вниз.
И вот я плюхнулся на диван в каюте. Простор, тепло… Есть ли на свете большее счастье?.. Чемоданы не оттягивают рук; за шиворот не течет. Долой размокшие ботинки, долой набухший пиджак и прилипшую к телу рубашку!
Скорей под умывальник и в мягкую уютную постель, на прохладную простыню, под пушистое верблюжье одеяло, какими славились в то время международные вагоны и пассажирские корабли океанских линий!
Пароход мерно вздрагивал. Над головой слышались шаги вахтенных. Снизу, из–под палубы, доносился глуховатый гул машин. Я задремал. Вдруг с палубы донеслись шум, крики; почувствовав, что пароход остановился, я заставил себя подняться и выглянуть в иллюминатор.
Внизу, под бортом, болталась шлюпчонка вроде китайской сампаньки. В ней было двое. Один юлил веслом за кормой, другой, высокий, в черном блестящем плаще, сложив ладони рупором, переговаривался с кем–то из команды. Переговоры быстро закончились, и человек в плаще подхватил выброшенный с борта штормтрап и, словно обезьяна, поднялся на борт парохода. В лодку полетела выброска, гребец обвязал ею чемодан и отправил на борт. Пароход дал гудок, и снова под палубой каюты послышались уханья, всхлипы и вздохи машин.
Смотреть на Приморск мешал дождь; густой, мерзкий, он сек меня по лицу. Я захлопнул иллюминатор. Но дождь заливал и стекло. Я снова лег в постель.
Мне уже не спалось. Я стал думать о Москве, об институте, о профессоре, о своем будущем… Что ожидает меня впереди? Застану ли я китобойную флотилию в Петропавловске–на–Камчатке?..
Без стука открылась дверь, и в каюту ввалился высокий, широкоплечий мужчина, тот самый человек, который несколько минут тому назад поднялся на борт «Анадыря» из сампаньки. Он поставил багаж на пол, быстро, почти рывком, снял с себя плащ, небрежно насунул его на крюк, задев меня при этом мокрой полой по лицу. На крюк полетела и старая, с позеленевшей эмблемой фуражка. Человек сел на диван напротив меня, вытащил из кармана непромокаемый телесного цвета кисет на автоматическом замке, набил трубку табаком, но закуривать не стал. Он подошел к двери и нажал кнопку, над которой был изображен человечек с подносом. После этого он снова сел и задымил.
Явился официант.
– Коньяк и лимон! – сказал сосед.
– Больше ничего?
– Нет!
– Закусить не желаете? Свежая икорка.
– Нет.
– Сардины?
– Нет!
– Копченые кетовые брюшки?
– Нет! – с раздражением сказал он и так посмотрел на официанта, что тот поспешил удалиться.
Дверь за официантом закрылась, сосед вздохнул, закинул ногу на ногу, забарабанил пальцами по столику. Я почувствовал к нему неприязнь и вместе с тем любопытство. Расположился так, будто меня и нет здесь, даже «здравствуйте» не сказал, ведет себя нагловато и самоуверенно. Да и на корабле появился не как все пассажиры. Я делал вид, будто тоже не обращаю на него внимания, хотя невольно пристально его разглядывал. Все в нем было неординарным! Большой высокий и шишковатый лоб, тонкий с горбинкой нос, крупные серые выразительные глаза, властный рот и словно выточенный подбородок. Чувствовалось, что он силен и ловок, а характером, должно быть, крутой; такого, как говорят, в оглобли не введешь!
Официант долго не возвращался. Сосед не выказывал никаких признаков нетерпения. Он сидел в той же позе, чуть склонив голову, сжав трубку в огромном жилистом кулаке.
Над головой по–прежнему слышались шаги вахтенных. Прозвучали склянки, стало темнеть. Я незаметно уснул. Проснулся от сильного толчка. В каюте горел электрический свет. С трудом приоткрыв глаза, я приподнялся. Сосед сидел на том же месте. Перед ним стояли бутылка с коньяком и стакан. На тарелочке – пол–лимона, почерневший нож. В розетке – колотый сахар.
Сильно качало, в борт хлестала большая волна. Очевидно, мы уже вышли в океан. Я достал из–под подушки часы, они показывали четыре. Я приложил часы к уху: маятник тонко–тонко отстукивал время. Сколько же я спал? Стало быть, около девяти часов!
А мой сосед? Неужели он так и просидел всю ночь?
В каюте было накурено. Запах лимона мешался с запахом никотина. Опершись подбородком на руку, сосед тупо смотрел в одну точку. В трубке шипело, потрескивало. Сосед машинально зажег спичку, раскуривая и без того дымившую трубку, затянулся, закашлялся, налил в стакан до половины коньяку и залпом выпил.
Глаза его были красные, мутные, лицо бледное, землистое. Послал же мне бог попутчика!
Долго я мучился, пока не уснул снова. Проснулся, когда уже рассвело. Соседа моего на диване не было. Исчезли бутылка и стакан. Пароход сильно качало. В иллюминаторе то и дело возникали высокие пенистые горы. Я встал и открыл иллюминатор. В каюте сразу посвежело.
Спутник мой спал: на верхней койке. Лицо его казалось спокойным, только ресницы вздрагивали порой да в уголках рта то появлялась, то пропадала горькая складка. На лбу и подбородке выступили капельки пота. Лежал он голый, наполовину сбросив с себя одеяло. На груди какой–то мастер–татуировщик оставил память о себе – чайку над бурным морем. Чайка и море выглядели как живые. Сосед дышал так, что казалось, будто в его легких, как в вантах корабля, гудит ветер. Ветер бил чайке в крылья, она упорно боролась с ним, а море вздымалось, перекатывая огромные горы воды.
Татуировщик, очевидно, хорошо знал анатомию.
Засмотревшись, я не услышал, как в борт ударила волна. Меня облило с головы до ног. Попало и соседу, но он даже не шевельнулся. Я быстро закрыл иллюминатор. Вторая волна яростно ударила в толстое стекло, Очевидно, капитан переменил курс корабля.
Я переоделся и вышел на палубу. Холодный, порывистый ветер свирепо трепал парусину на спасательных шлюпках. Беспокойные тучи бежали на юг.
На палубе было пустынно. Вахтенный матрос жался к дымовой трубе. От его одежды валил пар.
– Скажите, когда мы будем в Петропавловске–на–Камчатке? – спросил я матроса.
– Своевременно или несколько позже, – насмешливо ответил он.
Ветер пробрал меня до косточек, я поспешил в каюту. Сосед мой все еще спал.
Он встал лишь под вечер, молча оделся и ушел куда–то. Возвратился поздно, снова сел на то же место на диване и долго сидел так с трубкой в зубах. Потом, как и вчера, позвал официанта и потребовал:
– Коньяк и лимон!
За трое суток он не произнес ничего, кроме этих слов, выпил шесть бутылок коньяку, съел три лимона и выкурил несчетное количество трубок.
На четвертый день улеглись волны. Пассажиры высыпали на палубу. Вышел и мой спутник. Утро было чистое, ясное. Медленно вставало из–за далеких островов Японии солнце. Еле приметно обозначились берега Курил. С Охотского моря тянуло холодом. Сосед мой, заросший, угрюмый, стоял у борта и сосредоточенно смотрел на север, что–то настойчиво там отыскивая.
2
На седьмой день весь белый от морской соли «Анадырь» подходил к Авачинской бухте. После сильной трепки, которую задал нам шторм у Курильских островов, пароход шел ходко, подминая под себя волну. Было приятно ощущать, как содрогается корпус корабля, и видеть, как стелется за кормой широкий хвост пены. Великая сила и мощь чувствовались в его движении. А вчера? Вчера этот огромный океанский корабль подбрасывало на волне как щепку. Мощные машины работали вхолостую, пароход, как говорят моряки, «не выгребал». Несколько часов «Анадырь» совсем не имел хода. Только благодаря искусству капитана и команды нас не выбросило на один из островов. Волны достигали пятнадцатиметровой высоты. Собственно, это были скорее горы, но горы не простые, а живые и разъяренные. Они кидались на пароход и пролетали по палубе, смывая все, что плохо лежало.
Каждый раз, когда пароход ложился на волну, я думал, что наступает конец, что у «Анадыря» не найдется сил подняться. Но проходила минута–другая, и он со скрипом тяжело поднимался, чтобы вскоре снова завалиться на борт.
Ветер свистел в вантах, гнул мачты и так хлопал парусиной, что порой казалось – стреляют из ружей.
Анемометр по Бофортовой шкале показывал двенадцать баллов!
Теперь все это осталось позади. Лаг отсчитывал последние мили. Впереди камчатская земля, снежные вершины Авачинской и Корякской сопок уже виднелись на фоне синего неба.
Пассажиры весь рейс не казали носа из кают; а сейчас, мешая матросам вести приборку, толпились то у одного, то у другого борта и переговаривались.
Что готовит им Камчатка? Одних ждут друзья, родные, других… Другим этот далекий берег чужой, и что им придется здесь испытать – пока неведомо. А что ожидает меня?
Берингово море показалось мне пустынным и почти мертвым. Холодные волны вели монотонный разговор. Хмурое солнце лениво, словно позевывая, выползало из мягкой постели хорошо взбитых и на диво белых облаков. Но как же быстро все меняется здесь! Только что небо было чисто, и вот с юга навалились тяжелой темной лавиной тучи. Только что мы были одни в море, но вот появились первые вестники Камчатки – птицы. Они кружились над мачтами, галдели за кормой, пытались идти сбоку, словно наперегонки, падали камнем к воде вслед за отбросами, которые «списывал» за борт шустрый поваренок «Анадыря».
Вслед за птицами на горизонте показались косатки. Они шли нам наперерез.
Когда стадо пересекало курс «Анадыря», косатка, шедшая во главе, с полного хода вымахнула из воды и, изогнувшись как бумеранг, ловко вбросилась – не упала, а именно вбросилась – в воду. Она стремительно, с каким–то непередаваемым изяществом пробила толщу воды и, не теряя темпа, пошла со скоростью пассажирского поезда в сторону от парохода. За ней стремительно ринулось все стадо.
Глядя вслед хищникам, я невольно воскликнул про себя: «Вот тебе, Воронцов, и пустынное, мертвое море! Сколько еще сюрпризов оно готовит тебе, книжный человек!»
Книжный человек! Уже не впервые я упрекаю себя за это. Но что поделаешь?.. Я люблю книги. Люблю до самозабвения, особенно книги о путешествиях. Причем если большинство людей читает книги быстро, «глотает» их, увлекаясь повествованием, то для меня это всегда работа. Я настолько вживаюсь в материал книги, что будто сам продираюсь сквозь заросли джунглей, плыву по штормовому морю, взбираюсь на неприступные скалы, сражаюсь с тиграми, спасаюсь от гигантских муравьев.
Книгами набиты мои чемоданы и сейчас. Тут и «Описание земли Камчатской» адъюнкта Петербургской академии Ст. Крашенинникова, и записки знаменитых мореходов… А сколько прочел я о Камчатке, Чукотке, Беринговом и Охотском морях перед отъездом из Москвы!
С каждым часом все ближе и ближе Камчатка. Высокие гряды сопок вставали из–за моря как вестники близкого конца довольно утомительного путешествия.
Стоя у борта «Анадыря», я искал то место, откуда казачий сотник Владимир Атласов, которого Пушкин назвал камчатским Ермаком, двести с лишним лет тому назад увидел Курилы. Но ничего, кроме зубчатой линии холмов, я не обнаружил.
Через три часа «Анадырь» подходил к горлу Авачинской губы. Я долго искал среди скал и утесов мыс Опасный, затем мыс Поворотный… Не сразу заметил и Трех братьев – высокие скалы, о которых упоминают почти все путешественники.
Крутые, обрывистые берега, каменистые сбросы, расщелины, поросшие карликовыми лесами, тучи птиц, глубокие воды… Я то и дело озирался по сторонам. Воображение рисовало романтические картины прошлого… Здесь, в этих глубоких бухтах, бросали якоря суда Великой северной экспедиции Витуса Беринга и Евгения Чирикова; корабли прославленных мореплавателей – Литке, Головнина, Крузенштерна, Невельского, Макарова, основателя Русской Америки Шелихова… Мне виделись паруса, убогие деревянные суда с медными пушчонками, люди с красными от солнца и ветров лицами…
Я настолько увлекся, что не сразу заметил, как «Анадырь» миновал сопки, прикрывающие вход в ковш Петропавловского порта. Я бросался от одного борта к другому, стараясь разыскать глазами среди множества судов китоматку «Аян». Пассажиры мешали мне: они кричали, смеялись, махали руками – на берегу уже собралась большая толпа встречающих.
Я чуть не вскрикнул от радости, когда наконец в правом углу бухты заметил небольшой кораблик с высоко поднятым носом. Это был китобоец «Тайфун» – один из трех промысловых судов флотилии «Аян»! Схватив чемоданы, я поспешил на берег.
После зыбкой палубы приятно ощущать под ногами землю. День стоял тихий, солнечный, воздух был прозрачен. Далеко за холмами, на склонах которых лепились домики Петропавловска, возвышалась высочайшая сопка Камчатки – Авача. Снега на ней сверкали ослепительно. К сожалению, я не мог остановиться и как следует оглядеться – до «Тайфуна» было далеко.
Дорога от пристани к китобойцу была как бы последним мостом, перекинутым от старых волнений к новым. Все, чем я жил прошедшие три недели: беготня перед отъездом из Москвы, тревога за здоровье профессора Вериго—Катковского, волнения по поводу опоздания экспресса, путешествие под дождем в Приморске, плавание на «Анадыре» и, наконец, шторм у Курил, – все это было уже позади и в счет не шло, и не потому, что было уже пережито, а потому, что все это лишь какие–то незначительные этапы в моей новой жизни… Главное и, по–видимому, самое сложное – впереди.
Меня очень беспокоило, как отнесутся к моему приезду китобои: они ждали не меня (я для них человек неизвестный), а профессора Вериго—Катковского. Профессор слыл среди китобоев своим человеком. Его уважали, с ним считались, к нему прислушивались. Он был с китобоями в первом походе, затем плавал несколько лет кряду. Его статьи о китобойном промысле печатались в научных журналах, в ученых трудах Московского университета, в «Известиях Академии наук»… А я только одной ногой ступил на крутую тропу науки.
«Тайфун» лениво покачивался на волне, разведенной портовыми катерами. На палубе у сходни стоял невысокий плотный матрос. Камчатская весна еще не успела набрать силу, в воздухе ощущался холодок, а матрос словно не чувствовал этого: он стоял без шапки, в рубахе с закатанными до локтей рукавами. Легкий ветерок трепал его рыжие кудри. Заметив меня, матрос приветливо улыбнулся.
– К нам? – спросил он.
– Нет, – сказал я. – На «Аян». Где китобаза?
– «Аян» уже ушел – он в бухте Моржовой. Давайте сюда!..
Очутившись на палубе, я с облегчением вздохнул: «Наконец–то на флотилии!»
Корабль произвел на меня отличное впечатление. Гибкие, как бы устремленные вперед обводы, слегка опущенная корма и приподнятый нос, мощная, скошенная к корме труба, открытый всем ветрам ходовой мостик, марсовая бочка на фок–мачте, гарпунная пушка на носу, натянутый, как струна, переходной мостик – все создавало впечатление, что корабль хотя и небольшой, но, видно, ходкий и маневренный. Он не был похож ни на рыболовный траулер, ни на сейнер, на которых я плавал в Баренцевом море…
Отдышавшись, я сказал вахтенному матросу, что мне нужно видеть капитана. Матрос ответил, что капитана нет. Он должен прибыть на «Анадыре», и если я пришел с этим пароходом, то, вероятно, видел там Степана Петровича Кирибеева.
Я подтвердил, что действительно прибыл на «Анадыре», но никакого Кирибеева не видел.
– Значит, вы отлеживались в каюте, – сердито сказал матрос. – Не такой Степан Петрович человек, чтобы его не заметить. Идемте!
Матрос подхватил мой чемодан и куда–то меня повел.
Не успели мы сделать и двух шагов, как на палубе появился кок – полный мужчина в белом колпаке и довольно грязном фартуке. Он прижимал левой рукой к рыхлому животу судок, а правой что–то взбивал в нем; пахло ванилью и корицей. Бесцеремонно разглядывая меня, он спросил матроса:
– Жилин! Ну что?
– Что «что»? – с досадой отозвался матрос.
– Ничего «что», – ответил кок, надув щеки. – Я говорю: капитан где? Может быть, я зря ишачу?
– Ишачь, тебе полезно, – сказал Жилин.
Кок подмигнул мне, словно хотел сказать: «Что поделаешь с этим грубияном!» – и бочком просунулся в дверь камбуза.
Матрос откинул носком сапога кусок ветоши с палубы, ворча:
– Зарос наш «Тайфунчик» по уши. Уж Степан Петрович не допустил бы…
Жилин привел меня в крохотную кают–компанию и сказал, что сейчас позовет штурмана Небылицына, который пока исполняет обязанности капитана «Тайфуна».
Несколько минут я провел в одиночестве, разглядывая висевшие на стенах картины; на них были изображены различные моменты охоты на китов. Наконец в кают–компанию вошел высокий худой человек с золотыми нашивками на кителе. Он снял морскую фуражку, оправил гладкие, расчесанные на пробор черные с синеватым отливом волосы, оглядел меня, затем вынул из кармана серебряный портсигар с литой фигурой русалки на крышке, не спеша раскрыл, достал сигаретку, захлопнул, двумя пальцами вытащил из карманчика серебряную зажигалку, закурил и наконец представился:
– Старший помощник капитана Небылицын… По существу капитан, поскольку официально капитана до сих пор нет. Вам не посчастливилось познакомиться на «Анадыре» с товарищем Кирибеевым? – Небылицын, не дожидаясь моего ответа, добавил: – Двое суток болтаемся без толку в ожидании товарища Кирибеева… По его милости три года «Тайфун» вообще без начальства. Шесть капитанов – и все временные. А по сути все три года за всех отдувается ваш покорный слуга… Вы первый раз в море? – спросил он неожиданно.
Я ответил, что не впервые.
– Морской болезни не подвержены?
Я пожал плечами.
– Привыкните, – сказал он, сбрасывая пальцами пепел.
Разговор не вязался; мне хотелось, чтобы кто–нибудь вошел и освободил нас от ложно понимаемой вежливости – поддерживать ненужную болтовню. С берега донесся шум, а вскоре раздался топот ног на сходне, перекинутой с китобойца на пристань, и загремел чей–то густой бас:
– Хорошо, молодцы! Спасибо, что не забыли…
– Кажется, прибыл! – Небылицын вскочил со стула, быстро смял в пепельнице сигарету и вышел на палубу.
Вскоре и я увидел капитана: в кают–компанию, подгибаясь под дверной бимс, вошел… мой сосед по «Анадырю». Да, это был он! Именно с ним я провел семь суток в одной каюте.
– Ну вот я и дома! – сказал он и с этими словами снял новенькую фуражку с большим лаковым козырьком и тяжелой золотой эмблемой и бросил ее на стойку буфета. – Входите, товарищи!
В кают–компанию вошли несколько человек. Капитан Кирибеев по очереди стал здороваться со всеми.
Когда очередь дошла до меня, капитан Кирибеев как ни в чем не бывало посмотрел мне в лицо, назвал себя и, как будто видя меня впервые, протянул руку. Я подал ему свою. Он крепко сжал ее. Наши глаза встретились. Его зрачки чуть–чуть расширились, и, как мне показалось, в них блеснула усмешка. Губы шевельнулись, словно он хотел что–то сказать, но раздумал.
Он заговорил с механиком – рослым, сутулым человеком с покатыми плечами, седой головой и на диво черными, похожими на маслины глазами. Кирибеев подробно расспросил его о машине, затем присел к столу, вытащил из кармана знакомый мне непромокаемый кисет и коротенькую трубочку.
– Так, – сказал он, – прошу быть в полной готовности. – Он посмотрел на часы и объявил: – В полночь выходим в море.
Механик первым взял свою фуражку. За ним последовали остальные. Набивая трубку, капитан Кирибеев спросил, не глядя на меня:
– Значит, Вериго—Катковский не приехал?
Я объяснил, что случилось с профессором.
– Жаль! Очень жаль! – сказал Кирибеев. – Как же он нужен здесь теперь!.. Большое дело мы задумали… Жаль!.. А вы вместо него?.. Кстати, профессор…
– Я не профессор, – сказал я.
– Э, не все ли равно… Будете когда–нибудь.
Я ждал, что он скажет дальше, но капитан словно забыл обо мне.
Я с удивлением смотрел на него. Сейчас передо мной был совсем другой человек: чисто, до глянца выбритый, бодрый, свежий, стройный и красивый настоящей мужской красотой. На его лице не было и следа усталости. Темно–синий форменный костюм с двумя рядами блестящих пуговиц и с золотыми шевронами на рукавах сидел на нем превосходно.
Выколотив трубку, он встал из–за стола и сказал:
– Ваша каюта рядом с гарпунером. Располагайтесь, отдыхайте!
И вышел на палубу.
3
Капитан Кирибеев объявил аврал. Он любил не только порядок, но и блеск на корабле, а «Тайфун» за время хозяйничания штурмана Небылицына был сильно запущен.
Всюду – на палубе, у гарпунной пушки, у лебедок под переходным мостиком – действовали китобои. На всех были высокие промысловые сапоги, похожие на ботфорты. Лица у китобоев коричневые, словно выдубленные; весной на Камчатке солнце так светит, что люди быстро загорают, как индейцы.
В аврале участвовали все, Кирибеев вытащил из каюты и старшего механика Порядина, смуглого седого великана, и направил его в машину. Заметив Небылицына, капитан остановил его грозным басом:
– А вы, штурман? Вас аврал не касается?
Я не слышал, что сказал Небылицын капитану, очевидно, не очень приятное, потому что в ответ загремел гневный голос Кирибеева:
– Штурман Небылицын! Когда вы будете капитаном, а я вашим помощником, тогда будете учить меня… Идите! Займитесь навигационными приборами, да не копайтесь!.. После аврала прикажите дать пар в баню – всем на корабле помыться! С восьми часов объявить морские вахты! В полночь сниматься с якоря!..
Только мне не нашлось дела. Я стоял на мостике и наблюдал, как преображается «Тайфун».
Кирибеев переходил от матроса к матросу. У одного брал щетку и показывал, как ловчее действовать ею; другого учил драить медяшку до зеркального блеска; третьему объяснял, как ухаживать за механизмами лебедки; боцману внушал, что новичков надо натаскивать на стоянке – в море будет некогда. Чувствовалось, что он соскучился но корабельному труду, по морской жизни. Фланелевая рубаха на нем была расстегнута, обнажилась широкая грудь, и чайка на груди ожила, волны под ней словно кипели.
Поднявшись на мостик, Кирибеев сказал мне:
– Ну вот. Утром доставим вас на «Аян».
У меня непроизвольно вырвалось:
– А с вами нельзя мне поплавать?
Две недели я стремился попасть на «Аян», ждал встречи с ним за каждой волной; я никогда не видел его, но ясно представлял себе масштабы этого океанского плавучего завода. А вот сейчас мне вдруг захотелось остаться на маленьком «Тайфуне». И Кирибеев, очевидно, это оценил.
– Добрό, – сказал он, помолчав. – Советую отдохнуть. В полночь снимаемся с якоря.
Я поблагодарил его, но остался на мостике, наблюдая, как солнце тяжело и медленно погружалось в море, а в домиках Петропавловска, на склонах Никольской и Петровской сопок, вспыхивали огоньки.
Я еще не мог привыкнуть к разнице во времени. Здесь было восемь часов вечера, а в Москве только час дня. Как же ложиться спать в час дня?.. Ведь в Москве я ложился не раньше чем в час ночи. Нелегко приспособиться к новому образу жизни. Но нужно приспосабливаться: на море – не на суше, да еще на таком далеком море…
Хорошо, что я попал на «Тайфун», профессор похвалил бы меня за такое начало. Однако с чего мне начать свою деятельность на китобойце?
Перед отъездом из Москвы профессор Вериго—Катковский, несмотря на запрещение врачей заниматься делами, целый час наставлял менял. Милый профессор!
Как же ему хотелось, чтобы я был достойным учеником его!
Он напутствовал меня со щедростью заботливой матери, старающейся сунуть в до отказа набитый дорожный мешок лишний кусок пирога. Он приводил в пример научные подвиги Ломоносова, Менделеева, адмирала Макарова… Он исходил, разумеется, из лучших намерений.
Но что он мог сделать в течение одной беседы? Разве мог он наделить меня опытом в том сложном деле, которому я посвятил себя?.. Опыт… На «текущем счету» моей жизни много ошибок и разочарований и еще совсем мало опыта. Я не раз слышал от старших, что опыт – не книжная мудрость, его не вычитаешь из книг, он добывается, как жемчуг, как алмазы, в труде, в поту!
Рассказывая мне о жизни моря, профессор увлекся, по скоро вспомнил, что я не студент, а он не в аудитории, и перешел к практическим советам. Это было как раз то, что я больше всего хотел услышать от него.
Особое внимание профессор просил меня уделить изучению проблем питания и миграции (передвижения) китовых стад. Он считал, что питание китов и их миграция взаимосвязаны. К сожалению, в науке о жизни моря единой точки зрения на питание китов не существует. Одни ученые считают, что усатые киты питаются только зоопланктоном, то есть рачком–эувфазией, а попадающаяся в их желудках рыба заглатывается случайно, в тот момент, когда кит, зачерпывая рачков, раскрывает свою огромную, как шестивесельный ял, пасть. Этой точки зрения придерживается и профессор. По мнению же его оппонентов, усатые киты питаются не только эувфазидами, но и рыбой – мойвой, навагой, песчанкой и сельдью. Профессор хотел иметь как можно больше фактов.
– Следите за морем, каждый свободный час берите пробы планктона. Исследуйте желудки китов. Не упускайте ни одного благоприятного случая – наблюдайте, исследуйте, дерзайте, и вы в конце концов победите!
Я внимательно слушал его. Я понимал, что вопрос о питании и миграции китовых стад действительно имел огромное значение. Хорошо изучить этот вопрос – значит установить закономерности в передвижении китовых стад. А если бы нам удалось выяснить эти закономерности, то китобоям нетрудно было бы правильно организовать промысел:
У профессора была еще одна заветная мечта: установить возраст китов. Решив эту проблему, можно было бы определить, какое нужно время для восполнения мирового стада китов, которое за последние два столетия заметно поредело.
В решении этой проблемы тоже много путаницы. Одни ученые считают, что киты живут лет двадцать – тридцать, другие авторитетно, но совершенно бездоказательно говорят, что киты достигают сто– и даже четырехсотлетнего возраста. Исследованию этого вопроса много энергии отдали Эндрюс, Кюкенталь, Мекинтош, Лаури и Уиллер. Они пытались определить возраст китов по желтым телам яичников китовых самок, но не приблизились к разгадке тайны ни на миллиметр: желтые тела показывают количество рождений – и только.
Как правильно подойти к этому вопросу? Вериго—Катковский пытался разными путями установить, когда прекращается рост китов, но успеха не имел. Если бы это ему удалось, то, следуя указаниям Аристотеля и Бюффона, можно было бы определить, хотя и не совсем точно, и возраст китов. Аристотель считал, что чем дольше животный организм растет, тем продолжительнее его жизнь. Бюффон, опираясь на мнение Аристотеля, вывел формулу, согласно которой продолжительность жизни животного в пять – семь раз превышает период его роста.






