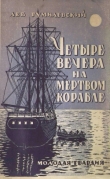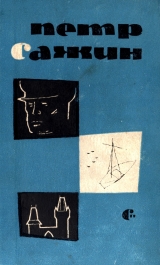
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
– Иди сюда, детка!
Либуше вошла. Отец, не поднимая головы с подушки, почти шепотом быстро проговорил:
– Пусть родится ребенок… И пусть растет без отца…
Глава десятая
Москву в первый день не удалось увидеть: загнали куда–то к черту на кулички – на станцию Л., в казармы. Сначала ничего нельзя было понять – толкались, как на вокзале. Но Гаврилов не волновался – он по опыту знал, что в кажущейся неторопливости армейской жизни заложен железный порядок. И действительно, спустя некоторое время все стало на свое место. А на следующий день после сна на жесткой, пахнувшей дезинфекцией койке Гаврилов, позвонив сначала в кадры Танкового управления, затем в Санитарное управление, получил указание приехать в Москву.
Электричка доставила его до Москвы, метро – до Арбата. В бюро пропусков пришлось долго ждать – в маленьком помещении было полно офицеров. Потом коридоры и кабинеты министерства, разговоры. Лишь к концу дня он освободился.
На Гоголевском бульваре Гаврилов кинул письмо в почтовый ящик. Это третье с момента расставания: первое он опустил в берлинский почтовый ящик, второе – в минский… А скоро ли он получит письмо от Либуше?
Он пошел к Ленинской библиотеке, чтобы на метро поехать к Ярославскому вокзалу, взять из камеры хранения чемодан и – на Беговую, где живет мать. Мама! Как она там? Больше месяца от нее не было писем.
Бедняжка! Вся ее жизнь – одни тревоги да ожидания!
Отец Гаврилова – казак, служил в совхозе «Отрадное», на севере донских степей. В совхозе воспитывались для Красной Армии подседельные кони. В табунах ходили приземистые башкирские аргамаки, туркменские тонконогие скакуны и рыжие, с подзолотцей, коренные дончаки – кони стройные и сильные. Содержалось в совхозе и несколько резвых, статных красавцев – коней орловской породы.
Лошади, кроме орловских аристократов, ходили в степях табунами.
Летом Гаврилов с отцом целыми днями пропадал у табунщиков. Мальчик научился скакать, удерживаясь под животом, делать стойки на седле во время бешеного галопа, умел, как настоящий всадник, дремать в седле.
Когда ему исполнилось четырнадцать, семья переехала из донских степей в Рузский район Московской области.
Никто не был так рад переезду, как мать: здесь не было проклятых скакунов! На подмосковном конном заводе лошади, слава богу, не подседельные, а ездовые – для обозов и артиллерии, тяжелые и смирные, как волы. На их широких крупах можно было сербияночку танцевать.
И отец и сын сначала очень тосковали по донским степям и по скакунам. Правда, Гаврилов–младший скоро утешился – он ходил с ребятами в ночное и в то же время настойчиво тренировался.
Мать, обрадовавшаяся было, что жизнь ее потечет наконец без тревог, скоро снова потеряла покой
Выдумки Василька не имели границ. Он то свешивался с высоких сучьев мачтовых сосен вниз головой: это упражнение называлось – «сон летучей мыши», то по дну переходил реку с тростинкой во рту – для дыхания. Были еще и занятия, в которых проверялась воля, – два часа без рубашки у комариного болота.
В школу Гаврилов таскал гантели. Он носил их в портфеле, чтобы «мышцы зря не висели, как мясо на крючьях в лавке», держал их под нагрузкой.
Не бросил он тренироваться и тогда, когда отца перевели в Москву, на ипподром, – стал ходить в школу бокса. Домой возвращался то с «фонарем» под глазом, а то и с рассеченной бровью. Но был доволен и не замечал, что для матери его занятия – лишняя морщина на лице.
Дорогая мамочка! Сколько же он доставлял ей огорчений! Заждалась, наверно, сына.
…Перед спуском на Моховую открылся Каменный мост, вид на Замоскворечье и северную часть Кремля с Боровицкой и Водовзводной башнями. Отсюда в ясную погоду открывается вид, в котором старое и новое удивительно легко сплетаются в одну неповторимую картину. Сколько ни смотришь, всякий раз она вызывает волнение в сердце. Шатры кремлевских башен и замоскворецких церквей, строгая решетка Александровского сада, классические зубцы кремлевской стены, стремительный «прыжок» Каменного моста, река в гранитной постели – до чего прекрасна Москва! И она будет еще прекраснее!
Кончатся походы, сражения, вернутся к мирным делам солдаты и снова будут строить столицу. Гаврилов, конечно, возвратится в свой трест по разборке и передвижке зданий. Вот он, там, за Каменным мостом, на Болоте. Придет в трест и скажет: «Товарищи, я техником больше не хочу работать, пошлите меня на кран или бульдозер! Хочу работать и учиться на вечернем отделении архитектурного института».
За спиной – смех. Гаврилов оглянулся – толпа девушек выходила из Ленинской библиотеки. Студенты! Молодежь! Он тоже будет учиться. Он тоже еще не старый. Скорее бы демобилизоваться. А как мало среди студентов парней. Вот что война–то наделала!
Уже десять минут Гаврилов топчется на площадке у двери, звонит, но никто не открывает. Проходит еще пять минут, а результат все тот же. Гаврилов спускается на первый этаж. Здесь повезло – сразу же после звонка послышалось шарканье ног, и вскоре загремела накладная цепочка. Между дверями образовалась щелочка, в которой показался крохотный круглый беспокойный глаз. Он проворно обежал Гаврилова с головы до ног, затем остановился на уровне гавриловского лица.
– Вам кого? – раздался продымленный бас.
Гаврилов сказал, что вот уже минут пятнадцать он звонит в третью квартиру, а ему никто не открывает.
– И не откроют!
– Почему?
Потому что Евграфа Ивановича нет, он в Йпонии, на розыгрыше «Дерби»…
– Какой Евграф Иванович?
– Лясовицкий. Наездник.
– А при чем тут Лясовицкий?
– А при том, что это его квартира.
– Как его? Там же мать моя живет! Это же квартира моего покойного отца.
– Вы Гаврилов? Боже!
Дверь раскрылась, и перед Гавриловым появилась оплывшая, постаревшая кассирша бегов Алевтина Петровна Смирницкая.
– Га–алубчик! Какой же большой стал! Не узнать! Боже, а статен–то!
– Скажите, – робко перебил ее Гаврилов, – а где же моя мама?
– Екатерина Никитична? Да она уже второй месяц живет в Замоскворечье. Недалеко от Третьяковки. Ах, забыла я, в каком это переулке… В Денежном, кажется. Нет! Денежный – это на Арбате… Постойте, как же, а? Вот ведь вертится на языке, а не поймать! Банковом? Нет!.. Вспомнила! В Монетном. Постойте, нет!.. В Старомонетном. Да, да! А номер дома. Какой же номер дома? Ах, память, ах, склероз проклятый! Пойду посмотрю, у меня где–то, кажется, записано. А вы заходите сюда. Заходите, заходите! Боже, как же вырос! А орденов… мамочки!
Бормоча под нос, Алевтина Петровна пошла в комнату, а Гаврилов остался на лестнице.
Лишь через полтора часа он попал на Старомонетный, разыскал старенький флигелек с кошкой на крыше и тощей сиренью во дворе.
Матери дома не оказалось, она была на работе. Гаврилов улыбнулся – вот она у него какая! В ее годы – матери перевалило за шестьдесят – можно было бы и не работать. Тем более она получает пенсию за отца и его денежный аттестат. Но разве она станет сидеть сложа руки? Гаврилов представил себе, что мать ответила бы на его вопрос: «Да как же, сынок, сидеть дома, когда все работают. И людей–то сейчас не хватает. А я ведь еще и не старая!»
Соседи показали Гаврилову, где Екатерина Никитична оставляет ключ. Комнатка – словно только что выстиранная, накрахмаленная и отутюженная. Металлическая кровать заправлена белым пикейным одеялом, понизу кружевной подзор. Пирамидка подушек взвивается к потолку, как белая пена на гребне прибойной вол– мы. На комоде – последний снимок отца, фронтовая фотография Гаврилова, сестер с мужьями.
Тепло, пахнет старыми вещами и тем неопределенным запахом, который ощущаешь лишь в родном доме. Гаврилов взял с комода фотографию отца и прилег на старенький, обитый плюшем диван. Фотография вызвала грустные воспоминания: как все–таки нелепо ушел он из жизни! Словно вещий Олег, принял смерть от коня своего: выезжал жеребца и внезапно почувствовал себя плохо – упал на гриву коня, а тот испугался, понес и скинул Никиту Петровича прямо на асфальт у конюшен, где отец и умер, не приходя в сознание.
У Гаврилова три сестры. Они выросли хорошими рукодельницами, настоящими умницами–красавицами и конечно же своевременно, а кое–кто и несколько раньше, были обнаружены: первая капитаном медицинской службы, вторая – журналистом из дальневосточной газеты, а третья – полярным летчиком, и увезены, с согласия родителей, далеко от Москвы, к месту службы мужей. А Василек еще долго жил с родителями.
Отец внешне выглядел бирюковатым. Его узкие, монгольские глаза под выгоревшими на солнце бровями были невероятно цепки. Никите Петровичу достаточно было, не поднимая хлыста, просто посмотреть на провинившуюся лошадь, как та пятилась, качала головой, словно пыталась стряхнуть с себя его колючий взгляд.
Под взглядом Никиты Петровича робели даже отважные табунщики, ветром носившиеся по степи на отчаянных аргамаках.
Он был невысок ростом, с широкими, словно бы тесаными, плечами, с кавалерийскими, «циркулем», ногами.
Лицо в морщинах и рубцах. За каждой метой скрывались потрясающие истории: не раз падал он с диких скакунов и замерзал в степи.
Но этот с виду суровый человек имел нежное сердце и без ума любил свою семью, степь и, конечно, коня, которого сам он в этом перечислении поставил бы на первое место.
Всем отцам хочется, чтобы их дети стали образованными, трудолюбивыми, физически крепкими, ну, может быть, еще и талантливыми…
Отец был человеком трезвого ума, он понимал, что гении не яблоки, и надеялся, что из Василька вырастет просто порядочный человек. Жизнь Никиты Петровича хотя и протекала среди «непарнокопытных», но он хорошо разбирался и в природе человека. Принесут домой парня с расшибленным носом – мать начнет охать да ахать, а Никита Петрович посмотрит и скажет:
– Что вы его хороните? Казака раны украшают.
Мать запричитает:
– Да как же, Никитушка! Какой же он казак? Дитя малое…
– Ну что ты, мать! – удивится Никита Петрович. – Не срами парня. Смотри, он от стыда плачет. Казак без царапин – что конь без всадника.
…Мать все не приходила. Гаврилов стал гадать, где она может быть. За хлебом стоит в очереди? Он пытался представить себе, как выглядит она. Исхудала, наверно. Сколько же выпало на ее долю! Особенно трудно она пережила май 1933 года.
Донская степь. В прозрачной вышине «вьют колокольню» степные орлы, высматривая ротозеев сусликов. Голову кружит запах меда. Тишина… Но вот над вытканной шелками степью, над богатым убором разнотравья вдруг пробежит ветер, и степь заколышется, заиграет, и хлынет навстречу лавина запахов! Тут и чабрец, и полынь, и мята, и земляника… Эх, родная степь донская! Сколько же в тебе благодатной красоты! Радоваться на нее и не нарадоваться. А отец шагает рядом с лошадью, опустив голову, и отчаянно смолит папиросу за папиросой. Мать сидит у изголовья Василька. Час назад, прыгая на трехлетку во время пробежки ее по кругу, он не удержался – кобыленка была норовистая, взбрыкнула, – соскользнул на круп, а оттуда – наземь и угодил под копыта сорвавшегося с привязи жеребца. Кобыла и погнавшийся за нею жеребец были уже далеко в степи, а Василек, захлебываясь кровью, катался по земле. Теперь его везут на пароконной линейке в Семикаракорскую, в больницу.
От того времени осталась белая полоска под подбородком. Жизнь в Подмосковье была отмечена плешинкой над правым ухом, размером с кокон шелкопряда. Сорваться с макушки высокой сосны – это совсем не то, что прыгнуть с вышки в воду. На счастье, рядом росла на редкость пушистая елочка…..
Гаврилов уже начал дремать, когда услышал во дворе громкий мальчишеский голос:
– Бабушка! А к вам сын приехал. С фронта! Орденов – уй! Вся грудь. Да вы что, не верите?
Мальчишка свистнул и затем крикнул:
– Серега–а–а! Мотай сюда! Скажи бабушке, верно, что сын ее приехал?
– Чтоб мне с места не сойти! – быстро проговорил Серега.
– Ну ладно, ладно! – сказала Екатерина Никитична. – Спасибо вам, ребятушки.
Гаврилов встал с дивана. Поправил подушку. Одернул гимнастерку, пригладил ладонью волосы.
Мать вошла тихо и плавно, будто вплыла.
Остановилась на миг в дверях, словно не веря тому, что этот высокий, широкоплечий, загорелый молодец ее сын. Но когда увидела белый шрамик под подбородком, страстно, с какой–то жадной тоской зашептала:
– Сыночек! Ты ли это? Господи!
Гаврилов шагнул навстречу:
– Мама, мамочка!
Мать то целовала «кровинушку свою», то слегка откидывалась, помолодевшая и словно бы очищенная радостью от привязавшихся к ней за годы ожидания сына морщин, улыбалась молодо и счастливо…
Подарки сына: кофта из толстого, цвета темной малины гаруса, кашемировая шаль и мягкие шевровые туфли на низком каблуке – все пришлось матери впору.
– Спасибо тебе, сыночек, за внимание!
Она прошлась по комнате, остановилась перед зеркалом, повела плечом, разглядывая, хорошо ли сидит на ней жаркая кофта. Глаза сверкнули, она зарделась и, вспомнив годы молодые – эх, и легка же и шустра была! – воскликнула:
– Господи! Что ж я тут верчусь! Ты небось голодный, сынок? – Легко застучала каблуками. – Пойду приготовлю! А ты, Василечек, отдохни пока! Покури. Ты куришь?
Гаврилов кивнул.
– Господи! – вздохнула мать. – Большой уж стал, мужчина! А я – то, – она усмехнулась, – все как о ребенке думаю. Ну, я сейчас!
Пока мать под охи и ахи соседок стряпала на кухне, Гаврилов вынул из чемодана и поставил на комод миниатюрный будильничек в кожаном футляре–сумочке. Хотел было присоединить и фотографию Либуше, но раздумал: мать еще надо подготовить.
К ее возвращению в комнату на столе уже стояли вскрытые мясные консервы, свиная тушенка, баночка «Рузвельта» – так называлась тогда американская колбаса, рыба, печенье, шоколад, банка ананасов и бутылка коньяку. Все это Гаврилов привез с собой, зная, что москвичи еле–еле концы с концами сводят, с трудом «отоваривая» свои продовольственные карточки.
Мать ахнула при виде такого стола. Правда, в Москве были коммерческие магазины, но цены в них, как сказала мать, «кусаются»: килограмм сахара стоит что–то около четырехсот рублей, а она всего жалованья получает лишь шестьсот. Ну, еще по аттестату столько же, да за мужа около двухсот рублей пенсии. Для твердых цен это еще ничего, а для коммерческих – не деньги…
И за ужином и после мать и сын много говорили, но всего переговорить, конечно, так и не успели.
Легли поздно. И, вероятно, легли бы еще позднее, да матери на работу к семи. Она назвала какое–то учреждение, но Гаврилов не запомнил – глаза у него уже слипались.
Гаврилов уснул, по фронтовой привычке, тотчас же, как только голова коснулась подушки. А к Екатерине Никитичне сон не шел, «глаза хоть зашей», – докучали вопросы, сомнения. Ну вот хотя бы невестка. На карточке она очень хороша! А какая на самом деле?.. Екатерина Никитична вздохнула: «Еще не поженились, а уже беременна. Ах, молодежь! Ну куда спешат? Мы вот с Никитой не спеша, по закону, и прожили хорошо, и детей вырастили. А тут без родительского согласия кинулись друг к другу… Ну Василек–то, я понимаю, мужчина! И, как ни говори, казацкого роду. А казак – мужик, известно, бешеный! А вот она–то что? Неужели женской гордости не хватило? Выждала бы! На меня Никита тоже сразу начал напирать, а я ведь выдержала. Василек, видать, в отца пошел. Ах, господи, господи! А кто будет–то – внук или внучка? Очень хочется внука… А как же жить–то будем в одной комнате? Василек говорит, что ему дадут: фронтовику, да еще с дитем… А с чего давать–то? Что он, один фронтовик? Сколько их миллионов придет с фронта. Правда, не все из Москвы. А строят–то не больно… Может быть, как с войной кончат, и пойдет по всей стране строительство? Конечно, пойдет! Без строительства никак нельзя: война наломала столько!..»
Иногда мать поднималась на локте и долго смотрела на сына: хорошо ли ему, удобно ли? А заметив, что голова его будто бы низко лежит, торопливо встала и подложила свою подушку.
Лишь под утро мать забылась тяжелым сном. Но перед тем, как уснуть, она – в который раз! – посмотрела на спящего сына, и в ней вспыхнуло чувство гордости: это она произвела на свет такого красавца!
Она лежала маленькая, худенькая. Радость встречи словно омолодила ее – счастливая улыбка освещала ее одухотворенное, как утренняя заря, лицо.
Утром Гаврилов уехал в Солнечногорск. Но прежде он проводил мать до автобусной остановки. Поезд, к которому в Солнечногорске подавалась санаторная машина, отходил из Москвы в десять тридцать. У Гаврилова оставалось много свободного времени. Он решил пройти до Охотного ряда, а там спуститься в метро. И для Москвы нет лучшего времени, чем весна. Весна не в марте и не в апреле, а в мае, когда цветет черемуха, а на яблонях появляются кипенно–белые с атласным розоватым отливом хрупкие чашечки соцветий. А сизые кнопочки на метелках сирени будто только и ждут команды: «По черемухе равняйсь!».
Хороша в эту пору Москва! Особенно по утрам, когда первые лучи солнца штурмуют город. Когда они лезут в окна, расползаются по крышам, взбираются на верхушки деревьев и, взобравшись на колокольни, плавят золото на крестах. А что делается на куполе Ивана Великого! Кажется, что золотой шар его вот–вот оторвется от своей каменной колонны и взовьется в голубое небо.
Редкий человек, застигнутый этим часом на Москворецком мосту, с высоты которого открывается гордость России, символ ее – Кремль, не остановится тут хоть на миг!
Гаврилов вздохнул, сожалея, что рядом с ним нет Либуше и что она не видит этого чуда.
Минуты восторга, пережитые им на мосту, уступили место удивлению, когда он шагал мимо храма Василия Блаженного. «Боже! Неужели это рождено мыслью человека и сделано руками его! А что же осталось нам? Чем мы будем поражать грядущие поколения?»
Часы на Спасской башне пробили девять, когда Гаврилов спустился в Охотный ряд.
Глава одиннадцатая
Две недели в санатории пролетели, как облака над полем. Конечно, Гаврилов скучал, конечно, думал о Либуше, о матери, конечно, писал письма в Прагу и в Москву, конечно, играл в волейбол, в «козла» и читал книги… Но большую часть времени проводил в лесу.
Майские леса Подмосковья!
Выйдешь на опушку – молодые березки словно только что выбежали из леса и шепчутся, чуть дрожа от усталости, а впереди – поляна в цветах, за нею дубняк кряжистый и красные – свечой в небо – сосны. А в предборье плюшевая елочная молодь хороводится. А дальше голенастые осинки трясутся на стылом ветру…
В низинке шустрый ручеек роется и звенит–звенит своей текучей лопаткой. Над ним пенится дурманным запахом белая черемуха.
Как ни тосковал Гаврилов по Либуше, как ни рвался в Москву, грусть и сожаление охватили его, когда уезжал из санатория.
Все дни перед парадом только и было – казарма и плац, плац и казарма. Никуда – ни к матери, ни на почтамт – он не попал, увольнений в город не было. По–видимому, некоторые начальники строгость считают лучшей гарантией от возможных нежелательных происшествий.
Парад был краток, как мгновение. Но Гаврилов успел увидеть и запомнить все, начиная от четких красных шуцлиний, указывавших, какой колонне в каком ряду следовало идти, и кончая тем моментом, когда, держа равнение, на трибуну, он увидел того, чье имя в те годы было у всех на устах.
Никогда еще Гаврилов не проходил так близко от Мавзолея. Он был потрясен, но не тем, что близко видел Сталина, а тем, что тот выглядел обыкновенным, маленьким усталым старичком с набрякшими глазами, с пробитыми проседью жиденькими усами и висками. Совсем непохожий на свой портрет. Стоя посредине трибуны, он как–то нерешительно улыбался и болезненно–скованно махал подагрической рукой тем, кто принес стране эту великую победу.
У Гаврилова затекла шея, но он не в силах был оторваться от Мавзолея, где, блестя золотом, стояли маршалы – их мундиры были тяжелы и звонки от шитья и орденов, как доспехи, – это были герои великих сражений под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом, Варшавой, Берлином, Дрезденом и Прагой.
Гаврилов бросил фашистский штандарт к подножию Мавзолея и снова поднял глаза к трибуне. И хотя день был пасмурный, в глазах его все сверкало, как при ослепительном свете солнца. Все! И золото на мундирах, и чеканное золото на крестах и куполах кремлевских соборов. Для Гаврилова в этот день ослепительно, золотом сверкала даже медь оркестров. Блеск золота лился и со стен кремлевских палат. Золото играло и в бокалах с вином во время приема правительством героев войны…
После парада Гаврилов два дня погостил у матери. На третий поехал в Л. узнать, когда будут отправлять в часть. Мать приготовила невестке подарок: старинные серьги – бирюзу, оправленную серебром, и замесила тесто на пирог из прибереженной за деревянным Николай–угодником муки. Провожая сына, сияющая, помолодевшая, говорила:
– Сынок! Ты не мешкай, как выяснится у тебя – сразу домой.
Глава двенадцатая
Либуше не выходила из дому, осунулась и подурнела: столько ночей без сна, столько тревог! Болезнь трепала отца, и ей досталось немало. Сердце старого доктора работало с опасными перебоями: оно то замирало и сжималось, как испуганный мышонок, то начинало гудеть, как вешний ручеек, пробивающийся из–под толщи снегов, и тогда на пергаментном лице больного появлялся румянец и в глазах вспыхивали искорки. Профессор Смычек порой становился в тупик – ему не помогали ни огромный опыт, ни врачебная интуиция.
Теперь, слава богу, все позади! Сердце вошло в ритм. В середине четвертой недели профессор разрешил больному сидеть. Получила отпуск и Либуше, – оставив отца с медицинской сестрой, она впервые вышла из дому.
Щурясь от веселого летнего солнца, Либуше сделала несколько шагов по Староместской площади и остановилась. Она растерялась от обилия света, от журчания живой человеческой речи. Над Прагой стоял гул – Матка мест залечивала раны, нанесенные фашистами: в строительных лесах стояли ратуша, дома, храмы. То тут, то там слышались голоса каменщиков, жестянщиков, мраморщиков. А люльки маляров висели под самым небом. Боже! Как же хороша жизнь!
Долгие дни за окнами, наглухо закрытыми тяжелыми портьерами, ходить только на цыпочках, посудой не звенеть, дверями не хлопать, разговаривать шепотом… Лекарства, уколы, измерение давления и температуры, подать, принять… Особенно тяжко было по ночам. Только стены ее комнаты и знают, сколько мук перенесла она! О чем бы ни думала – все мысли об одном: ну зачем, зачем она поклялась именем матери! Если бы мать была жива, разве она потребовала бы от нее этого? Нет! Мать была строгой, но справедливой… А отец?
Либуше шла, сама не зная, куда и зачем идет. Хорошо, что навстречу ей попалась женщина с сумкой овощей – ей ведь тоже нужно купить свежей зелени. Ну что ж, она поедет на овощной рынок на площадь Гаврички. А потом что? Опять посудой не звенеть, дверями не хлопать, громко не говорить, ходить на цыпочках. Опять уколы, лекарства, давление, температура и опять одна… Но страшнее всего – это когда приходят письма Василя: их надо отдавать отцу… А если б… Нет! Клятвы она не преступит. Конечно, Василь посмеялся бы над ней, он сказал бы, что слово можно нарушить, если это в интересах пролетариата. Что же делать ей? Однако зачем она села в этот трамвай – он же идет в Смихов. Там штаб полка Василя…
Вспомнилось Травнице, худой, бледный Гаврилов и громовой голос полковника Бекмурадова: «Вы маладец, пани Либуше… Гаврилов, ты должен благодарить пани Либуше…» «Благодарить!» А кто теперь кого и за что должен благодарить?
Грохот трамвая не мешает ей думать. Когда трамвайный поезд выскакивает на мост Легий, Либуше охватывает тревога – в самом деле, зачем она едет… Нужно выйти на Витезной улице и ехать обратно. Но она не сходит, вернее, не успевает сойти, как трамвай трогается, и вот он уже несется по Уезду и вскоре притормаживает на площади, у советского танка.
…Либуше не видела ни буйного цветения сада Кинских, ни холмов Петржина, ни синего высокого неба над головой. Не слышала запаха цветов и нагретой земли. Сидя в тени цветущей сливы, она терзала себя за то, что не сумела удержаться и зашла в штаб, к полковнику Бекмурадову. Зачем она сделала это? Не дай бог, отец узнает! Но разве могла она думать, что с отъездом Гаврилова ее жизнь сложится именно так? За три недели от Василя пришло три письма, и все они под подушкой у отца, не читанные ни ею, ни отцом, живые в могиле. Каждый раз, оправляя постель, Либуше запускала руку глубоко под подушку – письма трепетали в руке, как птицы. Ах, Василь, Василь, что же она наделала!
…Полковник с учтивостью кавказца встал из–за стола и вышел навстречу Либуше, усадил ее в кресло. Не показывая виду, что визит Либуше пришелся не ко времени, полковник украдкой посмотрел на часы, затем с легким вздохом склонил голову в сторону Либуше, как это делают тугоухие, и приготовился слушать. Либуше долго не могла начать, трудно было сказать полковнику, какая причина привела ее в штаб. Полковник помог ей, спросил об отце и дяде Яне. Когда Либуше рассказала, что с отцом, полковник покачал сочувственно головой и спросил, не нужна ли какая помощь. Либуше поблагодарила. Во время ее рассказа полковник несколько раз незаметно посматривал на часы. Наконец он извинился, встал из–за стола и сказал, что, если пани Либуше позволит, он будет слушать ее и одновременно соберет кое–какие бумаги, так как времени у него совершенно нет, а полк завтра покидает Прагу.
Кровь отлила от лица Либуше.
– Как покидает Прагу? – произнесла она беззвучно, только губами, и, испугавшись, что выдает себя, робко проговорила: – А как же лейтенант Гаврилов? Он приедет в Прагу или…
Полковник сказал, что лейтенант Гаврилов присоединится к полку в Москве. Она хотела спросить: «Как в Москве?», но не смогла. Полковник понимающе прищурил глаза, подошел к Либуше и по–отечески погладил по голове. Затем сказал, что он очень жалеет, но у него нет времени навестить уважаемого доктора Иржи Паничека. Он просит передать самые наилучшие пожелания. Либуше хотела объяснить полковнику, что она не может сделать этого, так как отец рассердится, если узнает, что она ходила в полк, и опять не смогла… Полковник спросил ее, не хочет ли пани Либуше что–нибудь передать лейтенанту Гаврилову. Может быть, письмо? Нет? Тогда, может быть, на словах? Тоже нет?
Только после того, как Либуше вышла из штаба, она поняла, какую глупость сотворила, записку Гаврилову можно было бы послать! Какая же она дура!
Пока Либуше корила себя, на небе, со стороны Петржинской обсерватории, с холмов которой в хорошую погоду туристы любуются видами Стобашенного города, наплыли облака. Беленькие, пушистые, как цыплята, редкие, как степной дозор, они скоро сбились в кучу, к ним подошли из–за горизонта другие. Вскоре облачка собрались в плотное серебристое стадо и накрыли столицу. Либуше долго глядела на них, и ей захотелось самой стать таким же легким серебристым облачком, которое не знает жестоких законов, ограждающих жизнь человека не только от пороков и глупостей, но порой и от истинного счастья…
Либуше разбудил солнечный луч. Она с наслаждением потянулась, зажмурив глаза от удовольствия. Но когда поднесла к глазам крохотный золотой кружочек с паучком лонжиновского циферблата, то чуть не вскрикнула, – проспала! Четверть девятого – давно уже надо было смерить температуру и давление отцу и взять кровь на тромбоз. Ах ты господи! Скорей халатик на плечи и в ванну.
После ванны быстро справилась и с давлением и с кровью, – температуру отец сам измерил.
Она едва дождалась, когда «милый Иржик» (увы, теперь совсем не милый) съел свой завтрак. Он ел медленно, как бы смакуя. Сама же Либуше проглотила чашку суррогатного кофе без всякого аппетита и хотела уйти – надо же застать на месте полковника Бекмурадова и сделать то, что должна была, но не сделала, по робости или по глупости, вчера, – передать записку Василю. Но тут отец потребовал шлепанцы и палку, он, видите ли, хочет сам пройти на ту половину квартиры, где ванна и уборная. Да, сам. А раз он хочет, то тут уж ничего не поделаешь. Хотя, быть может, в это самое время полковник Бекмурадов и собирается уйти из штаба, ведь полк сегодня отбывает в Москву.
Звонок в дверь. Это дядя Франтишек – старый почтальон. Вместе с газетой он подает письмо. Это письмо оттуда – из Москвы. От Василя. Хотя прошло, вероятно, не больше минуты, но ей показалось, что перед глазами вечность пронеслась, пока она решилась на это: газету отцу, а письмо за пазуху. Зачем она сделала это? Ведь клялась же. Ну да, клялась. Она и не собирается вскрывать письмо, она просто подержит его у сердца… Чуть– чуть. А теперь скорей к полковнику – успеть бы застать его!
Кажется, ступенек на лестнице раньше было меньше, а теперь уйма, словно ты живешь не на третьем, а на тридцать третьем этаже. И до трамвая стало как будто дальше.
Полковника в штабе уже не было. Ей сказали, что, приди она минутой раньше, непременно застала бы его. Господи, почему она такая невезучая!
На обратном пути пришлось постоять у трамвайной остановки, пока по улице, лязгая стальными траками, поднимая едкую пыль, шли танки. Солнце уже успело накалить воздух. Было душно, пыльно, досадно. Когда колонна танков выползла из улицы, в хвосте ее Либуше увидела на «виллисе», рядом с Морошкой, полковника Бекмурадова. Она крикнула, но стоял такой сумасшедший грохот, что ее, конечно, не услышали. И на взмахи платочка никто не обратил внимания.
Долго Либуше смотрела вслед танкам и ничего не видела, кроме широкой, обтянутой тонким, светло–зеленым габардином, подмокшей спины полковника. В Прагу пришло лето. Причем жара «завинтила сразу на всю катушку».
В костеле, куда Либуше зашла без всякого заранее обдуманного намерения, было сумрачно. Свет едва пробивался через цветные витражи. Либуше прошептала молитву, затем вытащила из–за пазухи письмо Василя, подержала его в руках, прижала к груди, потерлась щекой и, оглянувшись, не видит ли кто ее, поднесла его к губам, и тут же к ней явилась мысль, а что будет, если она откроет конверт и прочтет, что пишет Василь? Прочтет и положит обратно, и милый Иржик ничего не узнает. А клятва? Разве можно преступить ее? Нет конечно! Она и не собирается преступать – она только посмотрит.
Разглядывая конверт, Либуше нашла в правом углу крохотную щелочку – отклеилось либо сначала было плохо заклеено. Вот в это место шпильку, затем осторожно провести вниз, и клапан откроется. Тут и дела–то на секунду. Христос простит ее. Только смелее – никто на нее не смотрит.
Она уже почти открыла, как вдруг ей показалось, что храм вздрогнул. Либуше охватил страх, и она уронила письмо на колени. Орган. Да, это его мощный гул потряс костел. Голос органа подхватил звонкий, чистый, как вешний ручеек, хор мальчиков. Но тонким ручейком хор оставался, может быть, не больше минуты, скоро он превратился в поток буйных звуков. Они высокой прибойной волной взметнулись к вершине расписного купола. И, достигнув его, горной лавиной пали вниз и здесь сшиблись с новой, встречной волной, и вскоре весь храм потонул в них. Попав в этот ошеломляющий волноворот звуков, Либуше почувствовала, что она обезволена, что не будет у нее сил преступить клятву. Когда месса кончилась, Либуше, прижимая к груди письмо, расслабленной, старушечьей походкой вышла из костела.