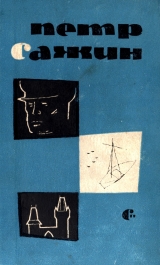
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
Как ребенок, увидевший заводную игрушку, загорается нетерпением запустить ее, так и капитану вдруг захотелось двинуть вперед красавца, хозяином которого он будет после ходовых испытаний.
Главный механик, сопровождавший Кирибеева при осмотре корабля, угадал желание капитана.
– Соскучились? – спросил он.
– Да! – пробасил Кирибеев.
– Через две недели вы будете в море, или я пойду на берег чинить примуса, – сказал механик, направляясь к трапу.
Две недели! Капитан не любил слоняться без дела. На море он мог отстаиваться хоть месяц в ожидании погоды, но на берегу… Каждый час, проведенный на берегу без дела, был для него пыткой.
Покинув «Сучан», Кирибеев поднялся в гору, к Историческому бульвару. Внизу перед ним лежал Севастополь, а слева блестел рейд.
В гавани, у Корабельной стороны, где стоял «Сучан», сновали шлюпки и катера, а от Инкермана буксирное судно тащило баржу с углем.
На рейде, у Северной стороны, стояли стальные корабли военного флота.
Три недели, пока Кирибеев ехал из Приморска поездом через всю страну, он не видал моря, не чувствовал под ногами палубы, которая для моряка часто тверже и милее земли.
Но делать нечего. Кирибеев скрепя сердце повернулся и зашагал в глубь парка. Равнодушно прошел он мимо старых, подернутых зеленью медных пушек и сложенных под их лафетами чугунных ядер. Его не тронуло, что пушки стояли так же, как и восемьдесят лет тому назад, когда адмирал Нахимов пробирался на низкой лошаденке с одного бастиона на другой, отдавая приказания опаленным порохом артиллеристам, сдерживавшим натиск французских зуавов и английских кирасир лорда Кардигана.
Под ногами поскрипывал гравий. Капитан шел, не задумываясь над тем, куда ведет дорожка.
Дорожка кончилась у калитки. Кирибеев толкнул калитку ногой – перед ним открылось широкое шоссе, покрытое белой пылью.
Капитан пересек его и направился прочь от города, к рыжим холмам, над которыми вился беркут. Не успел Кирибеев сделать и двух шагов, как из–за поворота выскочила легковая машина. Поравнявшись с капитаном, шофер спросил:
– В Ялту не нужно?
– В Ялту?..
Кирибеев, не задумываясь, зачем он это делает, сел в машину и громко, как у себя на корабле, скомандовал:
– Полный вперед!
– Вот это разговор! – откликнулся шофер.
Машина неслась на полной скорости, и Кирибеев не заметил, как проскочили Золотую балку и селенье Байдары, впереди открылись прибрежные Крымские горы. Шофер беззаботно насвистывал «Танголиту», хотя дорога была похожа на винтовую лестницу. Перед глазами капитана, как на киноленте, мелькали море, скалы и глубокие пропасти. Его швыряло от борта к борту. Когда наконец прибыли в Мисхор, Кирибеев почувствовал такую усталость, что решил дальше не ехать. Он вышел из машины, расплатился и пошел по дороге.
Было очень тепло. Море плескалось почти у самой дороги. Широкая аллея кипарисов, кусты распускавшегося жасмина и сирени тянулись от самой Алупки.
Кирибееву захотелось на берег. Он спустился к морю и недалеко от разбитого причала и «Русалки» сел на камни. Расшнуровав ботинки и сняв китель, капитан решил перед купаньем выкурить трубочку. Солнце грело по–весеннему жарко. Тянул едва ощутимый бриз. Воздух был напоен запахами цветов и солено–йодистым дыханием моря.
На берегу, у самой воды, высоко поднимая клешни, словно боясь замочить их, осторожно полз краб. Кирибеев поднял камень и швырнул в него. Краб прижался к камням. Кирибеев потерял его из виду. В сущности, краб мало интересовал капитала, но из какого–то мальчишеского упрямства он стал пристально осматривать каждый камешек. Вскоре он снова увидел краба, замахнулся и хотел бросить камень, но в это время услышал за своей спиной шаги. Ему стало стыдно, он опустил руку, разжал пальцы, быстро сунул в рот трубку, запалил ее и, только сделав несколько затяжек, оглянулся и покраснел еще больше.
К берегу подошла молодая женщина. Набежавшей волной ей слегка залило ноги. Но женщина не двинулась с места; казалось, она не замечала ничего. Голова ее была опущена, взгляд рассеян.
Посасывая трубку, Кирибеев исподлобья смотрел на женщину. Она стояла к нему спиной. Ее тонкие плечи то поднимались, то опускались.
Солнце грело сильнее. Кирибееву стало жарко. Мягкие всплески волн притягивали, и ему вдруг нестерпимо захотелось искупаться, но женщина не уходила. Он встал, решив искупаться в другом месте.
Не успел он сделать и двух шагов, как услышал за собой сдержанный плач.
Женщина, закрыв лицо руками, шла к камню, у которого он только что сидел.
Кирибеев не любил плачущих женщин, терялся перед ними, не знал, что делать. Но эта женщина почему–то тронула его. Может быть, потому, что кругом все было так хорошо, все сияло: и небо, и солнце, и море, и заплакать можно было лишь от большого горя или тяжелой обиды. Кирибеев подошел к ней. Женщина отняла руки от лица и зло посмотрела на него.
– Что вы стоите тут? Что вам надо?
Кирибеев хотел что–то сказать, но вместо слов выдавил из себя кашель.
– Господи! – воскликнула она.
– Мне ничего от вас не нужно, – прохрипел наконец Кирибеев. – Но… я… мне казалось, что я мог бы проучить того, кто вас обидел.
Она оглядела капитана с головы до ног, отвернулась и медленно пошла к дороге.
Маленькими ножками она ступала но камням так осторожно, словно боялась причинить им боль.
Кирибеев постоял немного, потом решительно пошел за ней.
Он догнал ее у кипарисовой аллеи. Заметив капитана, женщина остановилась.
– Ну что вам нужно? Оставьте меня!
– Мне ничего от вас не нужно, – сказал Кирибеев. – Но, может быть, я могу помочь вам?
– Кто вы такой?
Кирибеев назвал себя.
– Капитан! – воскликнула она и внимательно посмотрела на Кирибеева. – Капитан! – повторила она. Глаза ее неожиданно заблестели.
Эта перемела в настроении удивила и вместе с тем обрадовала Кирибеева. Он неожиданно для себя заговорил о «Сучане», о Дальнем Востоке, о море.
Обычно в разговорах с женщинами, если капитан перед этим не успевал хватить чего–нибудь крепенького, язык его с трудом повиновался мыслям – он торчал во рту, словно якорь–цепь в клюзе. Но в этот момент Кирибеева осенил дар красноречия, и он говорил увлекательно и интересно.
За разговором они незаметно добрались до Алупки и зашли в ресторан.
– Вы возьмете меня на пароход? – спросила она полусерьезно–полушутя, когда они сели за стол.
– Вас?
– Да, меня!.. Что вы так смотрите? Думаете, я слабая?
– Нет, не возьму, – сказал он строго, – вы очень капризная, а море не любит капризных.
– А если я не буду капризничать?
– Тогда…
– Ой, возьмете?!
– Выпьем, – сказал Кирибеев.
Она замахала руками:
– Нет, нет! Что вы! Я не пью!
– А за море? – спросил Кирибеев, подавая ей бокал.
– За море? Хорошо, только капельку. – И, подняв бокал, опустошила его с отчаянной смелостью.
Кирибеев налил еще.
– А разве это нужно? – сказала она, принимая из его рук бокал.
Кирибеев кивнул. Они опять выпили…
Вино немного опьянило капитана. Уставившись мутным взглядом в сторону моря, Кирибеев думал о своем. Зачем только он увязался за этой плаксой?.. Ему захотелось расплатиться, встать и уйти. Но женщина тоже слегка опьянела и стала рассказывать о себе.
Сначала она говорила робко и сбивчиво, но, заметив, что капитан слушает ее внимательно, поборола смущение.
Он узнал, что ее зовут Ларисой, что она в недавнем прошлом была драматической актрисой тульского театра, а здесь работает в санатории «Гаспра» бактериологом. Она ни за что не бросила бы театр и не поехала сюда, если бы не болезнь отца. Отец ее был когда–то крупным путейским инженером. Матери она не помнит, но знает, что, когда она умирала, отец поклялся никогда не жениться. Он с горя опустился и заболел туберкулезом. Болезнь обнаружилась слишком поздно. Она все распродала и по совету врача перевезла отца в Крым.
Неделю назад отец умер. Он умирал мучительно, тяжело. Смерть отца парализовала ее волю. Она хотела уехать из Крыма. Но куда ехать, если у нее решительно никого на свете нет?..
Они вышли из ресторана перед закатом. Пройдя Алупку, поднялись на верхнюю дорогу. Море успело уже потемнеть, солнце село в воду, и лишь розовые отблески сияли на краю быстро густевшего неба.
Они шли в сторону Гаспры, где жила Лариса. Когда переходили через мостик над холодным горным потоком, Кирибеев хотел взять ее под руку, но Лариса решительно отстранилась. Она села на каменный столбик, сняла туфли и сказала:
– Дальше не пойду! Мне здесь очень нравится…
Кирибеев взял ее на руки. Она схватила туфлю и замахнулась на него.
– Ну, медведь, сейчас же отпустите меня!.. А то еще кто–нибудь увидит нас.
Кирибееву не очень хотелось исполнять ее просьбу. Он помог ей надеть туфли.
– Прощайте! – сказала она и побежала по тропинке вверх, к домикам, в одном из которых жила.
Кирибеев выругал себя за то, что не условился о встрече, и молча побрел в Алупку.
9
Кирибеев прервал свой рассказ и принялся разводить костер из сухой, прошлогодней травы и будылья. Костерок весело заполыхал. Прикурив от уголька, капитан продолжал свой рассказ.
– На другой день, – начал он, – я, кажется впервые в своей жизни, все утро драил пуговицы на тужурке, затем тщательно оглядел себя в зеркало, надушился, начистил ботинки так, что хоть спичку зажигай, и, весь сверкая, как шведский почтовый пакетбот, затопал к берегу.
Она не пришла. Я просидел на берегу до самого вечера. Мне было жарко, хотелось выкупаться, но я боялся раздеться: а вдруг она придет?
Я то и дело оборачивался на каждый голос, на каждый шорох. Лишь к заходу солнца вернулся в Алупку. Утром снова вертелся у зеркала и наводил блеск на все части своего костюма. Я решил пойти в Гаспру, разыскать ее там, попрощаться и уехать.
Я выбрал нижнюю дорогу, рассчитывая за Мисхором подняться по тропе на верхнее шоссе и через Кореиз пройти в Гаспру, но втайне надеялся встретить ее у моря. Так оно и вышло.
Она сидела на том же месте и бросала камешки в воду, стараясь сделать несколько «блинчиков». Ноги мои помимо воли зашагали быстрее, и, если бы я не держал их на малом ходу, они бы понеслись на всех парах.
Как вы догадываетесь, в тот день я, конечно, не уехал. Я снял комнату у татарина в Кореизе, и мы начали встречаться ежедневно. Она бросила службу в «Гаспре», и мне это не показалось странным. Целыми днями мы бродили под склонами Яйлы, поднялись даже на Ай—Петри. У нее были тонкие, но сильные ноги, ходила она быстро. И я вскоре стал легким и тощим, как гичка.
Мы выискивали самые дикие места, лазали по скалам, прыгали по камням и радовались, как дети, когда нам удавалось вскарабкаться туда, где не решались ходить даже козы. Для меня не было большего счастья, чем взобраться на какую–нибудь головоломную кручу и нарвать для Ларисы букет альпийских цветов.
Обожженные солнцем, мы стали черными и ловкими, как обезьяны.
Особенно приятно было мне перебираться через ручьи. Я брал ее на руки и прыгал на другую сторону. Всякий раз меня, как стрелку магнитного компаса, тянуло именно в те места, где чаще всего попадались потоки. Надо сказать, воды в тот год было много, весна стояла дружная, снега на Яйле и Ай—Петри таяли быстро, а внизу все пылало – цвели глицинии, иудино дерево, маки.
Я обошел почти весь свет, но нигде не видел такой безумной весны: такого количества цветов, шумных потоков, такого ясного неба…
Однажды, взяв ее на руки, чтобы перенести через ручей, я шагнул в воду, остановился, прижал ее к груди и поцеловал. Не помню, сколько я стоял; думаю, что в тот момент согласился бы всю жизнь стоять там… Она первая опомнилась и набросилась на меня. Теперь–то я понимаю, что стоять в ледяном горном потоке мог лишь человек, совершенно потерявший голову. Оно, конечно, так и было. Перейдя поток, я опустил ее на землю. Мы оба дрожали и первое время не могли смотреть друг другу в глаза, как будто совершили тяжкое преступление. Но как только глаза наши встретились, она опустила голову и прижалась ко мне. Я обнял ее. Мне хотелось сказать что–нибудь такое, ну там, какая она хорошая, как я люблю ее. Но язык мой отяжелел, словно мокрый парус. Так мы и стояли, как слепые, у обрыва. Когда спускались к морю, Лариса, притихшая, шла с опущенной головой, а я как будто еще больше вырос, как будто стал сильнее, все во мне пело и играло. Я смотрел то на горы, то на море, то на цветущие сады, то на нее, и так хорошо было мне…
– Я устала, – сказала она и стыдливо добавила: – От любви…
Что со мной сталось! Я готов был Яйлу поднять, хотел сказать ей так много, но она быстро закрыла мне рот рукой:
– Нет! Нет! Не говорите!.. Ничего не говорите! Пойдемте к морю!
Я подчинился ей.
Взявшись за руки, мы пошли вниз.
На море был штиль. У горизонта курился дымок.
– Пароход! – закричала она. – Шевелитесь же, капитан!
Она отняла свою руку и побежала к берегу.
Мы долго сидели у моря и смотрели на синюю гладь, на угасавшее солнце и на скрывавшийся за Симеизом пароход. Мы молчали, да и о чем было говорить, когда сердца наши лежали на одном курсе.
Солнце зашло; мы поднялись и пошли в Алупку.
– Я никогда не любила, – сказала она и вдруг заплакала и уткнулась мне в грудь.
Я стал успокаивать ее. Мне тоже хотелось сказать, что и я никогда так не любил, но говорить не умел, а вернее, стыдился. А она говорила, говорила, и голос ее часто переходил в шепот.
С моря набегал свежий и мягкий ветерок. Слушая ее, я чувствовал, как временами сердце у меня совсем замирает, не бьется. И я не понимал, как я живу, иду, двигаю руками. Знаете, как бывает на корабле: машина застопорена, а корпус все еще вздрагивает и продолжает двигаться. Я не нахожу объяснения тому, почему мы, то есть я и она, не подумали тогда о том, что ждет нас впереди. Но теперь я часто проклинаю то время, когда мы оба потеряли всякое управление собой.
Кирибеев крепко выругался, выколотил пепел из трубки, снова набил ее табаком, зажег и замолчал на некоторое время.
По руке его ползла божья коровка. Заметив, он осторожно снял ее, положил на ладонь и сказал:
– Лети!
Божья коровка, оглушенная его басом, остановилась, подобрала под себя ножки, затем раскрыла тоненькие, прозрачные крылья, но тут же быстро уложила их обратно.
– Не хочешь? – спросил он. – Ну, тогда выбирай якоря и топай пешком.
Кирибеев легонько снял ее с ладони и положил на траву. Божья коровка некоторое время лежала без движения, потом вдруг быстро выпростала маленькие черные ножки, поднялась, шагнула и скрылась в высокой траве.
– Ну вот, – сказал капитан Кирибеев, – обрубила канат и ушла… А может быть, ей в моей руке было лучше и безопаснее?..
– Да… все вот так… И я обрубил канат и ушел… Думал, что здесь будет мне лучше.
Собственно, в том, что произошло, и я, конечно, виноват. Нет, нет, не то, что вы думаете! Я был честен. Видите ли, моя жена… Впрочем, раз я уже начал, то расскажу все по порядку.
Корабль нельзя вести наугад, вслепую. Корабль нужно вести по компасу, строго придерживаясь намеченного курса… А жизнь?.. Что такое прожить жизнь? Это все равно что пройти вокруг света. Сколько чудес можно увидеть! От скольких соблазнов нужно уйти! Какие штормы встретятся на пути! Хороший моряк, трезвого ума человек, проведет и старое корыто вокруг мыса Доброй Надежды и дотянет до залива Утешения. А потерявший голову человек, отдающий себя на волю чувств, даже на современном корабле сядет на мель еще при выходе из гавани. Так я понимаю свое дело теперь.
Конечно, тогда я был вроде зайца, на которого ночью вдруг падает сноп яркого света. Я ничего не видел. Сейчас я бы заметил у нее и склонность к тщеславию, и резкость в обращении, и этакую отталкивающую манерность в разговоре, и наигранную детскость.
Может, я неправильно говорю, но вы, надеюсь, меня понимаете. Она, как избалованный ребенок, капризно надувала губки, говорила какими–то странными фразами вроде: «Я сегодня проснулась от шума влетевших в мою комнату облаков», – она жила над верхней дорогой в Гаспре. Тогда мне это правилось до чертиков. Все, что она делала, я считал самым интересным и оригинальным…
Она стала моей женой накануне возвращения в Севастополь.
Днем мы бродили в окрестностях Гаспры и Мисхора, а вечером спустились к морю и, обнявшись, долго сидели на том камне, возле которого встретились впервые. Мы ни о чем не говорили – молча смотрели друг другу в глаза, угадывая по их блеску, кто о чем думает. А кругом все спало в зеленом свете луны: горы, дороги, деревья, белые дома, и только море тихо ворчало, когда кто–нибудь из нас швырял в набегавшую волну камень. Под утро, когда неожиданно налетел ветер и море словно осатанело, мы поднялись ко мне в Кореиз. Идти пришлось против ветра. Едва мы успели войти в дом, как разразился ураган. В парке затрещали деревья. Высоко в горах загрохотал гром, и почти в ту же секунду в окно ударила ослепительная молния. Лариса испуганно жалась ко мне. Мы так и не уснули. Старый домик скрипел и качался, как лайба на волнах, а его крыша, казалось, готова была сорваться и улететь. Порой казалось, что и сама земля стонала.
Утром небо очистилось. Утих ветер. Выглянуло солнце. От земли потянулся пар. В саду затрещали птицы. Так хорошо было, что не хотелось покидать это райское местечко, но меня ждал «Сучан».
Мы сложили вещи и отправились на автобусную станцию. С верхней дороги хорошо было видно море. Как только я увидел его, терпение покинуло меня – хотелось поскорей в Севастополь.
В Севастополе мы зарегистрировались и в ресторане местной гостиницы отпраздновали свадьбу. На свадьбе Лариса много пела и даже разбила несколько тарелок «на счастье».
После свадьбы я принял «Сучан». Лариса умоляла не отсылать ее в Приморск поездом, а взять с собой. Я боялся, что ей будет трудно, и всячески отговаривал. Но она настаивала на своем – соглашалась даже идти буфетчицей (как жену я не мог ее взять на корабль). Пришлось уступить.
В тот же день мы перетащили на корабль наши пожитки, а через три дня я с мостика «Сучана» в последний раз окинул взглядом холмы Севастополя и взял курс на Босфор.
Мы должны были следовать в Приморск через Суэц. Но в самый последний момент маршрут был изменен: мне предписывалось идти через Гибралтар в Саутгемптон. Там я должен был присоединиться к двум кораблям, построенным на английских верфях для АКО [3], и вместе с этими судами идти в Тихий океан через Панамский канал.
Путь не маленький, профессор. Через Атлантику к Антильским островам, потом Карибским морем до порта Колон. Дальше – через Панамский канал в Тихий океан. А там – Гавайские острова. Затем пути наши разъединялись: корабли АКО шли на Камчатку, а мы – в Приморск, с заходом для бункеровки на остров Мидуэй или в один из портов Японии. Это, знаете ли, свыше десяти тысяч миль! Самый большой переход от Гибралтара до Колона (Панама) – свыше четырех тысяч миль и от Колона до Гонолулу (Гавайские острова) – столько же, если не больше.
Атлантика встретила нас отличной погодой, что бывает очень редко. Я люблю, профессор, Тихий океан – я вырос здесь. Но невозможно забыть бескрайние голубые просторы, восходы и заходы солнца Атлантики! Красота такая, что и не скажешь. Какие там облака! Природа как фокусник. То, как в сказке, построит из обыкновенных темно–синих облаков замок, то возьмет и тут же разрушит его. Затем вдруг появится город с соборами, дворцами, и опять не успеешь на него насмотреться, а его уже нет, и на том месте возникает караван верблюдов… Пропадет караваи, глядишь – перед тобой легкая бригантина; паруса на ней с полным ветром, мачты и реи точеные, и кажется, вот–вот донесется команда: «На брамсели! Брамшкоты и фалы отдай!..»
Лариса была взвинчена и морем и своей новой, необычайной жизнью. Работала она быстро, по–флотски. У нее, как говорится, были золотые руки. В кают–компании «Сучана» все сверкало. Хотя нас в Севастополе хорошо экипировали столовыми и чайными сервизами, Ларису это не устраивало. В Саутгемптоне она потратила часть своего жалованья на покупку колец для салфеток, различных судков для пряностей, приобрела английские пивные кружки – пинты и какую–то еще посуду.
– Тебе нравится? – спросила она.
Я пожал плечами:
– Зачем все это? Зачем ты тратишь свои деньги? У нас же все есть!
– Я же лучше хотела… – Она покраснела.
Я еще не сказал, сколько она натащила всяких сувениров в нашу каюту: раскрашенные виды Лондона, Венеции, Рима… Мне купила трубку…
А впрочем, зачем я все это говорю?!
Он на короткое время примолк, отвернулся от меня, вытащил из костра обгорелую палочку и стал счищать грязь с сапог. На его мощной шее тугими кольцами вились волосы – признак большой силы. И как–то трудно было согласиться с тем, что на него могла влиять или, более того, управлять им женщина, какой бы красоты она ни была.
– Ну вот, – сказал он, бросив палочку обратно в костер. – До Азорских островов мы прошли при полном штиле, а когда очутились в тропиках, в так называемом Саргассовом море, нас захватило мощное южноантильское течение. Шли мы ходко. Все как будто складывалось хорошо: уголь с палуб был убран в бункера [4], корабли вымыты, подкрашены… Но когда прошли Саргассы, нас встретил шторм, да такой, что порой даже мне казалось, что придется нам кормить рыбу.
Я беспокоился за Ларису, но она показала себя отличной морячкой: безболезненно перенесла и дикую жару тропиков и этот шторм. Вы знаете, в тропиках даже кочегары, народ к высокой температуре привычный, и те почти ничего не ели – все больше пили лимонад и беспрерывно окачивались забортной водой. А Лариса – нет. Она с таким аппетитом ела, что и я за нею тянулся. Плавание ей нравилось, она дурачилась и пела песни.
Все радовались, что плавание проходит хорошо. До пролива Доминика, которым мы намеревались войти в Карибское море, оставалось что–то около трех часов ходу. И вот тут мы приняли по радио «ТТТ» – международный сигнал, предупреждающий об урагане. Я посовещался с капитанами, и мы приняли решение проскочить пролив, а в случае ухудшения обстановки зайти и отстояться либо в порту Розо на острове Доминика, либо в порту Фор–де–Франс на Мартинике. Мы успели форсировать пролив, но ураган все же настиг нас на последней миле.
Вы знаете, что такое тропические ураганы? Вы слышали что–нибудь о вест–индских харрикейнах? Нет! Я не знаю, что всего страшнее: огонь или ураган. Огонь можно залить… Ураган остановить не может ничто. Нет такой силы! Несколько лет назад огромная океанская волна, высотой свыше тридцати метров и длиной почти в сто пятьдесят километров, смыла все с небольших островов Зондского архипелага, а стоявшую у острова Ява канонерскую лодку занесла на три километра в глубь суши. Эта волна двигалась с такой быстротой, что за тридцать два с половиной часа прошла двадцать тысяч километров! Представляете? Значит, она шла со скоростью свыше шестисот километров в час! Человек еще не нашел надежных средств для защиты от стихийных бедствий. Никто не знает, где и когда часто благословляемый человеком ветер вдруг начинает сатанеть… Вы помните, профессор, картины Айвазовского «Девятый вал» и «Буря у мыса Айя»? Страшно? Да? Но если бы вы видели харрикейны! Я много испытал в своей жизни, в каких только переделках не был! Меня не раз трепали тайфуны и свирепые террерос Бискайи, но харрикейны…
Когда несется харрикейн, кажется – нет ни неба, ни земли, ни воды в отдельности… Кажется, что на свете нет и никогда не бывало тишины…
И вот этот хулиган, как прозвали его наши матросы, налетел на нас. Карибское море опасное: в нем много плавающих водорослей – саргассов и коралловых рифов. А если к этому прибавить еще и южноантильское течение, пробивающееся благодаря постоянному действию пассатов через узкие горловины проливов со скоростью четырех миль в час, пластом до восьмисот метров в глубину, то нетрудно представить себе всю обстановку во время урагана.
Вы, конечно, знаете, что южноантильское течение – это мать Гольфстрима. Да, именно здесь рождается великий благодетель!
Мурманский рыбак, круглый год промышляющий рыбу, и норвежский фермер, собирающий в южной части своей страны виноград и великолепные укосы сена, могут воздавать благодарение Гольфстриму.
А мы проклинали этот благословенный поток. Ураган кидал суда, как щепки: мы не выгребали, нас несло к островам Морант—Кейс. Это недалеко от Ямайки. Мы чудом проскочили мимо них. Затем нас понесло к цепи маленьких островов Педро—Кейс. Дальше начинались коралловые банки Ямайки. О входе в Порт—Ройяль, где мы собирались брать уголь и пресную воду, и думать было нечего. Ветер выл, свистел, метался. Море клокотало, корабли черпали бортами, вода перекатывалась через надстройки. Когда нас вынесло к группе Коайманских островов, лежащих перед Кубой, стало чуть–чуть спокойнее; здесь проходит впадина Бартлет – место глубокое, до семи тысяч метров. Мы воспользовались этим, легли на правый борт и приняли решение войти в порт Сантьяго–де–Куба…
С тех пор прошло семь лет, а я помню все настолько ясно, как будто это было совсем недавно. Признаться, я натерпелся страху: мы потеряли шлюпку, волны смыли обводы ходового мостика, в носовых помещениях были выбиты стекла иллюминаторов. На наших глазах, профессор, французский корабль напоролся на банку Педро… Что творилось! Мы пытались оказать помощь, но где там! Железный корпус француза разорвался, как бумажный лист. Корабль опрокинулся и сгинул в пучине. В этот момент волна и срезала у нас шлюпку, как бритвой! Когда мы вошли в Сантьяго–де–Куба, в порту толпился народ. Здесь мы узнали о гибели нескольких судов.
Карибское море – большая морская дорога: через него пролегает путь из Атлантики в Тихий океан. В портах Карибского моря собираются корабли со всех концов Европы, Африки и Южной Америки. Старый путь мимо мыса Горн, который огибали корабли героев Жюля Верна, с прорытием Панамского канала почти забыт, В Карибском море можно встретить огромные, многоэтажные лайнеры, китобойные и торговые суда, военные эскадры Северо—Американских Штатов, базирующиеся в Гуантанамо на Кубе и в Коко—Соло у входа в Панамский канал.
Карибское море называют мором пиратов. Это правда. Здесь когда–то действовали герои капитана Марриета, Стивенсона и Джека Лондона. Первый золотой известного банкирского дома Морганов, говорят, был добыт здесь, на морской разбойничьей дороге, пиратом Генри – основателем нынешнего дома Морганов…
Я рассказал об этом Ларисе. Она чувствовала себя на седьмом небе. Да и как иначе! У кого сердечко не взыграло бы, будь он на ее месте! Ураган она перенесла молодцом, лучше всех. Во время этой окаянной трепки у нас на «Сучане» несколько человек было ранено, а боцману сорвавшейся с ростр бочкой с соленой треской размозжило руку. Лариса перевязывала раненых, доставала из кладовки хлеб, консервы, масло, фрукты и кормила весь экипаж корабля. Как она ухитрялась все это делать в таком кромешном аду?..
Когда мы ошвартовались в Сантьяго–де–Куба, не знаю, от чего я был более счастлив: то ли от того, что мы легко отделались, то ли от того, что у меня такая женка. Ведь когда я взял ее в рейс, то думал, что хвачу горя, а вышло так, что, когда кто–нибудь выбивался из сил, не выдерживал, ему говорили: «Ты что же это, браток? Посмотри на Ларису Семеновну! Женщина первый раз в море, а как держится!»
Признаюсь, у меня не раз замирало сердце, когда я видел ее на палубе… Ну что она, тоненькая, хрупкая, а волны с десятиэтажный дом… Представляете себе, профессор, что значит оказаться под такой волной, а? Это несколько тысяч пудов воды! Человек под такой волною – словно сырое яйцо под паровым молотом… А она как козочка: прыг–прыг, да так ловко и цепко пробиралась по палубе.
В Сантьяго–де–Куба мы простояли десять дней: чинились, чистили котлы, запасались углем и провизией. В свободное время совершили несколько экскурсий.
Вы спрашиваете, что интересного на Кубе? Куба – золотой остров. Но песни у кубинцев грустные. Все богатства острова: сахар, табак, бананы, марганцевая руда, ананасы, пальмовые рощи – всё в руках иноземцев. Как тут запоешь веселые песни? Иноземцы бродят по Кубе как по своей земле. Они взбираются на горы, в тенистые леса Сьерра—Маэстра, плавают на роскошных яхтах у коралловых островов, развлекаются охотой на акул. Военные моряки, или, как их называют в Америке, «неви», пьянствуют, скандалят, пристают к женщинам.
Эх, профессор! Да разве только на Кубе так? Иноземцы бродят везде. Я видел их в Гибралтаре, на Азорских и Бермудских островах, потом в Гонолулу, в Японии… Легче сказать, где их нет.
Они прибывают на Кубу пароходами, самолетами из дальних городов Америки. Но больше всего богатых шалопаев перебрасывается на остров с Флоридского полуострова, с прославленных курортов Майями, Майями—Бич и Уэст Палм—Бич.
Между Гаваной (столицей Кубы) и Ки—Уэстом, последним курортным пунктом Флориды, курсируют мощные железнодорожные паромы. Иноземцы перебрасываются на Кубу со своими машинами, обезьянками, собаками… Вот почему, профессор, и слышится плач в народных песнях Кубы.
Лариса выучила несколько кубинских песенок и однажды вечером вышла на палубу, уселась в шезлонг и, аккомпанируя себе на гитаре, запела. Откуда ни возьмись собралась толпа кубинцев с гитарами, и пошел такой концерт, что я никогда ничего подобного не видел и не слыхал.
Три месяца продолжалось наше плавание. Это был самый счастливый рейс в моей жизни. Там, в Алупке, она недаром пила за свое посвящение в морские волки. Ни один шторм не валил ее с ног. Она окрепла, загорела, стала черной, как мулатка.
Моряки обычно с трудно скрываемой терпимостью относятся к присутствию женщины на корабле. Ее же полюбили. Думаю, что не из–за меня, конечно.
На девяностые сутки мы вошли в Даурский залив.
Над океаном спускался тихий вечер. Я смотрел на Приморск. Тысячи огней, переливаясь, играли на сопках.
Рулевой уверенно перекладывал штурвальное колесо, и я, перестав следить за ним, углубился в свои мысли, навеянные приближением города, где прошли мое детство, юность и началась морская служба. В моем уме с поразительной быстротой пробежало много–много лет. Вспомнилась моя первая любовь и наконец эта вот женитьба на Ларисе.
Дело в том, что перед отбытием в Севастополь я неожиданно получил письмо от подруги моего детства Наталии Курыжинской. Она была замужем, но жила очень плохо. С мужем ее я в свое время учился в одном классе и даже сидел на одной скамье. Это был смазливый чистоплюй, единственный сын главного бухгалтера бывшей в Приморске крупной немецкой фирмы «Хорст и Ангальт». Он был разряжен, как аргентинская шхуна, писал стихи и очень нравился приморским девушкам… Что меня заставило сдружиться с ним? Не знаю… Бывают в жизни дела, в которых не отдаешь себе отчета. Ну, словом, получилась такая чертовщина, в которой я долго не мог разобраться, вернее – не мог понять, до того глупо получилось.






