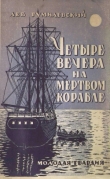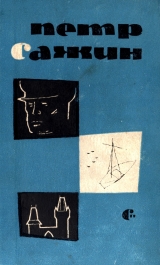
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
Я решил, что делать мне тут нечего. Скатал свои чертежи – и «вира» из его кабинета. Уже за дверью я услышал, как он кричал: «Вон! Вон! Вон!»
Вот я и очутился здесь без подарка. Но ничего.
Я перебил Кирибеева:
– А почему же вы не обратились к товарищу Микояну?
Кирибеев сказал:
– Обращался, да не было в Москве Анастаса Ивановича.
– А почему же не напишете отсюда?
– Напишу… А вы знаете, профессор, откуда я взял идею? Она родилась у моста Лейтенанта Шмидта. Да, да, именно там!
Я, кажется, говорил вам, что между мостом и Канонерскими мастерскими, у набережной Красного Флота, корма в корму стоят суда спасательной службы: водолазные баркасы, буксиры и специальные железные шаланды. По вечерам, после окончания рабочего дня, на набережной у сходней собираются старые моряки – вынесут разножки и рассядутся вокруг какой–нибудь пустой бочки либо соберутся на корме одного из судов, где на линьках сушатся тельники и робы, и дуются в «козла» или же «травят».
Сколько историй можно услышать там!
Я как–то водил туда хлопчиков из мореходки на экскурсию, познакомился и потом стал один захаживать.
Туда–то я и подался после ссоры с Ларисой.
Погода стояла редкая для Ленинграда. Небо почти безоблачно, вода спокойная – будто спит, горизонт густой, почти вишневый. На куполах церквей, на фабричных трубах – всюду позолота вечернего солнца.
И каким–то особенно трогательным выглядело единственное на всем горизонте облачко. Оно словно заблудилось: тихо плыло по небу на траверзе Кронштадта. Белое, пышное, оно, казалось, насквозь пронизано розоватым светом, а та сторона его, что обращена была к закату, вся так и пылала.
Присел и смотрю на ту сторону. А на той стороне, чуть левее Военно–морского училища и Горного института, день и ночь стоят гул, стук, как на поле боя, – там на стапелях куются, варятся, склепываются новые красавцы корабли. Когда корпус корабля готов, его спускают на воду, и уже на плаву в «коробке» идет монтаж машины и такелажа.
Спуск корабля – великое торжество для судостроителей: митинг, иллюминация, награды.
Я пришел удачно: в тот вечер родился еще один корабль.
Когда он скатывался со стапелей, грохнуло такое «ура», аж воздух дрогнул!
Прошло несколько минут после того, как корабль плюхнулся в воду, а на стапелях опять засверкал огонь, застучали молотки: закладывался корпус нового корабля.
В этот момент меня словно озарило. Почему, думаю, мы, китобои, убьем кита и к борту его швартуем, убьем другого – к другому борту?
А что, если бы так, как на стапелях? Готова «коробка», ее спускают и закладывают новую. И мы: убили кита, накачали его воздухом, поставили вымпел, сообщили китобазе координаты, а сами дальше, за другими китами!
Как только эта мысль явилась мне, я попрощался с водолазами – и айда двенадцатиузловым ходом домой.
С того времени я стал как одержимый. Я просиживал над чертежами все время. Я уже не ходил в театры, не посещал друзей на водолазном баркасе, забыл про все, единственно куда я ходил, это в библиотеку и в мореходку: не мог я бросить ребят – уж очень славные хлопчики там.
К марту я закончил чертежи новой гарпунной пушки; по расчетам, она давала убойный выстрел на полкабельтова дальше, чем пушка Свена Фойна. Нужно было сделать модель. Инструмента и материала у меня не было. Я обратился к дружкам на набережную Красного Флота: так, мол, и так. Они дали мне столько материала, что десять моделей можно сделать.
А где сделать?
Я решил поговорить в мореходке с хлопцами. Не успел я рассказать им, как они загалдели: что вы, мол, задумываетесь, Степан Петрович? Да мы все сделаем!
Хлопцы взялись по вечерам выпиливать детали на тисочках дома. Дело пошло. Но тут вдруг слегла Лариса, у нее случилось что–то с голосом. И, как говорится, «все смешалось в доме Облонских…».
36
Два месяца я не отходил от ее постели. Болезнь сама по себе была не тяжелой, но она осложнилась нервной лихорадкой из–за потери голоса. Врачи сказали, что это временное явление, но Лариса так испугалась, что зачастую не владела собой.
Вот за время ее болезни наши отношения и дошли до такого состояния, что дальше жить вместе стало невозможно. И я решил отдать концы. Что же мне было там прозябать, когда здесь большое дело. Кто будет перестраивать китобойный промысел – Мантуллин, Плужник или Небылицын? Позиция первых двух ясна, а Небылицын – это, знаете, как говорят: «Ни от камени воду, ни от Фофана плоду». С Небылицыным работать – все равно что иголкой колодец копать.
Но черт с ним, с Небылицыным! Главным было для меня то, что жить в Ленинграде стало невмоготу. Хотя я и пробовал как–то наладить наши отношения, но, видимо, было уже поздно: где–то когда–то я прозевал – очевидно, в Приморске, сразу же после прихода из Севастополя. Тогда нужно было устроить Ларису на работу. А впрочем, может быть, это и не помогло, и наверное бы не помогло: очень уж она была набалована. А меня вот никто не баловал. Я с детства на море. У нас в роду все были моряками либо рыбаками. У нас и косточки–то просолены морской солью. Моя фамилия, если бы восстановить истину, не Кирибеев, а Киреев. Наш род идет с Дона. Но вот прапрадед мой еще мальчиком попал в плен, когда донские казаки с турками дрались за Тамань. Двадцать пять лет пробыл он в неволе. И там турки окрестили его Кирибеем. Вернулся он, когда Нахимов разбил турок у Синопа. После служил в русском флоте. Участвовал в защите Севастополя. С полным бантом вернулся на родную Донщину, в хутор Земковский. Возвел курень, женился. Но к казакам не прибился. Прозвали казаки его турком. И дед мой не ужился с ними. Сначала плавал на Азовском море, ходил в Турцию и Болгарию, подымался даже по Дунаю до Черновод. Но потом не поладил с хозяином, взял расчет – а шкипер он был отличный, – уехал в хутор.
И тут недолго прожил. Прослышал, что царь охотников зовет на Дальний Восток владения его защищать. Жизнь, сказывали, там хозяйская, земли, рыбы, зверя сколько хочешь. Забрал он семью и подался сюда на транспорте «Маньчжур»…
Отец мой перенял от деда любовь к морю, а я уж от отца. Все это я говорю вам, профессор, к слову! А теперь возвращусь к старому.
Надумав уехать из Ленинграда, я стал готовиться: просмотрел столько книг, документов. Вот взгляните!
Кирибеев подошел к столу, открыл ящик и вынул пухлую, с клеенчатой обложкой общую тетрадь. Он похлопал ее рукой и сказал:
– Вы знаете, что здесь? Здесь, профессор, вся история русского китоловства. За рубежом кое–кто и сейчас болтает, что мы, русские, не способны к китобойному делу. Но это же бред! Русские поморы более четырех веков тому назад начали промышлять гренландского кита у Шпицбергена. И на Тихом океане промысел открыли первыми наши китобои.
Возьмите, профессор, тетрадь и на досуге просмотрите. Вам это пригодится. Может, статью напишите. Расскажите о Жилине, Порядине, Чубенко. Ну, кто знает о китобоях? Живем мы и работаем далеко от промышленных центров. О нас почти не пишут. А если уж и напишут, то с точки зрения романтики. А какая тут романтика? Пускай бы те, кто о нас пишет, побыли денек на разделочной палубе «Аяна», постояли бы по колено в крови или походили по скользкой от ворвани палубе. Понюхали бы да послушали, как при боковом разрезе туши кита раздается грохот, словно при выстреле из пушки, посмотрели, как из места разрыва начинает бить огромный фонтан крови, как при этом взлетают вверх обрывки внутренностей весом по нескольку пудов. Вот она какая романтика бывает, профессор!
Кирибеев увлекся своей речью, раскраснелся.
– Но, – продолжал он, – все это чепуха, не в романтике дело. Нужно думать о главном. Я считаю, профессор, что не более как через три, максимум пять лет мы с вами будем свидетелями небывалого расцвета советского китобойного промысла.
Иностранцы сейчас посмеиваются над нами. Да, наша флотилия мала. Много ли нас? Три китобойца и одна китоматка. Мало! Но рано смеются господа. Мировой нормой на одного гарпунера считается шестьдесят китов за промысел. А мы уже взяли на каждую пушку по ста пятидесяти! Да с кем? С наемными гарпунерами, которые не очень–то стараются.
Возьмите хотя бы нашего Кнудсена… Как он работал? А человек он в общем–то неплохой. Но не понимал ни наших задач, ни нашей цели.
На «Тайфуне», профессор, теперь порядок. Нужно и на «Вихре» и на «Гарпуне» взять пушки в свои руки. Пора! Я думаю, что правительство, когда оно приглашало иностранных китобоев, имело в виду как можно скорее создать свои кадры. А у нас кое–кто не понимает этого. А теперь, когда случилась с нами беда, я представляю, как злорадствуют эти людишки! Но ничего. Мы, профессор, не только здесь наладим дело, но придем и в Антарктику, в море Фаддея Беллинсгаузена. Мы еще посоревнуемся и с флотингом «Сэр Джемс Кларк Росс», и с китобойной базой «Ларсен», и с «Пелагосом», и с «Торсхаммером»… Вот в чем гвоздь, профессор! Во имя этого будущего я, как мне ни было тяжело, и уехал из Ленинграда…
Мы еще повоюем и с собственными «иностранцами» вроде профессора Мантуллина, и с теми, кто будет мешать нам… Понимаете, профессор?
Однако я опять отклонился в сторону, как стрелка компаса на массу металла. Волнуют меня все эти проблемы, профессор…
Не будь всего этого, я, может быть, и остался бы в Ленинграде: ходил бы на Васильевский остров и учил хлопчиков навигации. Да нет, что я говорю! Не мог, не мог я остаться. «Одной рукой два арбуза не схватишь…»
37
Капитан Кирибеев на минуту умолк и посмотрел в открытый иллюминатор. Потом взял спички со стола, закурил и продолжал:
– Как я сказал вам, мой отъезд задержался из–за болезни Ларисы. Если бы я уехал до болезни, и ей и мне было бы легче и лучше. А болезнь все обострила.
Два месяца я не отходил от ее постели. Профессора, врачи, лекарства, телефонные звонки, цветы, слезы, истерики – словом, тысяча и одна ночь!
Со мной она держалась то раздраженно, то была безмерно ласкова и нежна. Говорила:
– Вот выздоровею, и заживем с тобой по–новому, ты будешь капитаном, а я…
Но мысль свою она никогда не заканчивала, вдруг на полпути обрывала ее, задумывалась и потом говорила:
– Правда, Степа, я гадкая?
И, не дождавшись ответа на этот вопрос, задавала другой:
– А ты меня любишь? Очень?
Я кивал и нежно гладил ее по голове.
Она вдруг становилась мрачной, тяжко вздыхала.
– А знаешь, Степа, мне кажется, что у нас с тобой счастья не будет. Нет!.. Мы разные люди. Я взбалмошная, а ты уж очень хороший. Я горжусь тобой. Чувствую в тебе опору. Но ты нечуткий… С моими друзьями, Степа, ты держишь себя так, что стыдно за тебя. А ведь я актриса. Мое положение… Ах, что я говорю, дурочка! Прости меня, Степа… Я просто измучилась и устала. Если голос не вернется, я умру. Пожалуйста, не успокаивай меня, это не поможет. Профессор Изгоев говорит, что я должна уехать на юг, что мне нужен морской климат, что ингаляция – чепуха! А профессор Смирницкий настаивает на продолжении ингаляции, на гальванизации, на ортофонии… Кого слушать?! У меня голова трещит! А вот ты ничего не делаешь. Весь ушел в свои гарпуны. Почему не пригласить гомеопата? Говорят, они творят чудеса…
Когда я ей сказал, что гомеопат уже был и что нельзя лечить одну болезнь у десяти врачей, – боже, что с ней сделалось! Бискай во время шторма и тот тише. Она вскочила с постели, кровь бросилась ей в лицо.
– Ты так меня любишь? – кричала она, забыв, что этого ей нельзя делать. – Ты, ты…
То ли мой спокойный тон взбесил ее, то ли нервы сдали – она стала кричать еще больше.
– Хорошо! Ты так?.. Я сама пойду приглашу врача! Пусть мне будет хуже!
Нужно было успокоить ее, но я так устал за дни ее болезни, что махнул рукой. Она бросилась к шкафу, перебрала все платья, словно в самом деле хотела одеться и пойти за доктором, хотя дома был телефон. Кстати он зазвонил. Я хотел подойти, но Лариса не пустила меня.
Звонил профессор Смирницкий. Она заохала, прямо умирает.
Это повторялось несколько раз. Я уже не знал, как вести себя. Ведь я почти всю свою жизнь имел дело со штормами на море. А вот что делать, когда поднимается буря в собственном доме? Идти ли против ветра на волну или ложиться в дрейф? Тут я ничего не понимал, потому что не имел опыта. Ведь я больше чем полжизни отдал морю. Конечно, я видел и настоящие семьи, вот, например, у Костюка. У него такой, как у меня, чертовщины никогда не было. Он работает, дети учатся. У него славный хлопчик и милая дочурка, а жена ведет дом, как хороший штурман. Прелестная семья, какая–то светлая, чистая, уютная… Я всегда у них чувствовал себя хорошо, свободно. Даже обыкновенный хлеб и отварная картошка с солью казались там особенно вкусными. А сама хозяйка! Сколько в ней любви к людям, к мужу, к детям! И никакой роскоши, всё на месте, ничего лишнего.
Он закурил и продолжал:
– Вот и я мечтал о такой семье, в которой у всех есть благородная цель и согласие. Понимаете? Согласие или, лучше, содружество. А как наладить согласие или там содружество, когда мы разные люди? Когда у каждого из нас много всякой чертовщины в голове?
У нас много говорят и пишут о ликвидации пережитков капитализма в сознании. Я раньше думал, что это так, слова! А теперь пожил семейной жизнью, повидал людей разных – и понимать стал.
Дело–то это, оказывается, серьезное, мешает здорово. С этими проклятыми пережитками нужно бороться насмерть. Они тянут нас назад. Необходимо все поставить на это дело: школу, клуб, театр, пионеров, комсомол, литературу, милицию, суд. Все должно действовать одним фронтом.
А есть ли у нас этот единый фронт? Пока нет. В школах слабая дисциплина. Литература обходит острые вопросы, клубы словно забыли о своей роли культурных просветителей – всё подменили танцами да киносеансами. О профсоюзах и говорить нечего. Вот и получаются пробелы то тут, то там. Возьмем мою жену… Если бы она воспитывалась правильно, так сказать, в хорошей трудовой семье. А то что же? Матери лишилась рано, у отца характер мягкий, податливый. Дочери ни в чем не отказывал. В доме ей все подчинялось. И выросла эгоисткой. Вот почему она и детей не хотела, и окружила себя всякой шушерой – любила лесть и прочую мерзость.
А я тоже ведь заквашен на старых дрожжах. Многого не знаю и не понимаю. Ну и допустил ошибку, считая, что женщине нельзя ни в чем отказывать. Поэтому, когда она начинала кричать, вместо того чтобы одернуть ее, терялся и тем самым невольно потакал дурным сторонам ее характера, так сказать, укреплял их у нее…
Вылечил ее профессор Смирницкий, вернулся голос… И опять завертелось колесо: портнихи, массажистки, подружки. Придут «на минутку», «по пути». Пальтишки свои с дорогими мехами разбросают по стульям, а сами бесцеремонно садятся на постель, курят, трещат, как сороки… Я не против подруг, не против и красивой одежды, нет. Но вот когда человек тратит на это чуть ли не полжизни – меня коробит. К тому же эти сороки своей болтовней сбивали ее с толку. Они напели ей, что она катастрофически полнеет… И ведь выдумают же! И тут же советовали ей какую–то модную корсетницу. За большие деньги стали готовиться какие–то особые корсеты. Это стесняло ей грудную клетку, талию. Она мучилась в этом хомуте, ей трудно было петь. Но Лариса терпела.
Все делалось с шумом и суетой. Беспрерывно трещали голоса, звонки. Лариса забросила дом. Я стал и коком и дневальным, снова ушел на задний план. Пришлось даже переселиться в другую комнату.
Вот в это–то время я окончательно решил, что мне в Ленинграде делать нечего, и выехал в Москву, к этому чертову профессору Мантуллину. А когда вернулся, застал дома письма и телеграммы от Плужника. Он предлагал снова занять место на мостике «Тайфуна». Советовал торопиться: флотилия уже поднимала пары – готовилась к выходу из Приморска. В последней телеграмме он подробно указывал, когда мне выезжать и как добираться.
В пачке писем было послание и от Чубенко, и коллективное письмо от команды. Вы, конечно, понимаете, что делалось со мной! Мне неудержимо захотелось на Дальний.
Лариса была в этот день свободна от спектакля. Подавая письма, она так глянула на меня, что я понял: «А на душе–то у нее неспокойно!»
Поняла она, что я ухожу от нее, да я и не скрывал этого. Ребята писали: «Приезжайте, Степан Петрович! Без вас дело не дело, корабль не корабль и море не море…»
Они, конечно, хватили лишку. Но скажите, кого такое письмо не обрадует? Ведь почему я не погиб в Ленинграде? Потому что знал, что хоть и далеко, но есть большое и живое дело, к которому я всегда могу вернуться. И потом, коллектив…
Ведь сила коллектива не в том только, что, находясь в нем, ты силен его силой, а еще и в том, что ты, находясь даже вне своего коллектива, все время силен его силой.
Возьмите нас, моряков. Ведь мы черт знает где колесим. Иной раз заглянешь в такое место, что его и на карте не найдешь! Сколько соблазнов караулит нас, а свой большой коллектив – родину – не забываешь! Так вот, профессор…
Решил я в последний раз поговорить с Ларисой. Трудно было приступать к этому. Пока я читал письма, она накрывала на стол. Давно у нас этого не было, все в последнее время делалось наспех. А тут Лариса, очевидно, пока я из Москвы ехал, приготовилась.
Накрывая на стол, она вполголоса напевала старинную песню.
Говорят: «Хорошее слово выведет змею из норы», а от хорошего голоса человек немеет. И я отложил письма в сторону и стал слушать ее. Но она вдруг кончила петь и спросила:
– Что–нибудь важное пишут тебе?
– Да, – ответил я, – но тебе, – говорю, – наверное, неинтересно.
Она подняла брови и пожала плечами.
– Почему, – говорит, – неинтересно?
– Да так, – отвечаю, – вижу, что моя жизнь, мое дело давно уже не занимают тебя.
Она обиделась или сделала вид, что обиделась:
– Ты так думаешь?
– Не думаю, а убежден.
– Напрасно, – отвечает она.
Я вскипел:
– Знаешь что, Лариса, все, что ты говоришь, – ложь! Зачем она тебе? Зачем, наконец, я тебе?
Она перебила меня:
– Ты непременно решил поссориться со мной?
Я помолчал, потому что не видел смысла в продолжении этого разговора, не хотелось мне уезжать, поссорившись. Она, видимо, поняла это и подошла ко мне.
– Давай позавтракаем как люди, – сказала она. – Давно мы с тобой не сидели так.
– Да, – осторожно ответил я.
– Налей вина.
Я налил.
– Хочешь еще рыбы?
– Положи, – сказал я.
Разговор не клеился. Когда мы встали из–за стола и я устроился в кресле, собираясь разжечь трубку, она подошла сзади, положила руки мне на плечи и сказала, как когда–то говорила:
– Подожди, Степа, курить.
– Почему? – спросил я.
Она помолчала, села на против меня и спросила:
– Ты что–то надумал?
– Да, – сказал я, – уезжаю на Дальний…
Она вздрогнула, побледнела, но быстро справилась с собой и сказала таким тоном, как будто я ехал не за десять тысяч километров, а в Сестрорецк или Детское Село:
– Ты твердо решил?
Я с трудом открыл рот, чтобы сказать «да».
Она повела плечами.
– Ну что ж, тебе виднее…
Я хотел сказать ей, что разве так разговаривают в последний час, разве так расстаются люди, прожившие несколько лет вместе! Гнев помешал мне. Это страшно трудная минута, профессор, когда люди расстаются. Я не задумывался над тем, как у нас все получится. Может быть, я приготовился бы. Хотя обдумать все заранее невозможно. Если ты не любишь – тогда легко сказать самые тяжелые слова. А когда любишь…
Кирибеев на минуту задумался.
– В какой–то момент, – продолжал он после паузы, – мне очень хотелось плюнуть на все условности, на все то, что считается дурным или как там еще… Мне хотелось подойти, обнять ее, поцеловать, сказать «прощай» и выбежать из комнаты. Но все это было бы как в театре. Мне стало стыдно.
– Ну что ж, – сказал я, – прощай, Лариса. Спасибо тебе за все хорошее, за радость, которой было немало, за все, что было… Прощай!
Я выскочил, то есть сделал именно так, как в старых романах. Почему я так сделал? Черт меня знает!
Вы спросите: а как же любовь? Любовь – святое дело! Ради любви, большой, глубокой и чистой, можно пойти и на жертву. Ведь я так и сделал, когда уехал с Ларисой в Ленинград три года тому назад, бросив китобоец. Вы бросили бы свою науку ради женщины, ради любви? Не знаете? А я вот бросил. Однако любовь бесконечно эксплуатировать нельзя. Всему есть мера, и у терпения есть границы. Если бы я сам не подошел к этой границе, то не был бы сейчас здесь. Я остался бы в Ленинграде и тогда, вероятно, уступил бы ей во всем, стал бы при ней состоять, служить ей – ну, там ботики застегивать, пальто подавать, таскать в театр чемоданчик с гримом, ждать у артистического подъезда…
Нет, профессор! Расстилать плащ под ноги красавице – это для бездельников, такая жизнь не по мне.
Вы не думайте, что я Ларису во всем обвиняю, нет. Больше себя. Да! Мне нужно было сразу уйти, либо… А впрочем, какое это сейчас имеет значение?
Капитану надоело сидеть. Он встал и на время умолк, занявшись трубкой. Я часто удивлялся – как ему не надоест столько возиться с трубкой? Но скоро понял, что Кирибеев не мог иначе: деятельный по натуре, он не мог находиться в состоянии покоя. Человек своего стремительного века, он все делал жадно: любил, работал, ел, читал… Он никогда не оставался без дела. Рассказывая мне трудную повесть своей жизни, как бы погруженный во все перипетии ее, он ни на минуту не забывал о своем деле: время от времени прислушивался к шагам на палубе или откидывал шелковую занавеску и смотрел, что делается на корабле.
Вот, профессор, почему я вернулся сюда. Я не мог так жить дальше. Понимаете, не мог без Дальнего Востока, без моря, без любимой работы, без коллектива, с которым мне не страшны никакие испытания. Конечно, я все еще люблю Ларису, но вернуться к ней в Ленинград не могу, да и не хочу. То, что мною сделано здесь, – только начало. Предстоит много работы, и я не могу, не имею права отступать. Я вернулся сюда насовсем! Теперь вам ясно?
– Ясно, – сказал я.
– Может быть, профессор, подышим свежим воздухом?
– Слушайте, – сказал я, – перестаньте наконец меня называть профессором! Какой я вам профессор! Я же не называю вас адмиралом?!
– Строптивый вы юноша! Ладно! Пойдемте на палубу, проф… виноват, товарищ Воронцов.
Мы вышли из душной каюты. В небе, чуть–чуть подернутом прозрачной синевой и едва заметным розовым отблеском, безмолвно дрожали яркие, холодные звезды. Мы долго стояли молча. Капитан Кирибеев посасывал трубку и думал о чем–то своем.
С высокого неба упала звездочка. Она прочертила длинную ослепительную линию и упала где–то за сопками. Проводив ее взглядом, мы разошлись по каютам.
38
Прошло два месяца после выхода «Тайфуна» из ремонта. Давно уже забыты огорчения первых неудач: скандал с Кнудсеном и Небылицыным, авария… Все стало на свои места: Олаф Кнудсен еще во время ремонта «Тайфуна» отбыл на пароходе «Ильич» в Приморск, оттуда – поездом в Москву и дальше на родину, в свой тысячелетний город Тёнсберг; Небылицын, как говорили китобои, «бросил якорь» на «Аяне»; капитан–директор Плужник после телеграмм из крайкома и Москвы быстро «выздоровел» и в день, когда «Тайфун» добыл сотого кита, издал приказ по флотилии, премировал весь экипаж деньгами, а капитана Кирибеева, боцмана Чубенко и марсового Жилина – охотничьими ружьями.
Все как будто встало на свое место, но капитан Кирибеев не был спокоен; он то отсиживался в каюте, то сутками не покидал мостика. Он, как видно, все еще не мог забыть Ленинград.
Два месяца мы находились в плавании. Мы прошли за это время более трех тысяч миль – от Южной Камчатки до мыса Сердце—Камень на Чукотке. Только по прямой это расстояние равно тысяче тремстам шестидесяти пяти милям! Но мы шли не по прямой, а заходили в бухты; наша «мама» становилась на якорь, а три неутомимых труженика шныряли по волнам в поисках сырья для ее жироварных котлов.
Я огрубел, руки мои покрылись мозолями, ходил вразвалку, быстро взбирался по вантам, прыгал в шлюпку с борта корабля и, так же как китобои, называл пол – палубой, порог – комингсом, верхний притолок бимсом! Я уже больше не был похож на тщедушного, «бледнолицего брата», как вначале называли меня китобои. Мышцы мои окрепли, лицо загорело. Я научился носить тяжелые промысловые сапоги, ватник и ушанку, словно век ходил в этой «робе».
Мои дневники были заполнены интересными записями. Я вел их в любое время и в любых условиях: днем, ночью, на корабле, в шлюпке, в «вороньем гнезде», на залитой жиром и кровью палубе «Аяна» и даже в шторм, лежа на койке. Уходя каждый раз на китобойце или пользуясь остановкой в какой–нибудь бухте, я не расставался с планктонной сеткой, фотоаппаратом и необходимыми для полевых условий инструментами.
Я научился владеть фленшерным ножом и не хуже резчиков вскрывал туши китов, безошибочно определял китов по фонтанам и хвостовым лопастям.
Я научился различать птиц, определять глубины океана по цвету воды. Я установил, что финвалы, покрытые коричневатой пленкой диатомовых водорослей, как правило, упитанные. Многое узнал я. Обрел опыт жизни, научился любить людей, ценить дружбу и товарищество, помогать людям и, наконец, собрал много полезного материала. А самое главное достижение – это… А впрочем, могу ли я утверждать, что не стал сундуком?
Капитан относился ко мне как истинный друг. Он помог мне в составлении промысловой карты. Очень подружился я с боцманом Чубенко и матросом Макаровым. С Чубенко я часто сиживал в наблюдательной бочке, а Макаров был постоянным моим спутником во всех научных экскурсиях.
Вооруженные «водяным глазом», мы с Макаровым подолгу наблюдали за жизнью моря. Конечно, водяной глаз – это не иллюминаторы «Наутилуса», через которые капитан Немо отлично видел под водой все – начиная от маленького, как слезинка, рачка до гигантского осьминога – спрута.
Водяной глаз – обыкновенная бамбуковая трубка со стеклом в одном конце. Аппарат очень примитивный, им пользуются ловцы жемчуга и губок. Но мы были довольны.
Море сказочно богато! Тут и подводные леса и луга. Все горит от обилия красок. Среди ламинарий, талассифилум, альционарий мелькают, скачут рачки, морские иглы, коньки, рыбы – всем тварям несть числа. Однажды нам удалось увидеть тередо. Это страшнейший враг моряков – так называемый корабельный червь. Он способен превратить в труху самое крепкое дерево. Тут же с мирным видом сидели моллюски–камнеточцы. Эти пострашнее тередо – они разрушают бетонные портовые сооружения!
Как–то Макаров позвал меня.
– Посмотрите – что это она делает?
Я взял у него водяной глаз и на глубине примерно десяти метров увидел придонную красавицу – морскую звезду. Я не сразу догадался, что она делала, пока на ум не пришел рассказ одного ученого. Дело в том, что эта красивая и с виду слабенькая «дама» настоящая хищница. Она без страха нападает на моллюска, живущего в твердой коробочке – раковине, раскрывает створки своими лучами и проглатывает моллюска быстрее, чем любой парижанин устрицу. Бывает так, что моллюск больше, чем рот звезды. Но звезда не теряется; она выворачивает свой желудок, вкладывает его в раковину моллюска и… переваривает пищу тут же на месте. Макаров застал морскую красавицу как раз в тот момент, когда она «ломилась» в двери дома какого–то солидного моллюска.
Мы осмотрели ряд богатых банок. Видели трепанга, каракатицу–сепию, светящихся рачков…
Макаров слушал мои пояснения с широко открытым ртом, как ребенок. То, что я говорил ему, не было открытием для биологов. Но для Макарова это было почти путешествием на Марс. Когда я сказал ему, что в прошлом столетии каракатица–сепия была единственным поставщиком чернильного сырья, он пожал плечами и с недоверием посмотрел на меня. У меня не было доказательств, и я попросил поверить мне на слово.
Химики освободили каракатицу–сепию от чернильной повинности, и теперь она выпускает из чернильного мешка жидкость только как дымовую завесу.
Светящийся рачок никогда не отдавал свою энергию на службу человеческим потребностям, он зажигает свои фары тогда, когда его преследует враг: ослепить врага – единственный способ самозащиты у светящегося рачка.
А вот знаменитый деликатес китайской кухни трепанг защищается от своих врагов самым оригинальным способом: он с силой выбрасывает навстречу врагу собственный кишечник, наполненный илом! Если кишечник при этой довольно смелой операции оторвется, трепанг не гибнет – у него вырастает новый кишечник…
Много диковинного увидели мы с Макаровым на дне морском и в различных слоях воды. В расщелинах подводных скал на одной из отмелей мы «засекли» даже осьминога. Глаза его сверкали фосфорически–мертвенным светом: он сторожил добычу. А рядом покачивались на тонких ножках морские лилии и тихо, почти незримо двигались в своих роскошных темно–вишневого цвета шубах морские ежи – самая лакомая пища морских выдр…
Боже мой! Сколько я увидел за это время!
Путь флотилии пролегал по следам русских первооткрывателей. Я видел мыс Дежнева, низменные берега Аляски, скалистый берег Аракамчечен, губу Ложных вестей, бухту Провидения, мыс Рубикон, скалы Атос, Портос и Арамис, лежки нерп и сивучей, рунный ход рыбы, тысячные лежбища моржей и фонтаны китов всех видов. А сколько китов я взвесил!
Возвращаясь с Севера, откуда нас выжили плавучие льды и дикие ветры, мы с трудом преодолели сильное течение, идущее из Берингова моря в Чукотское. В бухте Провидения нам удалось взять уголь и воду, и мы пошли в Анадырский залив, куда двинулись за богатым кормом киты. Здесь мы рассчитывали хорошо поохотиться.
Лет семьдесят – восемьдесят тому назад Анадырский залив был одним из оживленнейших районов китобойного промысла в северной части Тихого океана. Сотни парусных шхун, китобойных вельботов приходили сюда из Нью—Бедфорда, Сан—Франциско, с Гавайских островов и от берегов Японии. В командах этих судов были преступники, отпетые бродяги, авантюристы и военные моряки Северо—Американских Штатов. Они с лихорадочной поспешностью и нетерпением золотоискателей истребляли последнее в мире тихоокеанское стадо гренландских китов. Их не смущало то, что они ведут промысел в чужих водах, и к тому же хищническим образом. Суровый климат ограничивал время промысла. Хищники спешили: днем и ночью, как на гильотине чикагской бойни, на руках китобоев не просыхала кровь, не гасли огни костров, над которыми в больших медных котлах плавилось китовое сало. По берегам горели леса. В бухтах валялись, распространяя дикое зловоние, ободранные китовые туши. Черный дым, красное пламя костров, пьяные крики, выстрелы, дикий гомон птиц, разноязычная грубая речь, драки – все это не прекращалось от зари до зари.
Как отрадно видеть сейчас наши берега и наше море свободными от подобных мрачных картин!..