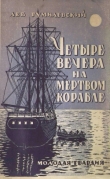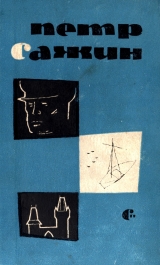
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 41 страниц)
– Деталь?
– Конечно. Даже сейчас люди, разделенные тысячами километров, могут слышать голоса друг друга. А при коммунизме будут не только слышать, но и видеть друг друга! И потом, скорости будут такие, что сегодняшний способ передвижения будет отличаться от будущего, как деревянная прялка от современного ткацкого станка…
– И вы верите во все это?
– Не верил – жил бы, как вы требуете, только для себя.
– И никогда, никогда не измените своим убеждениям?
– Убеждения – не перчатки.
– Какой вы самоуверенный, Гаврилов. Мой Чакунчик тоже был когда–то колючим, как ежик: за социализм, за коммунизм готов был горло перегрызть каждому, а сейчас потонул в нарядах, в планах и в процентовках, как мышонок в бочонке с дождевой водой. Скажите, Гаврилов, а как будет с моралью?
– То есть?
– Ну, скажем, вот вы и я: у меня – муж, у вас – жена… Но мы, допустим, нравимся друг другу… Неужели мы не можем, не разрывая брачных отношений, стать близкими?
– Думаю, что нет.
– Думаете… Значит, не убеждены! Жизнь, Гаврилов, коротка, и жертвовать ею во имя там каких–то идеалов – бессмысленно! Как бессмысленно и продолжать этот разговор. Поехали!
Воспоминания об этом и о том, что произошло несколько часов спустя, жгли Гаврилова. Он чувствовал, как по лицу разливается краска и его охватывает дрожь. «Идиот, – мысленно выругал он себя, – как дурак попался на удочку!.. Однако как же она умеет владеть собой! Когда они подходили к костру, как она смеялась… А наивный Чакун добродушно спросил: «Ты что, Надиночка, веселая такая? Будто сто тысяч выиграла?» А она ему в ответ: «Считай, Чакунчик, больше! Я так купалась, так купалась! Ничего подобного в жизни никогда не испытывала, как от этого купания!»
У Гаврилова ночь без сна, а она спала, как младенец. Как же он покажется им на глаза? И пожалуй, это еще можно пережить, а на работе? С Надей – она работает в тресте – он не каждый день встречается, а с Чакуном на дню несколько раз. Как с ним быть?
Когда Гаврилов возвращался с куканом, полным рыбы, солнце было уже высоко. Чакун удил на старом месте. Он поймал щуренка длиной со столовый нож и трех ершей. С обидой он спросил Гаврилова, почему тот не разбудил его. Гаврилов ответил, что пожалел – уж очень сладко спал Чакун. Надя и Вера загорали на песчаной косе, на другой стороне реки.
И уха, и печеная в золе картошка, и припрятанная бутылочка вина были хороши! Отличным было и купанье. С. прогулки по берегу, вверх по течению Рузы, принесли снопы полевых цветов. И все же этот день прошел как–то тягостно. Надя была излишне шумная, болтливая, а Вера ходила словно потерянная. Гаврилову казалось, что она либо догадывается, либо знает обо всем: и о его разговорах с Надей и о ночном купании. А Чакун острил не смешно и первый смеялся над своими остротами.
Уезжать собрались, когда солнце начало катиться к горизонту. Гаврилов сначала отвез Чакуна, чтобы тот занял очередь на автобус. Затем – Ковшову и багаж. Последней поехала с ним Надя.
Всю дорогу они молчали, а когда выезжали из леса, Надя наклонилась к Гаврилову и сказала:
– Послушайте, Гаврилов! Я сейчас думаю о вас. И знаете, к какому пришла выводу? У вас никогда не будет счастья.
– Это почему же?
– Потому что вы слишком порядочный: любой пустяк переживаете, как трагедию.
Гаврилов рассмеялся.
– Смотрите, Гаврилов, не пришлось бы вам плакать!
Гаврилов хотел ответить, но уже показалась автобусная стоянка и из длинной очереди махал рукой Чакун.
Глава седьмая
В читальном зале Ленинской библиотеки – тишина. Лишь шелест страниц да скрип перьев.
Перед Гавриловым монография о строителе Казанского собора и Горного института в Петербурге – Андрее Воронихине. Судьба талантливого художника, крепостного графа Строганова, очень увлекательна, но Гаврилов устал: все–таки работать и учиться трудно.
Стрелки больших круглых часов, что висят почти под самым потолком огромного, обтянутого богатой лепниной зала, уже приближаются к десяти. Скоро защелкают выключатели настольных ламп, зашуршит бумага, и читатели потянутся сдавать книги. Студенты, инженеры, соискатели научных степеней, книгочии – завсегдатаи библиотеки с шумом хлынут вниз, к раздевалкам, и оттуда по домам. Сколько среди них талантов! А может быть, даже гениев!
В библиотеке светло и тепло, а на улице льет пакостный осенний дождик. Место Гаврилова у окна. По черному стеклу бежит вода. Качающаяся тарелка уличного фонаря жонглирует световым лучом. По Моховой бегут красные, желтые, зеленые огоньки. За Каменным мостом – черная гора Дома правительства, изрешеченная светом. Тускло мерцает отраженными огнями Москва–река.
Гаврилов думает не о том, что видит глаз. Что осень? Она всегда приходит, когда умирает лето. А дома? Они, как и слоны, живут долго. И трудяга–мост будет сто веков таскать на своей спине автомобили и троллейбусы. И кремлевским башням стоять и стоять.
Гаврилов думает о Наде Чакун. После поездки в Рузу прошло уже около двух месяцев, пора, казалось бы, и забыть об этой встрече. Но не забывается. Будто черт его попутал! Неужели его любовь к Либуше так не прочна? А наказ отца? Эх, Гаврилов, Гаврилов! Правда, он больше не встречается с Надей, но мысленно часто видит себя с ней. Надя работает в тресте, после службы приходит в контору и, в ожидании мужа, звонит знакомым, просматривает газеты либо болтает с Верой Ковшовой. Когда они поселились на улице Горького, Надя реже стала заезжать к мужу. Да и зачем было торчать в прокуренной конторе, когда у тебя чудесная квартира.
После поездки в Рузу прелести отдельной квартиры вдруг потеряли для Нади всю привлекательность – она снова стала засиживаться у Чакуна. Гаврилов старательно избегал встреч с нею. Чувство раскаяния вызвало в нем кипучую энергию: он написал в Прагу и Травнице, надеясь, что хоть дядя Либуше – старый учитель Ян Паничек – знает, что произошло в семье брата, почему не отвечают на его письма. Может быть, доктор Иржи Паничек и его дочь уже не живут в Праге? Одновременно, несмотря на совет железнодорожного, майора не писать больше никуда, он взял да и написал «наверх».
Долго сидел над письмом Гаврилов, а когда свез его на Старую площадь, стал думать, зачем он это сделал. Ну, в конце концов, какое дело главе государства до того, что он, Гаврилов, полюбил какую–то там чешку! Но тут же другой голос успокаивал его: «А почему бы тому не заинтересоваться судьбой рядового гражданина, или, как он изволил сказать, «винтика»? Разве это не является священной обязанностью руководителя государства? Не все же время рассуждать только об общем благе?»
В яблоке более десятка семечек, на яблоне несколько ведер яблок, а вырастает яблоня из одного семечка. Так и счастье народа складывается из множества судеб. Разве не так?
…Руки у Гаврилова дрожали, когда он вскрывал пришедший из Чехословакии продолговатый конверт. В нем лежало письмо Гаврилова к Паничеку и записка служащего травницкой почты Иожефа Чепички. Чепичка писал, что травницкая почта, к сожалению, не может вручить письмо содруга Гаврилова адресату, так как старый учитель Ян Паничек год тому назад умер…
Ответ «сверху» пришел в солидном конверте со штампом «Правительственная». Отличная меловая бумага, а написано в ней было до обидного мало. Как только Гаврилов прочитал, что ему «надлежит обратиться в административный отдел Моссовета», – он понял, что глава государства не видел его письма.
Из Моссовета Гаврилов шел пешком по улице Горького. Ярко горели вечерние огни. Широкой рекой лился по обеим сторонам улицы людской поток. Пестрый конвейер машин поблескивал лаком. Улыбки, смех, оживленный говор. Гаврилов тоже мог бы смеяться, как этот мужчина с розовощеким бутузом на руках. Наверно, и его сын так же лопочет. Почему он мучается? Только потому, что законом не предусмотрена любовь Гаврилова к чешской девушке. А любовь? Она считается с этим? Нет! Она может соединять черного, как скалы Нубийской пустыни, мавра Отелло и белую, как лилия, венецианку Дездемону; царя Петра и маркитантку Катрин; бедного бакалавра Карла Маркса и аристократку Женни фон Вестфален; крестьянского сына с Оки и американскую танцовщицу… Но что же делать? Куда еще идти? «Кому повем печаль мою?» Да, кому? Да и с чем идти? Что еще он может сказать? То, что он любит? Аргумент, конечно, сильный, но достаточный ли в наше время, когда для решения этого вопроса не важна любовь и не важен, тот, кто любит, а важно, на каком основании он полюбил, кого полюбил, почему полюбил, зачем полюбил?!
…Однако его просят сдавать книги, уже поздно. А на улице зябко. С Москвы–реки тянет пронизывающим холодом. Автомобили бегут на малых скоростях, разбрызгивая потоки грязной воды. Москвичи жмутся к подъездам, иные бегом спешат к метро. Другие, презрев осеннюю нуду, шагают напролом по лужам. Мотоцикл мокрый, холодный. А может быть, заехать в ресторан и обогреться?
Ресторан назывался именем какой–то реки – не то «Камой», не то «Иртышом», Гаврилов не запомнил.
В залах стоял гул. Пахло пивом и жареным луком. Под аляповато расписанным маслом на темы изобилия потолком плавал дым.
Гаврилов с трудом отыскал свободный столик. Не успел он сесть, как услышал над собой голос:
– Свободно?
– Да, – ответил он, не поднимая головы.
Худощавый мужчина лет сорока двух, однорукий, с выгоревшими бровями и темным, обветренным лицом, сел напротив Гаврилова, положил на стол пачку папирос, щелчком ловко выбросил одну, сунул в рот. Достал спичку из коробка, затем взял коробок и спичку в руку и отрывисто взмахнул. В кулаке загорелся веселый огонек. Но Гаврилов ничего этого не видел – он был занят своими мыслями. От них отвлек его однорукий – он раскурил папиросу, метнул к потолку мощную струю дыма, поёрзал на стуле и сказал, слегка краснея:
– Уж не вас ли, товарищ капитан, вижу?
Гаврилов отложил в сторону ресторанную карту и посмотрел на однорукого. И сразу же вспомнилось Востряковское кладбище, хмурый, заросший щетиной солдат в выгоревшей, застиранной гимнастерке. Вспомнилось чудное слово «фарсмагония».
За графинчиком разговорились. Однорукий был совсем не похож на того кладбищенского хмурого смотрителя. Серый костюм, сорочка с галстуком сделали его словно бы моложе. Да и как ему было не молодиться! Как только он кинул ту «казнительную» работенку на кладбище, где все напоминало ему о тленности жизни, все пошло по–иному: год он проработал кладовщиком и за этот год успел окончить курсы прорабов.
И вот с тех пор уже не один дом на Ленинградском шоссе под крышу вывел. Вот какие они, дела–то! А теперь пригласили на строительство нового университета на Ленинских горах.
– Понимаешь, капитан, эмгэу будем строить. Таких зданиев у нас еще не строили. Ну что там домНирензея на Гнездниковском – капля! Иль там Афремовский дом у Красных ворот – купец Афремов строил. Правда, когда Афремов снял со своего дома леса, вся Москва сбежалась смотреть. Ахали, охали да плевались. Раньше–то Москва не любила высоких домов. Купцам – ближе к земле, чтоб сарайчики, конюшни, погреба, поленницы… А вот мы, советские люди, по всем статьям к вышине стремимся, как. по жизни, так и по строительству. Факт, капитан? – спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: – Факт! Университет этот выдающая стройка будет. Главный корпус на сорок три этажа да шпиль со звездою на шестьдесят метров! За сорок километров от Москвы видно будет! Как маяк с моря! Вот какие дела! А вы где свою времю коротаете?
Официант принес еще графинчик. Гаврилов пил мало, а однорукий, его звали Николаем Кирилловичем Аверьяновым, пил так, как будто шибко соскучился по этому горькому для русского мужчины утешению. По–видимому, причиной тому было то, что с женой у него все еще не ладилось. Прямо Аверьянов не говорил об этом, но по оговоркам можно было понять, что хотя прораб и зарабатывал много – даже клал на книжку, в главном – «на гайке резьба съелась».
Гаврилов рассказал о своих, мытарствах. Затягиваясь дымком, Аверьянов щурил глаза, качал понимающе головой.
– Да, не по совести с тобой обошлись. Не к тому ты, видно, капитан, человеку попал. На «броневика» наткнулся. Чего, не слыхал, кто такой «броневик»? Это в народе так кличут тех, кто под бронь определился, когда мы с тобой на передовой горе полными ложками хлебали… Понял? Ну вот, а теперь, видишь ли, кое–кто из них боится, что мы, фронтовики, с места их столкнем. А зачем они нам? Жизнь в нашей стране просторная – должностев всем хватит. Ну вот ты, капитан, и наткнулся на такую паскуду. Да ты не горюй. Уладится. Нас с тобой за так, за семик–пятак не возьмешь. Налей еще!
Выпив, Аверьянов, продолжал:
– Понимаешь, капитан, мы с тобой, наверно, обойденные. Другие мужики как–то легко, как кирпич к раствору, прилепляются и к жизни и к любой бабе. А вот ни ты, ни я такого цементу не имеем.
Гаврилов слушал Аверьянова, а сам думал о том, что вот оборвалась еще одна нить: умер Ян Паничек… Ну почему он не написал в Травнице год назад? Старый учитель помог бы развязать узелок. А что теперь?.. Либуше не отвечает, разрешение на выезд не дают. А тут черт с Надей его попутал…
А Аверьянов все говорил и говорил.
– Ну что ж, капитан, – гудел он чуть–чуть глуховато, как дальний колокол, – а ведь мы с тобой еще не старые. Мне думается, упадет счастье и на нас. Я полагаю, что счастья в целом мире, как дождя на небе… И нам небось капля достанется.
Он взял рюмку, поднял к глазам и глянул на свет.
– Выпьем, капитан, за наше счастье!
И, не дожидаясь Гаврилова, выпил.
Гаврилову пришлось заночевать у однорукого: тот ни за что не хотел отпускать его и все уговаривал пойти на строительство университета.
– Ты мне сразу понравился, капитан, – говорил он, – еще там, на кладбище. Не побрезговал разговором со мной. И сейчас разделил вечер, уважил… Тяжело мне, капитан. Ходил сегодня на развод, а меня и не женили, и не развели: опять остался и женатый и фактически холостой… Фар–рсмагония какая–то!
Он уснул на полуслове, а утром виновато моргал глазами. За чаем сказал:
– Ты меня, капитан, не суди. Перехватил я вчера. – Он тяжко вздохнул. – А все через бабу свою. Не ладится у меня с ней. Говорил я тебе ай нет: на развод я вчера ходил.
– Говорил, – сказал Гаврилов.
Ну вот, с того и зашел в шалман. Хорошо еще, что с тобой, а не с другим с кем встретился… Я ведь на эту штуку немного, – он вздохнул, – больной: по наследству досталось. А тут еще баба! Не хочу я с ней жить! Понимаешь, дал ей срок, а она не одумалась и совсем искурвилась. Ну, я ведь тоже тебе не какой–нибудь… изгиляться не позволю. Ну, да ладно, хватит об этом. Идем, капитан, к нам на университет работать, а? Столько туда фронтовиков собирается! И танкисты, как ты, и саперы, и минеры, и связисты, и нашего брата, пехоты, хватает. Курсы разные открыты – и работай, и учись! На все желания ответ есть!
Гаврилов прищурил глаза и тихо сказал:
– Спасибо, Николай Кириллович! Надумаю, непременно приду.
– Ты не понимай меня, капитан, так, что я принижаю твою работу. Нет! С Ленинских гор видно, как Москва поднимается. Скажу тебе: когда глядишь оттуда, с Ленинских–то высот, сердце радуется. Растет наша Москва, шагает вперед. А ежели к воображению прибегнешь, то видишь такое, что дух замирает и горе свое росинкой кажется. Жалко, немцы в Кюстерне руку у меня отняли: такую жизнь двумя руками надо брать.
Когда Гаврилов летел на мотоцикле по набережной, ему хотелось петь. Хороший этот Аверьянов! Ведь то, что он говорил, стучится и ему в сердце. Разве он, Гаврилов, не поклялся Либуше, что будет строить этот город, слава которого звезд коснется? Скорей бы окончить институт. А с Фрунзенской уходить надо. Аверьянов прав, на университет, на передовую надо. К тому же и от Нади, от этого греха, подальше…
Глава восьмая
Косогоры, овражки, сады, обтянутые колючкой, собачий лай из–под ворот, голубятни… Что это – провинция? Какой–нибудь Задонск или Пропойск? Как–то не верилось, что в двух–трех километрах по прямой – крупнейший город мира, великая столица социализма Москва.
Трясясь по проселку, Гаврилов думал о том, что эти домишки и эти садочки, словно бы законсервированные со времен Алексея Михайловича Тишайшего, скоро будут срыты и возникнет здесь новая жизнь, без табличек на калитках – «Осторожно! Во дворе злая собака!». Встанет новая Москва. И эту новую Москву будет строить и он, Гаврилов.
Свернув с Воробьевского шоссе на проселочек, тянувшийся через деревеньку, Гаврилов поехал в сторону Калужского шоссе.
Еще издали он увидел большую толпу, стоявшую у входа в управление строительства университета. Опытным глазом сразу определил, что за народ собрался здесь. Тут были демобилизованные из армии и флота – ладные, подтянутые хлопцы, зеленая молодежь, пришедшая на стройку по призыву комсомола, и старые опытные строители. В толпе мелькали гимнастерки, бушлаты, ватники и спецовки.
Гаврилов понял, что ждать придется долго, откинул опоры, поставил на них мотоцикл, закурил и присел на седло. Но все оказалось проще, и ждать не пришлось: из управления вышел человек и спросил, есть ли среди ожидающих экскаваторщики и бульдозеристы? Несколько рабочих, в том числе и Гаврилов, подошли.
– Идемте! Вы нужны в первую очередь!
Освободившись, Гаврилов попытался разыскать Аверьянова, но не смог – Аверьяновых на стройке оказалось несколько. Разыскивая Аверьянова, он впервые увидел, как же велика территория строительства. И всюду люди, машины, железо, штабеля лесных материалов, горы красного кирпича. На строительстве университета работали не только профессиональные строители, но и солдаты и даже заключенные. Он встретил их как раз за Потылихой, над оврагом, там от станции Матвеевская Киевской железной дороги тянулась «ветка», по которой подавались строительные материалы. «Урки» возвращались с разгрузки кирпича. Их колонна тянулась черной змейкой. Шумно, со ржанием и присвистом, не обращая внимания на замечания конвоиров, они прошли мимо Гаврилова, выплеснули на него какую–то непристойную остроту и скрылись за корпусом бетонного завода. Эта встреча оставила у Гаврилова неприятный осадок.
Возвращаясь в город, Гаврилов завернул в Нескучный сад. Посасывая ароматную папиросу, долго смотрел на Фрунзенскую набережную. «Интересно, Чакун еще там?.. А зачем он тебе? Брось, хватит, Гаврилов! Скажи, что тебя тянет к Наде. Для оправдания можешь сказать, что прощание у вас было какое–то неладное. Верно?»
Вчера, когда он собрался уже ехать, Надя спросила его, заметно сдерживая волнение:
– Уходите?
Он кивнул.
– Хотите, Гаврилов, скажу откровенно, что я об этом думаю? Мальчишка вы, Гаврилов! Здесь у вас была какая–то перспектива, а там что? Таких, как вы, тысячи! – Она понизила голос до шепота: – Вы просто бежите, но вы еще придете, в ногах… – Она не договорила, как девчонка выбежала из конторы.
Почему он не остановил ее?
Эх, если б люди знали, что ждет их впереди, сколько ложных шагов не было бы сделано! Разве мог Гаврилов предполагать, что поездка на Рузу будет иметь такие последствия. Он, конечно, не верит ни в бога, ни в черта, но Надя, как видно, не зря накаркала ему страдания. Вот он теперь и разламывается между желанием и совестью. Ну на кой черт судьба столкнула его сначала с чешкой, потом с этой…
Гаврилов забыл о погасшей папиросе. Снизу, с реки и от города, несся гул. Город был похож в одно и то же время и на неспокойный табор, и на горную реку. Сизая мгла, висевшая над ним, чуть–чуть скрадывала его истинные размеры, а то и дело вспыхивающие то тут, то там огни электросварки пылали, как боевые факелы среди лагеря наступающей армии.
Город великой судьбы. Город со странными названиями улиц: Хамовники, Швивые горки, Сивцевы вражки, Собачьи площадки… Город, над которым давно уже встала заря необозримого будущего.
Внезапно Гаврилова охватил острый приступ тоски! «А может быть, плюнуть на все и махнуть куда–нибудь за тридевять земель? В Сибирь, например?»
Гаврилов остановил мотоцикл возле конторы СМУ‑12. Под тусклой лампой на приступках сидел сторож дядя Федя.
– Ты чего приехал? – сонным голосом спросил он.
– Так, – неопределенно ответил Гаврилов, достал портсигар, предложил сторожу.
Покурили.
– А чего это на твоей машине нынче новый работал? – спросил дядя Федя. – Ты в отпуске или по бюллетню?
– Ушел я, дядя Федя.
– Куда же?
– На университет.
– Учиться решил, хорошо! Ученому нынче скрозь дорога!
– Нет, дядя Федя, – сказал Гаврилов, – работать там буду.
– Это что же, на Воробьевых горах?
– Да.
– Здорово шагаешь! Здорово!
Гаврилов затоптал окурок, пожал руку сторожу и сел на мотоцикл.
– Счастливо тебе! Смотри, не загордей только! – крикнул сторож.
Несясь по вечерней Москве, Гаврилов улыбался: «Смотри не загордей!»
С Фрунзенской набережной Гаврилов выбрался на Садовое кольцо. Затем на улицу Горького и тут у Елисеевского магазина встретил Надю Чакун. Неожиданная встреча смутила обоих. Но Надя быстро овладела собой: она оттянула Гаврилова в сторонку от дверей, через которые непрерывным потоком текла людская река.
Гаврилов ждал, что Надя спросит его, как он устроился на новом месте, но Надя заговорила о другом:
– Вы любите музыку, Гаврилов? – спросила она и, не дав ему ответить, сказала, что ей удалось достать «чудные» пластинки с записями Вертинского и Бена Гутмана. Пластинки можно прослушать сейчас.
Заметив, что Гаврилов запнулся, она сказала, что в двух шагах отсюда живет ее подруга. «Чудная квартирка!» Подруги сейчас нет – она три дня тому назад уехала в Сочи, а ключи оставила ей.
– Ну как?
Гаврилов нерешительно пожал плечами и хотел уж сказать, что ему надо домой, как Надя опередила:
– Боитесь?
– Нет! – решительно, чуть оскорбившись, ответил он и спросил: – А Чакун?
– На активе, в Моссовете. Только к полночи дома будет.
Квартира состояла из одной комнаты, кухни и ванной. Обстановка дешевенькая. Ее скрашивала драпировка из ситца теплых веселых тонов, подобранного со вкусом. Понравилось Гаврилову и то, что стены не были ничем заляпаны: никаких фотографий или безвкусных картинок.
Надя сбросила пальто. На ней оказалось платье с сильным, более чем допускала скромность, вырезом, так что были видны ее маленькие груди. Пахло незнакомыми, сильными и неприятными Гаврилову, духами.
Надя быстро и притом с непринужденной легкостью накрыла низкий журнальный столик скатеркой, поставила бутылку коньяка, рюмки, какие–то сладости. По тому, как она хозяйничала, Гаврилов понял, что квартира подружки хорошо знакома Наде. Меж тем она наполнила рюмки, завела патефон и прямо с ногами забралась на широкую, покрытую дорогим текинским ковром софу. Свернулась кошечкой, но так, чтобы ее было видно Гаврилову и чтобы он был виден ей.
– Ну же! – сказала она продолжавшему стоять Гаврилову. – Садитесь рядом! Что вы стоите?
Гаврилов сел. Выпил коньяку. Затем закурил. Коньяк и пластинка за пластинкой сменялись на центробежном круге патефона… Ушел Гаврилов поздно и дома, лежа в постели, долго не мог уснуть: Надя сегодня была не такой, как тогда, в Рузе, – сегодня она была какая–то вульгарная во всем – и это платье с глубоким вырезом на груди, и коньяк, и пластинки, и разговор ее. Да и потом эта подружкина квартира, в которой она как своя. Что это – дом свиданий? Может быть, сюда вообще ходят разные люди? А Чакун? Неужели он ничего не знает? Совсем, что ли, телок?
Лежа без единой крупинки сна в глазах, Гаврилов долго не мог освободиться от навязчивых подробностей этой встречи с Надей – они наплывали на него, мешали спать. Шел четвертый час, а вставать ему теперь не в шесть, как это было вчера, а на полчаса раньше – ездить–то надо не на Фрунзенскую набережную, а гораздо дальше – на Ленинские горы, чуть ли не под Востряково… Нет, с Надей надо кончать! Никаких патефонов, никаких встреч. «Здравствуй» и «до свиданья», и все!
Как только он пришел к этому решению, явился сон, да такой молодой, здоровый и крепкий, что сразу же свалил его.
Такого размаха, такого широкого фронта работ и многолюдья Гаврилов еще не видел. И несмотря на то, что зима оказалась трудной – обильные снегопады и частые оттепели превращали землю в месиво, – Гаврилов работал с удовольствием. Его даже не раздражало и то, что теперь приходилось много времени тратить на переезды. Но к весне напряжение сказалось, и он стал уставать: стройка в одном конце Москвы, институт в другом, а общежитие в третьем. Правда, «даймлер» выручал его, но иногда Гаврилов так выматывался, что оставался на стройке и спал на деревянном сундуке в конторе прораба.
Он не огорчался и не переживал это как беду. Строительство захватило его настолько, что Гаврилов лишь изредка вспоминал о том, что где–то существуют театры и концертные залы. Что где–то, может быть, ждут и его, думают о нем.
Он давно уже не писал в Прагу и бог знает сколько времени не видел Фрунзенскую набережную.
На строительстве, как и говорил Аверьянов, «на все желания ответ есть». В наскоро сколоченном клубе каждый вечер то лекция, то техническая конференция, то совещание. Перед строителями на каждом шагу возникали различного рода проблемы, решать которые нужно было смело и быстро. Какой должна быть несущая конструкция главного корпуса? На какой фундамент поставить здание высотой в четверть километра? Как избежать колебаний в верхней части сооружения?
В России никогда не строились небоскребы, если не считать соборных и монастырских колоколен да фабричных труб. Самым высоким зданием в Москве до революции была колокольня Ивана Великого – восемьдесят один метр.
Американцы ставят небоскребы на скальные грунты. Ленинские горы – глина, а она коварна. Главный конструктор предложил вынуть на участке столько глины, сколько весит главный корпус, и поставить здание на это место.
Экскаваторщики вырыли котлован глубиной в девятнадцать с половиной метров. Бетонщики отлили ячеистую плиту толщиной в семь метров. Ее опустили в котлован, и на нее начали ставить здание…
Нет, Гаврилов правильно поступил, что пришел сюда. Да и как могло быть иначе! Пчела, не собирающая цветочной пыльцы, не дает меда. Это, конечно, хорошо сказано. И все же полного удовлетворения у Гаврилова не было. Причина? Ему не нравился проект университета. Группа академика Руднева, как казалось Гаврилову, создавала проект с намерением соорудить не столько здание, удобное для многих тысяч студентов, сколько «памятник эпохи». И действительно, и на ватмане и в макете университет выглядел необычайно помпезно. А внутри за толстым камнем стен, окованных бронзой, много парадных интерьеров, пышных лестниц, арок, переходов, тяжелых люстр, бра и канделябров и мало простоты и удобств. Помпезность лишила университет изящества архитектурных линий.
И все же на стройке было интересно. И Гаврилов решил использовать это благоприятное обстоятельство. Он работал и учился до самозабвения. Учился везде: и на экскаваторе, и в институте, и на лекциях и технических конференциях, и на совещаниях на стройке. И время мчалось с огромной скоростью. В полете этого времени старое забывалось и постепенно уходило в прошлое. И, быть может, оно совсем бы ушло, если б случайная встреча не воскресила картины прошлого.
Шедший справа большой автобус–лимузин линии «Площадь Свердлова – аэропорт Внуково», застигнутый красным светом, чуть не наехал на Гаврилова у стоп–линии при въезде на Малокаменный мост. Он хотел было отчитать «раззяву», но когда посмотрел в кабину – застыл от удивления: за баранкой сидел…
– Морошка! – крикнул Гаврилов.
Шофер обернулся, настороженно сощурил глаза, затем поморгал ими, опять вприщур посмотрел на Гаврилова, улыбнулся такой знакомой улыбкой и кинулся к дверце.
– Капитан! Вы!
Следуя за автобусом, Гаврилов доехал до «Метрополя».
У Морошки была крохотная комната в Петроверигском переулке, в той его части, которая круто спускается к Солянке.
Дом каменный, старый, стены толстые, окошечки маленькие, как смотровые щели крепостного бастиона. Жена у Морошки смуглая и тугая, как слива. Был еще маленький Морошка. Крохотный, тонкошеий хлопчик на суховатых ножках и с большой головой. Держался он, как отец: прямо и с каким–то ленивым величием.
– Бисмарк растеть! – сказал Морошка, показывая на сына. – Ось яка голова! Если будет умом набита – куда тогда нам, дурным, податься? Ну, иди к мамке. Дай старым фронтовым товарищам поговорить. – Отец что–то сунул сыну и помог переступить порог.
Судьбы людей – не русла рек: Морошка всю войну мечтал вернуться к себе в Ново—Алексеевский район Воронежской области, на завод эфирных масел, где он до войны работал механиком и где оставил, уходя на фронт, любимую девушку Симу Бубекину.
Как же спешил Морошка домой из Маньчжурии после демобилизации!
Дома Морошка нашел все на месте. Мать, бодрая и такая же неугомонная, продолжала работать на том же заводе, где работал и он; его должность ждала своего хозяина.
Но Симка Бубекина не дождалась – вышла замуж. Ну что ж, вышла так вышла: все девушки, за редким исключением, выходят в конце концов замуж. Хоть бы за стоящего человека… Нет! Соблазнилась теплым местом мужа – заведующего чайной, мордастого хитрюги, который сумел улизнуть от военной службы.
Морошка прожил дома три дня. Он не мог больше видеть Симку Бубекину с этим… Перед отъездом они все же встретились. Симка плакала, винилась перед Морошкой. Жаловалась на свою судьбу. Морошка молчал. Это еще больше расстраивало Симку. Когда они расставались, Морошка сказал:
– Слухай, Сима! Что было, того не вернуть. А за жизнь твою с этим… – он долго не мог найти подходящего слова и, так и не найдя его, сказал: – сама перед собой ответ держи.
На следующий день Морошка попрощался с матерью и уехал в Москву. Два года сидел за баранкой на фургоне «Скорой помощи». Не выдержал – ушел. Смерть и кровь надоели и на войне. Стал таксистом. Работенка муторная, перешел на автобус.
Гаврилову давно пора было уходить, но Морошка не отпускал: «Ще трошки», – говорил он. Однако Гаврилов чувствовал себя неловко: малыш давно уже клевал носом, да и гостеприимная хозяйка то и дело прятала зевок в ладошку. По–видимому, в этом доме рано вставали и рано ложились спать. К счастью, родители догадались уложить мальчика на диван, и он быстро уснул. А друзья–однополчане продолжали сидеть…
Сколько же было переговорено в этот вечер за чудесной смородинной наливкой, которую готовила сама хозяйка! Сколько воспоминаний прошло перед друзьями. От Морошки Гаврилов узнал о Бекмурадове и Скурате. Подполковник Скурат был уже на «гражданке». Морошка встретил его в Институте нейрохирургии, когда работал на «Скорой помощи». Бекмурадов получил чин генерала и теперь командовал крупным танковым соединением, входящим в состав оккупационных войск в Германии.