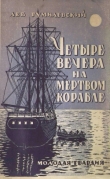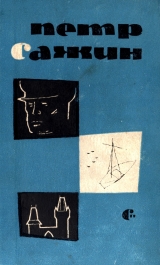
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
Веселая была работка на переправе! Как–то за сутки мы сделали тринадцать рейсов: снарядов и пехоты перебросили страсть сколько! Прибывает на Чушку генерал Петров и спрашивает: «Кто герой сегодня на переправе?» Ему докладывают: «Шхипер Шматько Александр Данилыч!»
Генерал требует: «Позвать ко мне героя!»
Капитан третьего ранга, начальник переправы, фамилия его быдто Мещерский, – забывать я стал, – говорит: «Дозвольте объяснить, товарищ командующий?»
Генерал ему: «Дозволяю».
Тут капитан третьего ранга, этот самый Мещерский, если моя память не изменяет, и докладывает генералу, шо у меня ноги нет и шо я могу, конечно, прийти, но на костылях, генералу долго ждать придется.
«Не беда, – сказал генерал, – я сам пойду до товарища Шматько. Проведите меня!»
Приходит генерал на сейнер. Я ему команду выстроил. А сам стою на костылях и форменно рапорт отдаю. Генерал пожал каждому руку. Молодцами нас объявил и дал пожелание дальше так держать. А через неделю читаем в военной газете указ, и там, промежду прочим, напечатано: «Наградить Шматько Александра Даниловича, шхипера сейнера, орденом Красное Знамя». Газетку эту храню, как алмаз. Расписано про меня, шо не приведи бог!
Знаешь, Лексаныч, война – дело проклятое! Но я весело воевал. Не думай, Лексаныч, я ить не для форцу говорю, нет, я просто тогда человеком себя почувствовал. А вот в собесе вертели мои документы и так и сяк и ничего не сделали. Я на костыли – и в райздрав. Там говорят: «Ежели вам нужно лечение, – пожалуйста, а протезы – не наше дело». Я обратно на костыли – и к Скибе. И этот пыхтун окаянный: «Нет, не можу!»
Как видишь, Лексаныч, не много нужно для счастья. Но шо получается? Автомобили строятся, самолеты такие, шо за границей от зависти всякое брешут на нас, а вот ног для инвалидов таких, шоб человек не отставал от время, не можем сколько надо наделать! А ить это не мне одному нужно; война обезножила многих людей, и среди них есть такие, шо, будьте покойны, дали бы кое–кому прикурить.
За счастье, говорят, надо бороться. А кто не борется за него? Я не боролся? Мы с Дуняшей не боролись? Мы даже в талисмант верили, а шо получилось?
– А где же ваш талисмант? – спросил я.
– В море…
– Как же это случилось?
– Я ж тебе говорил, Лексаныч, шо Дуняша вышла замуж за слободского рыбака? Ну вот. Когда мы с Машкой переехали в Слободку, я встретился с Дуняшей. Как мы встретились? О! Все равно как в кино, Лексаныч! Постой, говорил я тебе, шо был в ватаге Сергея Митрофановича? Ну да, говорил! В энтот день шли мы от Белосарайки. Под парусами, конечно, моторных судов тогда на море всего раз, два – и считай сначала. Ветерок был свежий. На буксире у нас две калабухи: в одной сетки, кухтыли, канаты, анкерочки, словом, всякая рыбацкая сбруя, в другой до шкарм рыбы налито. Какой там бичок! Бокивня! От какая! Зараз такую редко встретишь. Вымокли мы, когда сетки выбирали, а на душе как в праздник. Идем, значит, поем: «По Дону гуляет казак молодой…»
Обогнули косу, стали к Слободке заворачивать, видим, подчалок в бухте болтается и какой–то человек, с виду вроде баба, платком машет. Подвернули. Верно, баба. Бледная. Глазищи – во! Лица на ней совсем нет. Трепещет, как шемайка в неводе. «Помогите, – говорит, – человек мой умирает!»
В подчалке на сланях лежит он, бледный чисто мертвец.
«Так это ж Андрей Загребальный, – говорит Сергей Митрофанович, – давайте, хлопцы, его на шхуну».
Рыбаки к подчалку, а я сижу, двинуться не могу, сердце у меня перестало биться: «Мамочка родная, так это ж Дуняша! А в подчалке ее муж». Я узнал ее не с лица, а по голосу, а она меня быдто и не видит…
Так… Взяли мы Андрея на шхуну, вслед за ним и она перешла, а подчалок на буксир. Идем. Темнота стала нас накрывать. Я сам не свой. Признаться ей неловко и так сидеть, как дураку, тоже вроде нечего. Думаю, думаю, как мне быть, и ничего придумать не могу. Ить я не видел ее два года.
Пришли в Слободку, стало темно совсем. Сняли Андрея – и на берег. Он был припадочный. Нет, не от рождения: с войны такой пришел. Контузия у него была. Ну вот, пока тут Андрея снимали да подчалок вытаскивали, я поймал момент и подошел к ней. Она узнала меня сразу.
«Ох, Саня! Видеть тебя хочу… На зорьке будь здесь. Будешь?» Я сказал, шо да.
– Ну, и вы пришли?
Данилыч не сразу ответил.
– Пришел, – сказал он после паузы. – Всю ночь ждал. На берегу–то перед Слободкой неудобно было, так мы к лиману прошли… Тяжкой была эта встреча.
У обоих у нас счастья не было: ну, тоись оба жили с нелюбимыми людьми. А куда денешься? Уговаривала она меня бросить Машку. А как я мог ее бросить? Сын в зыбке качался, и опять же, куда я уйду с одной–то ногой! Не–ет, Лексаныч! Этого я не говорил ей, а про себя думал. Я за ней на край света убег бы! Ить я понимал, Лексаныч, шо если соглашусь с Дуняшей и брошу Машку, как же сыну в глаза глядеть буду и какую такую жизнь дам я Дуняше? Ну вот я и свершил жестокость…
– Какую же?
– Какую? Я сказал Дуняше, шо не могу бросить Марью. Она спросила: «Почему?» Я сказал, шо… люблю Машку.
– Как же она отнеслась к этому?
– В слезы вдарилась. «Эх, – говорит, – а я – то любила тебя, ждала как! Думала, пусть без ноги – только б сердце было цело! А выходит, тебе не ногу, а сердце отняли».
Эх, Дуняша, Дуняша! Знала бы она, шо с моим сердцем делалось в энтот момент! Но она ничего не могла видеть: глаза у нее были в слезах, а я стоял как деревянный, как самый последний дурак. Знаешь, Лексаныч, какие силы нужны, шоб вот так: любишь человека больше всего на свете, а показать ему другое?.. Ну, шо делать? Вынула тут Дуняша из–за пазухи моего льва африканского и говорит: «На, и забудь обо мне».
С этими словами повернулась и пошла. Эх, Лексаныч! Сколько сил мне стоило, шоб не крикнуть ей! Постоял я, постоял, пока Дуняша не скрылась, взял того львенка да пульнул в море. Он чокнулся в воду, как граната. Скоро на море ветер поднялся, волну развел, небо тучами затянуло.
– Больше вы не виделись с Дуняшей? – спросил я.
– Отчего же не видеться? Виделись, коли в одной Слободке живем!
– А что она делает?
– Шо все бабы, по хозяйству.
– Дети есть у нее?
– Дочь. Да ты видал ее, Лексаныч, перед тем как нам в море уйти.
– Галинка?! – с удивлением и восторгом спросил я.
– Она самая.
– А эта… женщина, что с ней, и есть Дуняша?
Данилыч насупился, привстал и сказал:
– А нам, Лексаныч, пожалуй, собираться надо. Скоро море уляжется. – Он пристально смотрел на горизонт, усиленно затягиваясь дымом. Докурив, он швырнул цигарку. Лицо его будто посветлело. – Та женщина, – сказал он, – шо была с Галинкой, и есть Дуняша.
63
Все было, как сказал Данилыч: небо за ночь вызвездилось, и утро явилось чистенькое, молодое, румяное. Улеглось и море. Просыхающая земля была необычайно добра. От нее струился какой–то изумительный аромат.
Под командой Данилыча я спустил лодку на воду. Мотор «уперся», и пришлось нам идти на веслах до Должанской. Я не выдержал, или, как говорят, сорвался, и изругал Данилыча за то, что он не взял с собой ни рангоута (мачты), ни паруса. У нас же на шлюпке все было предусмотрено для несения паруса: в кильсоне был сделай степс – гнездо для мачты; на планшире – «утки», «ушки» и вант–путенсы для оттяжки мачты… Словом, мы смело могли бы пройти добрую часть пути под парусами. Но увлечение техникой, видно, и на старых людей оказывает свое магическое влияние.
Кореш Данилыча, Пал Палыч, дюжий, средних лет рыбак, в прошлом корабельный кок, исколесивший почти весь мир, с какой–то немыслимой татуировкой на голых руках, ходил около своей хаты и мрачно плевался, ругаясь на разных языках мира: пронесшийся ураганный ветер сорвал с его хаты крышу.
В этот день нам пришлось посидеть на консервах и помидорах. Зато, лишь успело проклюнуться утро следующего дня, как я был разбужен острым, но приятным запахом.
Поднявшись, я увидел казан над костром. Этот запах исходил из–под ритмично подпрыгивающей крышки казана. В нем варилась «юшка–екстра». Около казана сидел Пал Палыч. У него были красные, лоснящиеся щеки и тот хитровато–довольный вид, который бывает у поваров, когда они уже уверены в том, что сготовили не просто хорошую пищу, а чудо.
Скоро явился Данилыч, и мы расположились в просторной беседке вокруг казана с его сногсшибательным ароматом. Я не могу описать вкуса «юшки–екстры» так, как это однажды вдохновенно сделал Данилыч. Юшка имела сложный букет ароматов. Но ни одна пряность не потеряла себя в этом букете. Чувствовались и перец, и лук, и картофель, и морковь. И вместе с тем было что–то новое, общее, что они образовали вместе с рыбой и солью.
Юшка с виду была легкой и жидкой, но, когда ее глотаешь, она кажется густой и тяжелой, как прованское масло или столетнее вино. Она казалась остывшей, но стоило забыть подуть в ложку – и прощай язык!
А впрочем, пусть никто не мучает меня расспросами об этой юшке, рассказать о ней все равно невозможно: она создана не для рассказов, а для наслаждения. Я могу лишь сказать, что если действительно существует пища богов, то «юшка–екстра», по–видимому, с их стола!
64
Неделю мы гостевали в Должанской у Пал Палыча. Данилыч с утра и до сумерек бился с мотором. Он осыпал его то ласковыми словами, то умопомрачительной бранью, которая в устах моряков звучит как стихи, если не докапываться до истинного смысла ее слов… Данилычу хотелось доказать, что мы без чьей–либо помощи свободно дойдем не только до устья Дона, но и хоть «до самого Кискинтинополя».
Мотор, установленный на козлах за хатой Пал Палыча, то ревел, как пролетающий над головой самолет, то был нем как рыба.
Пал Палыч торчал на крыше, а я подавал ему пучки камыша и глиняный раствор. Работа у нас заметно подвигалась вперед. У Данилыча же, по его собственному выражению, «черт на дьяволе женился».
Кто из них был черт, а кто дьявол?..
На третий день мы с Пал Палычем ликвидировали последствия шторма. Крыша, аккуратно выстланная камышом, расчесанная граблями, политая глиняным раствором и подрезанная снизу, стала предметом зависти сначала соседей Пал Палыча, а затем и всей Должанки.
Но крыша крышей, а мотор у Данилыча все еще «барахлил». Между тем после шторма погода резко свернула на осень: дни пошли жаркие, а зори и ночи холодные. На деревьях пожухли листья, резко начала сохнуть арбузная ботва. Только тыква была зелена и лезла своим прилипчивым шнуром по плетням и завалинкам, цепляясь крепким усом за все, что попадалось на пути. Ее огненно–желтые цветы, похожие на крошечные граммофонные трубы, жадно тянулись к небу. А небо было высокое–высокое и такое прозрачное, слепящее, чго летевшие в Африку, на теплые воды Нила, журавли почти терялись в нем, только слышалось их курлыканье.
В садах сняли позднее яблоко и грушу. На деревьях осталась лишь слива, покрытая сизоватым налетом.
Словом, пришло на Долгую косу бабье лето – жаркое, как всякая поздняя любовь. Станица радовалась богатому урожаю и торопливо готовилась к встрече хозяев. Женщины солили впрок «синенькие», «помидору» и огурцы; ребятишки резали яблоки на «сушонки»; почти на каждой крыше (на летней кухоньке) разноцветными каменьями играли резанки яблок и груш. Кое–кто «мочил» яблоки и парил в печах груши, готовя их на долгую лежку.
Да и как было не готовиться? Ведь «чоловик» притащит с моря тарань для вяления и, чем черт не шутит, рыбца! Хоть и не богато было море теперь этой рыбой, но рыбаки, если захотят, со дна достанут. Значит, важно было рыбакам «захотеть». А так как они знали, что жены их встретят не только жаркими поцелуями, но еще и вином и всякими соленьями, то наверняка захотят и… достанут.
Так говорил мне наш гостеприимный хозяин, мастер кровельного дела и кулинарии, или, как он называл себя, «кок дальнего плавания», Пал Палыч Кваша.
И на четвертый, и на пятый, и на шестой день Данилыч не мог наладить мотор. Меня охватило беспокойство, о чем я ему и сказал прямо. Он же с присущей ему страстностью стал уверять, что через день–два все будет в порядке и мы смело можем двинуться в гирла Дона, захотим – побываем в древнем городе Азове и даже в «великом мiсте Ростове», где у Данилыча тоже есть кореш, он напоит и накормит так, шо из–за стола не встанешь.
Он рисовал мне перспективы одну заманчивее другой: и каких мы там в гирлах «визьмем» чебаков, и как нам их в тесте запекут «скусно так, шо начнешь есть и не остановишься…». Я верил Данилычу, что это вкусно, допускал, что можно «ум проесть», однако болтаться без дела после того, как кровля над домом Пал Палыча была закончена, мне надоело. Я это говорю не потому, что меня стала заедать скука, с Данилычем мне не было скучно, тем более в Должанке был еще и «кок дальнего плавания» Пал Палыч.
Чего только не наслышался я от него за эти дни! Он «говорил за жизнь у Сингапуре, Коломбо, Калькутте…». И вообще в станице не было скучно: из усадеб неслись песни. И как было не петь? Стояла ласковая, теплая осень. И море было на редкость спокойное. У берега в прозрачной сонной воде замокали бочки. Ребятишки допоздна не вылезали из моря. Воздух в станице был пропитан медом и плодами золотой осени…
Я встал вместе с солнцем, когда над морем еще висела легкая дымка, а от воды тянулся раззолоченный утренним солнцем парок, когда воздух слегка обжигал тело, а вода была тепла и ласкова, как материнская рука. Восхитительное утреннее купание, затем поход на край косы, где на отмелях я занимался своей обычной работой: брал пробы грунта, вел опись разнообразного морского «населения». Здесь ничего не было нового: те же ракообразные и черви, моллюски, коньки, рыба–игла… Однако по тому, какие виды преобладали, можно было определить, что за рыбы пасутся здесь… Во время этих походов и работы на косе я о многом передумал и принял решение не ходить к гирлам Дона: для серьезной работы не было времени, а для веселой экскурсии не хватало легкомыслия.
Дон – сложная и серьезная река. Его режим после постройки Цимлянской гидростанции значительно изменился. Нужно много времени и, я думаю, требуются усилия многих людей для того, чтобы изучить этот новый, сложившийся в результате гидростроительства режим. Ведь на свете не так уж много рек, длина которых равнялась бы двум тысячам километров! Дон, как известно, берет свое начало из Ивановского озера в Московской области. Ему до двух тысяч не хватает всего лишь тридцати километров! А площадь бассейна этой великой реки равна 442 500 квадратным километрам!
На пути к морю Дон принимает десятки приточных рек. Если даже и не касаться всех проблем Дона, хотя я не понимаю, как этого можно избежать, а обратить внимание лишь на изучение устья реки, то и тут труд одного человека ничего не даст. Дон в устье образует дельту площадью триста сорок квадратных километров. Она начинается в шести километрах от Ростова и тянется на тридцать километров множеством рукавов и проток, разлившихся на ширину в двадцать два километра. Тут Мертвый Донец, Каланча и Старый Дон. Ближе к морю эти рукава и протоки делятся в свою очередь на новые, теряясь в зарослях камышей и рогозы. Где же мне справиться с такой махиной, даже если Данилыч и будет готов всегда помогать мне? Сколько же нужно времени только для осмотра всей этой уймы ериков, стариц, проток и рукавов?
Правда, я не хотел бы, чтобы кто–нибудь понял меня так, что Дон – это неведомая пустыня, нет! Бассейн реки хорошо изучен советскими учеными, и сейчас не было б большой нужды в поисках какой–то новой истины, если бы не условия, возникшие в связи с постройкой Цимлянской гидростанции. Цимлянская гидростанция смонтирована на плотине длиной в тринадцать с половиной километров. Это знаменитое гидротехническое сооружение намыто из песка на месте станицы Кумшанской. У подножия плотины плещется море, уже воспетое поэтами.
Действительно, и само новое море, и плотина, и новые станицы, выросшие в этих местах, и дороги, и электричество – все прекрасно, как сказка. Но в этой сказке есть и проза, существо которой и обеспокоило гидробиологов.
В первый же год пуска станции к плотине подошла стая белуг. Встретив препятствие, рыбы стали силой пробиваться через плотину. Несколько часов огромные икряные белуги таранили своими мордами бетон. Окровавленные, выбившиеся из сил, они перевернулись кверху пузом и тут легко стали добычей счастливых охотников.
Почему рыбы так настойчиво хотели пробиться через плотину? Ответ простой. Стая белуг шла на нерест по своему извечному пути, а на этом пути стояла плотина.
Неожиданное препятствие все перевернуло в жизни Дона и породило сложнейшие проблемы, и первую из них – проблему миграции рыб, и следующую за ней не менее важную проблему – обогащения Азовского моря солями и различными так называемыми «взвешенными частицами», ранее в больших количествах поставлявшимися очень старательной фирмой «Дон и сыновья».
Сии проблемы не маленькие, и над разрешением их трудится немало ученых. Дон – одна из величайших рек Европейской части СССР после Волги, Камы и Днепра.
Вот почему, поразмыслив, я решил отложить плавание в гирла Дона. Дело это очень увлекательное, но к нему нужно подготовиться основательно.
Как только Данилыч приведет в боевую готовность мотор, мы отправимся в Ветрянск. Я ему пока ничего об этом не говорю: зачем расстраивать верного друга, готового ради моего дела на все? К тому же и собранный материал не мог лежать без движения. Мы исследовали ряд кос и расположенные на них лиманы; сделали несколько, выражаясь ученым языком, «разрезов» в устье Кубани, в Талгирском гирле, в Протоке; много материала дали и дни, проведенные на рыбозаводах. Особенно удачными оказались «станции» в бухтах на кубанской стороне. Проведенные нами работы показали то, что и до нас было хорошо известно. Если бы за Азовским морем последить, то есть произвести мелиорацию нерестилищ, почистить дельты рек, протравить надводные и подводные заросли, дать удобрение в местах откорма рыб и, наконец, опираясь на опыт капитана Белова, произвести перемещение в границах бассейна ряда морских организмов, запустить новые объекты из других бассейнов, – Азовское море можно было бы снова сделать самым богатым. И это нужно сделать!
Вот поэтому я и решил более широко ознакомиться с жизнью моря, а не сосредоточиваться только на изучении морских цветковых растений.
Конечно, в Москве без скандалов не обойтись из–за того, что я самовольно меняю тему диссертации. Но что же делать? Лучше скандал за настоящую работу, чем благодарность за… я не решаюсь сказать… ерунду. Нет. Не могу я так говорить. Тема о морских цветковых растениях очень важная, но, мне кажется, в данный момент не первостепенная. Я уверен, что профессор Сергейчук меня поддержит. Поддержит потому, что проблема всего моря – проблема общенародная. Не я меняю направление моей работы, а Данилыч, капитан Белов, Стеценко…
Словом, все складывалось так, что не я сам должен был решать, что мне делать в первую очередь и что во вторую, а жизнь подсказывала мне ближнюю цель.
65
Данилыч был недоволен моим решением: он ходил мрачный и собирался в поход нехотя. Наконец Пал Палыч сготовил нам прощальную юшку, да такую, что мы с трудом вылезли из–за стола.
Мы не пошли к Белосарайской косе, где я предполагал еще раз посмотреть район «трех крестов». Материал, которым я располагал, показался мне достаточным для того, чтобы написать диссертацию о неотложных проблемах Азовского бассейна. Теперь, когда я ознакомился с морем, самое время побывать в Керчи, в Азово—Черноморском научно–исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии, научные сотрудники которого уже много лет изучают жизнь этого моря. Там я рассчитывал получить необходимые консультации и некоторые данные.
Мы взяли курс на Ветрянск.
Только у Ветрянской косы, когда в сизой дымке жаркого дня показались крыши Слободки, Данилыч оживился и замурлыкал песенку.
– Вот мы и дома, – сказал он. – Между прочим, Лексаныч, хотел я тебя спросить… Вот ты скоро в Москву возвернешься, человек ты ученый, доклад представишь обо всем, так?
– Так, – сказал я.
– А шо ж будет с нашим морем? Будет ли какой порядок здесь? Вот у нас зараз до моря касается столько хозяев, а порядка, сам видел, нет! Тут и Крым, и Запорожье, и Ростов, и Краснодар – у каждого свои планы: побольше бы рыбки добыть. А шо, ежели б, Лексаныч, центр, ну, Москва взяла б да сделала над морем одного хозяина? А? Ну, скажем, начальника моря… А при нем ученые, наблюдатели всякие, рабочие по уходу за морем. Дали б этому начальнику моря парочку вертолетов, катера, а главное – права. Вот недавно, помнишь, рыбозавод не принял рибу, в море вылили бичка, а начальник моря не допустил бы, он приказал бы продать эту рибу населению.
Еще скажу тебе: нынче министр дает приказ ловить иль не ловить рибу, так? Да ведь он далеко! А начальник тут будет жить, он все руками, как говорится, пощупает, пока даст приказ ловить иль не ловить. Вот, скажем, у нас на море сейчас планы выполнять нечем, кроме бичка… Чебака такого, шо был раньше, нет, да и судак тоже… Он, конечно, есть, но опять же не тот, как говорится, маленький. И с красной рибой беда. Вот начальник моря и сказал бы: мол, бичка может дать, а за остальное не ручаемся. Ежели спросят, отчего это, он объяснил бы, шо, мол, два раза в одночасье корову не доят… Уж очень здорово тут раньше хозяиновали! Надо подождать тревожить море, пусть рибка маленькая в покое поживет, подрастет. А тем временем мы с учеными море почистим, удобрение дадим, потравим паразитов. Море, оно ить тоже, как сад, уход любит! Вот как, Лексаныч, надо!
В позапрошлом году к нам приезжал один деятель, весь в коже, скрипит на нем все, руку подымет – скрипит; в карман за платком полезет – скрипит; за спичками или там порсигаром – тоже скрипит… В то время ловить даже бичка нельзя было – нерест начался. А он: «Давай, давай, план должен быть выполнен! Народ требует. Страна ждет!..»
В общем, все про народ и народом клянется. А мы для него уже не народ, потому что мы видим, шо нельзя брать вместе с тюлькой сеголетку осетра. Тюлька, хрен с ней! Она не вырастет, а из сеголетки осетра размером со спичку вырастет риба самое меньшее с полено! А он готов море через сито процедить… Вот оно как дело обстоит, Лексаныч!
И ты, ежели хочешь, шоб тебя народ наш уважал, доложи там в министерстве.
Я обещал. Данилыч был доволен. Он «дал газку», и наша моторка лихо подлетела к причалу.
66
Лодка вытащена на песок, мотор водворен в склад, вещи унесены домой. Экспедиция закончилась. Я отправился на почту, где и получил кипу писем и две телеграммы. Из множества слов, присланных в мой адрес по почте и телеграфу, деловыми были слова о выезде в Москву. Стало быть, любая экспедиция, кроме поездки в Керчь, отпадала.
Тут же с почты я позвонил в порт. На мое счастье, пароход в сторону Керчи отходил на рассвете. Мне нужно было побриться, собрать кое–какие материалы – времени было не так уж много. Но я всегда любил плотное время: оно ограждает от расхлябанности.
Когда я кончил бриться и занялся подбором записей, нужных для предстоящего в АЗЧЕРНИРО разговора, мне пришла на ум мысль: уехать в Москву через Керчь. Ну что я буду мотаться, как говорит Данилыч, «взад–назад»: сейчас в Керчь, потом из Керчи обратно в Ветрянск? Ради чего? До порта километра четыре и там, в Керчи, от порта до института, вероятно, не меньше. Чего проще проститься с Данилычем и в путь–дороженьку. Хорошо? Хорошо! Но тут же рождается другая мысль: «А как же с капитаном Беловым? Он на промысле. Уехать, не поговорив с ним? Нет! Мне обязательно нужно возвратиться из Керчи. Капитан Белов может рассказать много интересного! Да и в горком партии к Маркушенко нужно зайти. Итак, сейчас в Керчь – там быстро закончить дела и обратно. А уж из Ветрянска домой!»
…Через час я вышел из хаты. День был жаркий и ясный. Небо безоблачное. Только далеко–далеко на горизонте бежали небольшие стайки облаков, и море стояло гладкое, без единой рябинки, словно неживое. Мне бы, конечно, не стоило выходить, а лечь да выспаться как следует: к пароходу потребуется вставать в четыре утра. Но что ж скрывать от самого себя: я вышел из дома с тайной надеждой встретить Галинку, а причину, что мне нужно съездить в порт и проверить, действительно ли пароход на Керчь отходит на рассвете, я придумал. Да, придумал! И притом хорошо понимал, что придумал. Но вот взял и обманул себя, и мне как–то стало легче, я верил в счастливый случай. Да. И потом, мне казалось, что если я не выйду из дома и на заре уеду в Керчь, не пройдясь по Слободке, – потеряю что–то очень большое, невозвратимое.
Я съездил в порт. Назад возвращался пешком. Слободка была пустынна и тиха: рыбаки еще не вернулись с промысла. На улицах привольно купались в пыли куры да изредка навстречу попадались дородные хозяйки, возвращавшиеся с позднего базара. На берегу у прибрежной воды хлопотали гуси и утки, копошилась детвора. Мальчишки, вырвавшись из–под материнского глаза, облепили колхозный причал, как воробьи плетень. Я подсел к ним и стал наблюдать за тем, как они ловко таскали из моря бычков–хрусталиков. Они брали добычу «на поддев», то есть примерно так же, как на севере ловят треску. Этот способ немудрящий: опускают крючок с грузилом на дно и ведут лесу сначала тихо, а потом рывком вымахивают крючок из воды. Глядишь, а на нем извивается тупорылый, усатый, вымазавшийся под цвет донного песка, лупоглазый дурачок.
Но меня интересовало не это. Я попросил у одного из парней удочку и тоже попробовал взять бычка «на поддев», чтобы проверить, легко ли он отрывается от дна. Дело в том, что бычок имеет на брюхе вместо плавников присоски (видоизмененные плавники), с помощью которых он присасывается к грунту, да так крепко, что его не в силах оторвать даже штормовая волна! Кто из жителей приморских городов и селений не видел, как во время шторма волна перекатывает многопудовые камни, разбивает причалы, обрывает толстые якорные канаты? Картина в приморском городке весной или осенью обычная. Иногда шторм наносит столько вреда! Но многие ли знают, что в то время, когда у набережной рычит и колотится яростная волна, тут же у берега на дне неподвижно лежат присосавшиеся к грунту жалкие с виду рыбешки…
Я ловко подцепил бычка. Очевидно, он не ожидал над собой такого насилия и поэтому не держался за спасительный грунт. Тем более, море было как зеркало и в нем купалось небо с реденькими облаками.
Я возвратил парню удочку и пошел домой. Я шел медленно и все озирался по сторонам. По пути заглянул в чайную, затем прошел «до Гриши», посидел немного на опрокинутой вверх килем калабухе у детского пляжа. Увы! Галинка не встретилась мне.
Стало смеркаться, пора было возвращаться домой спать, и я уже собрался идти, когда увидел ее. Она шла к морю. Сердце мое словно упало и замерло. Сколько я ждал этого момента! У меня уже было все продумано и что и как я скажу ей, а теперь все куда–то улетело, никаких мыслей, никаких слов, ну, ничего.
67
Домой я возвращался полный ощущения какого–то необычного счастья. Нет, я не говорил с Галинкой, не держал ее руку в своей, не смотрел ей в глаза… Почему же тогда я говорю о счастье? Я видел Галинку, да так близко, что слышал ее дыхание. Я хотел сказать «здравствуйте», как принято говорить всем, даже незнакомым, в сельской местности и в рыбацких становищах, но в последний момент потерял смелость.
Так прошли мы мимо друг друга. Я долго смотрел ей вслед. Она шла легко, словно не касалась ногами земли. Я стоял на берегу до тех пор, пока Галинка не скрылась в проулке. Она ни разу не оглянулась.
Подходя к калитке, я услышал шум в хате: Данилыч ругался с женой. Только я хотел от калитки повернуть к берегу и переждать, пока мои хозяева исчерпают все аргументы друг против друга, как вдруг услышал слова Данилыча, которые остановили меня.
– Жаба ты! Кулачка проклятая! – шумел он. – Как же ты смела спросить у Лексаныча деньги? Да я ж с ним не за деньги пошел в море! Теперь шо он обо мне думает, га? Ты подумала об этом! Или, быть может, ты меня спрашивала, брать или не брать деньги? Сейчас же отдай! Сама отдай! Слышишь? Не отдашь, так я твой сундук куркульский в щепы искрошу, изничтожу, как нечисть проклятую. Поняла?
– Не отдам! – прокричала она. – Мои деньги! Мне, не тебе даны, голоштан окаянный!
Я не знаю, чем бы все это кончилось, если б я не вмешался; Марья уже заорала благим матом «караул!», когда я подошел к хате.
Мы легли спать лишь в одиннадцать часов – три часа длились семейные дебаты, и кончились все на том, что Марья, всхлипывая и жалуясь на свою горемычную судьбу и вспоминая отца, который, если бы был жив, показал бы «голоштану окаянному», долго рылась в сундуке и наконец вышла из спаленки и со злостью швырнула деньги на стол и ушла в летнюю кухоньку, где она спала, когда было слишком жарко или в те дни, когда ругалась с Данилычем.
Она долго плакала и причитала о своей горькой судьбинушке. Мне, признаться, даже стало жалко ее.
Деньги остались на столе: я категорически отказался брать их обратно, а Данилыч ни за что не хотел, чтобы он или его хозяйка брали их с меня. Он говорил, что никогда не поклонялся деньгам и «доси живет не для денег». Деньги лежали на столе и в четыре часа утра, когда я уходил в порт.
Данилыч встал, чтобы проводить меня. После ссоры с женой он чувствовал себя неловко, будто это не Марья, а он был виноват во всем. Выставив на стол бутылку вина и стаканы, он предложил выпить за мою поездку в Керчь. Я отказался. Он вздохнул и сказал:
– Эх, Лексаныч! Шо–то сердце у меня болить. Ну так болить, так болить…
Я показал на бутылку и сказал:
– Вот отчего.
– Нет, – возразил он, – не с того… Пойти бы и мне с тобой в Керчь и даже еще дальше: куда–нибудь в Индийский океан… иль на какие там острова… Тяжко мне одному оставаться… Привык я к тебе… И нравится мне эта работа, жизнь новую смотришь, большим человеком становишься, быдто на двух ногах ходишь. А ты, Лексаныч, с Керчи вернешься и сразу в Москву? А может, сходим к Бирючей косе? От там богацкая жизня! Птицы – на миллион!.. Лебедь, когда на зиму у Египет летить, у нас останавливается: на Обиточной и на Бирючей косах. Бывает, шо зима мягкая, так той лебедь силу экономить, в Африку не летает, прохлаждается у нас до весны. Расчетливая птица. А кефаль там какая! Да шо говорить! Райские места!
Он вздохнул.
– Шо ж, дело твое – не мое… Не можешь – тут ничего не сробишь. Но ты, Лексаныч, там, в Москве–то, море наше представь в полном виде: ничего не отбавляй, скажи, шо, мол, народ тут такой, крикни, шо морю помочь нужно, – все пойдут, даже бабы, про ребятишков и говорить нечего… Ну, заговорил я тебя. Попутный тебе ветер, Лексаныч!