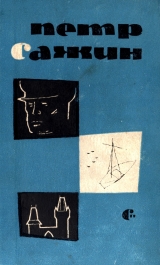
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
Когда мы поставили на стол пустые бокалы, Плужник положил руку мне на плечо:
– Вот что, старина, придется тебе расстаться с твоим «трамваем». Предлагаю любой из трех китобойцев… Как ты смотришь на это?
Я задумался, а Плужник продолжал:
– Дело для нашей страны новое, с большим будущим, и мы с тобой первыми проложим пути в океане.
Я закурил трубку.
– Что же молчишь, Степан? – спросил Костюк. – Это мне надо было раздумывать, не разбазариваю ли я свои кадры. Но я отпускаю тебя потому, что гонять твою старую калошу по этой дороге может и старичок и безусый юнец, а у Сергея дело новое и, можно сказать, всесоюзное… Ты же сам киснешь тут, а мы знаем – ты любишь живое дело. Может, ты уже начал ракушками обрастать?
Я встал, прошелся по салону и решил, что тянуть тут нечего.
– Что же… Кому, товарищ Костюк, прикажете сдать командование судном?
Как только я сказал это, хрычи засияли, будто медяшка на компасе.
В течение дня я передал документы и принял новый корабль. Плужник сам показывал мне китобоец и китоматку.
Вечером все собрались у меня. Откровенно говоря, я побаивался идти домой. Но Лариса и виду не подала. Она пела, танцевала, и можно было подумать, что в доме полный порядок. Но когда мы проводили гостей, Лариса сразу же ушла в спальню и захлопнула дверь. Через дверь крикнула:
– Стели себе в столовой!
Я долго не мог уснуть. «Что же у нас происходит? – думал я. – Почему наши отношения так изменились? Очевидно, я что–то недоучел, в чем–то был виноват. Но в чем же?»
Флотилия срочно готовилась к выходу в Берингово море, и я целыми днями пропадал на корабле, домой приходил только ночевать. Я замечал, что с Ларисой творится что–то неладное, томится она и чего–то недоговаривает. Но не обращал на это внимания. Я думал: «Чего ей не хватает? Дом – полная чаша, я люблю ее. Чего же еще желать? Скучно одной оставаться? Верно, не весело. Но что же делать? У всех моряков так: дома день–два, а в море месяцы». Надо было терпеть. Но вот терпеть–то она и не умела…
Понимаю, что вы хотите сказать, профессор, конечно, нужно было заняться ею. Но скажите: смогли бы вы заняться воспитанием человека, которого безотчетно или, попросту говоря, слепо любите? Трудно? Ведь в том, кого слепо любят, недостатков не видят или стараются не замечать их. Вот и я так. Я считал ее оригинальной. Оно, в сущности, так и было. Вспомните–ка, как мы познакомились в Крыму, потом плавание через южную Атлантику, первые дни в Приморске… Попробуйте найти человека, которому не понравилась бы такая женщина?!
Теперь–то я понимаю, что весь аврал у нас в доме был из–за того, что мы по–разному относились к жизни. Она не понимала, что происходит вокруг, не понимала, что нэп давно кончился, что люди поднимались на большую волну. А ей, видите ли, было скучно слушать мои разговоры с китобоями о графиках, планах, маршруте флотилии, якорных стоянках и так далее.
Вот и получилась у нас ерунда…
Китобойная флотилия простояла в Приморске два месяца, готовясь к промыслу. За это время и выросла гора, которая теперь разделяет нас.
Последние слова Кирибеев произнес с расстановкой, затем умолк, занявшись чисткой трубки.
– Как вы можете столько курить? – спросил я.
Он махнул рукой…
– Не чувствую вреда от курения… Так вот, за то время, пока мы стояли в Приморске, готовясь к выходу на промысел, и началось все. Я уж сейчас не помню, по какому поводу, но, словом, получилась у нас опять какая–то петрушка… На людях мы мирились, а как только оставались одни, Лариса становилась немой, как якорь. Я тоже держался, не хотел поддаваться.
Спали мы врозь: я в столовой, Лариса в спальне. Засыпая, думал: как все у нас неладно идет! Мне нужно уходить на промысел, а дома ералаш…
Сейчас я понимаю, что у нас с самого начала все глупо получилось. Ну что тогда, в Крыму, мы знали друг о друге? Ничего. Да и знать ничего не хотели. Как сумасшедшие, кинулись мы друг другу навстречу, был какой–то порыв, ну, там еще природа… А ведь только та любовь сильна, где есть уважение друг к другу. Прежде всего в человеке надо ценить его благородство, красоту ума и сердца, справедливость и волю. Это самая истинная и прочная любовь.
Была ли она у нас? Я люблю Ларису, люблю ее и сейчас, искренне, горячо. Любила ли она меня?.. Как вам сказать, и да и нет. Но тогда я об этом так не думал – просто у меня было неспокойно на сердце, когда я приходил домой, где чувствовал себя как в нетопленной каюте. А на китобойце мне было вполне хорошо – я был занят по горло: вместе с командой с утра и до ночи не вылезал из машинного отделения. Я не принадлежу к тому сорту капитанов, которые считают: «Мое дело – мостик, а машина – дело механика».
Я на море с малых лет и все испробовал. Я не уйду в рейс, пока не проверю корабль до последней заклепки. Такой у меня порядок. У меня механик не поспит! Служить со мной разгильдяям нелегко, но тот, кто любит работу, не скучает. Да вы и сами это знаете… Труд для меня – главное в жизни. Отними его, и я буду как рыба, вынутая из воды. Вот в чем дело, профессор!
Кирибеев замолчал. Он долго глядел на клубившийся туман и наконец проговорил:
– Да, туман путает нам все карты. Сидим, как на курорте, а на душе черт знает что! Так же вот было у меня и в то время, то есть не совсем так, конечно, но что–то вроде этого.
Помню, кончились на китобойце все работы, машины были перебраны, борта ошкороблены и покрыты свежей краской, медяшка всюду надраена. «Тайфун» стоял как конь в парадной сбруе. Садись и несись! Настроение у всех как перед праздником. Я шел домой так, что ног не чуял. Как же, утром в поход. Я рассчитывал, что в связи с таким делом мы помиримся с Ларисой. Но Лариса встретила меня так, словно я в чужой дом попал: сидит на диване, пилочкой ногти обрабатывает, на меня не смотрит, разговаривает подчеркнуто сухо. Ну, меня тоже как будто кто–то чем хватил. Хочу пересилить себя и сказать ей что–нибудь хорошее, ласковое, хочу подойти, положить руки на плечи, посмотреть в глаза, а не могу, словно за руки кто держит и язык к нёбу прилип, не оторвать… Походил я, походил по комнате и решил собираться, хотя и сказал на китобойце, что приду утром.
Собрал все и говорю:
– Прощай, Лариса!
– Счастливо! – отвечает, как постороннему.
Я постоял, постоял, взял чемодан и пошел. И только успел на порог ступить, Лариса вдруг как вскочит с дивана:
– Степа!
Тут бы мне обернуться, но я только дверью хлопнул. Она крикнула:
– Вернись, Степа!
Я даже не оглянулся…
Пришел на корабль – тоска страшная. Все на берегу гуляют, прощаются, а нас на корабле трое: вахтенный матрос, кочегар и я. В бухте тишина; на китобойцах словно вымерло все, только на «Аяне» грохочут лебедки – заканчивается погрузка угля. Уже зажглись везде отличительные огни, и в городе один за другим начали вспыхивать фонари. Я не знаю ни одного города в мире, который был бы так красив в вечерние часы, как наш Приморск! Но на душе у меня – вы сами понимаете… Как представил себе, что все дома, у своих и что я тоже мог бы сидеть у себя с Ларисой, почувствовал – не выдержу: либо с ума сойду, либо сбегу… Мне очень хотелось, чтобы в этот момент зашел кто–нибудь, Плужник или Костюк, но эти сваты чертовы обо мне не подумали, а впрочем, скорее всего, наоборот – подумали и, видимо, решили в последний вечер не мешать моему «семейному счастью». Конечно, знай они, я не сомневаюсь – меня бы так не оставили…
Но я не люблю долго ковыряться в своей душе, этак можно черт знает до чего додуматься. Слава богу, воля у меня есть… Конечно, – поправился Кирибеев, – я не кашалот, а живой человек – не легко было взять себя в руки.
Есть люди, которые думают так: если человек внешне интеллигентен, то ему знакомы тонкие душевные переживания. Если же человек слеплен грубо, вроде бы топором вытесан, то он, дескать, лишен всего этого. Чепуха!
Художники часто рисуют нас какими–то чурбанами с упругой грудью и жилистыми руками. Мол, вот она, мощь, вот сила! А если вдуматься, то ведь это глупость.
Скажу одно: мы, так называемые простые люди, может быть, тем и отличны от утонченных натур, что умеем переключать свои душевные самые мучительные переживания на труд, умеем не показывать то, что пожаром бушует на сердце. Ну вот, и я взял да и плюнул на все – покинул каюту и отправился осматривать китобоец. Боцман Чубенко оказался человеком с золотыми руками. Не к чему было придраться и в машинном отделении. Я прошел на нос. Пушка была жирно смазана, линь уложен прямо классически. И тут руки Чубенко. Я задержался на носу и долго смотрел на город, на бухту, на корабли – всюду ослепительно сверкали огни. А у меня на душе… Но хватит об этом!
Не буду рассказывать, как я провел ночь, это малоинтересно. Скажу лишь, что на рассвете сон свалил меня, да так, что я не успел раздеться. Так и проснулся, услышав топот ног и крики. Выглянул в иллюминатор. Бухта, Туркин мыс, Тигровая сопка – все залито лучами восходящего солнца. На берегу толпятся провожающие.
Я быстро умылся, освежился одеколоном, надел тужурку с шевронами и вышел на палубу. Что было перед отходом, я слабо помню – все я делал тогда машинально, – все–таки думал, что Лариса придет проститься.
За полчаса до отхода флотилии я приказал сняться со швартов и отошел на рейд, где и ждал сигнала командира флотилии. Мне неприятно было смотреть, как кругом шепчутся, целуются…
Но вот поступила команда от Плужника мне двигаться первому. У них на «Аяне» был митинг: представители крайкома, гости с предприятий, корреспонденты.
Малым ходом мы стали выгребать из бухты. Приморск медленно удалялся. Я перешел на правый борт и посмотрел на город. Глаза искали Тигровую сопку и мой домик. Отсюда, с мостика, он выглядел, как и все дома, не больше спичечной коробки. Я взял бинокль и вдруг увидел, как в доме отворилась дверь и на пороге показалась Лариса. Она постояла немного, потом быстро побежала вниз… Я дал сначала средний, потом полный ход и вышел в море.
13
Мы пробыли на промысле около пяти месяцев. Думал ли я о доме, страдал ли? Конечно! Но никто об этом не знал. Среди подчиненных капитан должен быть бодрым – такой порядок я считаю законом.
Главное в жизни человека – дело. А переживания? Можешь прийти с мостика и у себя в каюте хоть ревмя реви. Но чтобы тебя никто не видел! Ну что хорошего, если я, капитан, июни распущу? Конечно, порой было не по себе. Стою на мостике, смотрю на воду, и вдруг все куда–то исчезает – корабль, люди, я ничего не вижу, ничего не слышу – И тут–то перед глазами появляется Лариса. Я то закрываю их, то открываю – все равно она! Что за чертовщина! Галлюцинация, ясно!.. Стал изнурять себя трудом: отстою вахту, в каюту не иду, а к пушке или в бочку наблюдательную залезу. Так уставал, что, когда ложился спать, сразу как в омут головой.
Промысел шел прекрасно: мы били кашалотов, серых, ивасевых, сельдяных, и даже добыли одного синего кита.
Избороздили почти всю северную часть Тихого океана. Просолились и прокоптились на солнце, стали черными как негры. Но вот кончился промысел, притопали мы в Петропавловск; тут всех ждали телеграммы, письма, а мне ничего. В голову лезло черт знает что.
В Петропавловске пришлось подремонтировать «Тайфун». Я работал как бешеный – хотелось заглушить тоску. Теперь думаю: если бы не работа, что бы я делал? Несколько раз порывался послать ей радиограмму: напишу – порву, напишу – порву, так и не послал…
В пути из Петропавловска выпало мне еще одно испытание. После перехода через Лаперузов пролив, освободившись от вахты, сошел я с ходового мостика и задержался на палубе, у дверей своей каюты; набил трубку и с удовольствием затянулся. Стояла такая ночь – хоть стихи пиши: небо темное, звезды яркие, вода отсвечивает, как голубой жемчуг…
Выкурив трубку, я уже собирался войти в каюту, как заметил, что китобоец увеличил ход. Пока я стоял на мостике, он шел средним ходом – таков был приказ Плужника: «Аян» топал, как баржа на буксире, и нужно было равняться по нему. Я не давал приказа увеличить обороты. Что это там вахтенный машинист еще придумал? Я подошел к машинному люку и только хотел крикнуть, как услышал голоса.
– С чего это понеслись так? – спросил один.
– Кэп домой спешит, – ответил другой.
– А чего ему спешить?.. Моя пишет, что его жена – того…
– Чего «того»? Прикуси лучше язык, ты же знаешь Степана Петровича – он из тебя форшмак сделает.
Я замер, чуть трубку не выронил изо рта. Тут вмешался третий, – по голосу я узнал Чубенко:
– Языки у вас как у кашалотов! Чего треплетесь? Вам что, капитан не нравится?
Те, видно, смутились.
– А нам другого и не надо.
– Тогда закройте поддувала, – сказал Чубенко. – Мы все за капитана горой встанем. Может, он в беду попал, может быть, ему внимание нужно…
Дальше я уже не слышал. Я чуть не задохнулся: меня ожгло всего. Тихонько, стараясь не скрипеть сапогами, прошел в каюту и по слуховому телеграфу дал нагоняй машинисту, а потом разделся, но спать не мог.
Переход от Камчатки до Приморска показался бесконечным! Но вот пришел приказ от Плужника: начать генеральную приборку на кораблях и покраску.
На подходе к Приморску нас вышла встречать целая флотилия – флаги, оркестры, пушки палили. Ларисы среди встречающих не было.
Я держал в резерве всяческие оправдания: больна, не знает, когда придем, сердится. Сказать по правде, я не верил болтовне, которую услышал на палубе.
Ларисы не было и в порту, в толпе встречающих. Ко всем пришли родные, только я и Плужник удовольствовались встречей официальных лиц. Правда, у меня не было времени на переживания, так как я был атакован и взят в полон журналистами, – мой китобоец больше всех добыл китов. К тому же Плужник наговорил обо мне столько! Ну, словом, чуть не произвел меня я главные герои. Ребята мои – это действительно герои! В особенности Жилин и Чубенко.
На банкете, который после встречи состоялся на «Аяне», я не выпил ни капли, хотел прийти домой как стеклышко, я не слушал, что там говорилось, уловил подходящий момент и удрал.
Очутившись на берегу, я вдруг ощутил такое волнение, какое бывает у мальчишки, когда он идет на первое свидание, мне хотелось поскорее увидеться с ней, и вместе с тем я боялся этой встречи.
Был вечер. В городе зажглись огни. Улицы полны народа. На меня, конечно, никто не обращал внимания. Моряк в Приморске, как вызнаете, не диковина. Но мне казалось, что все смотрят на меня, что всем все известно обо мне. Потому я старался не спешить, делал вид, будто прогуливаюсь. Но как только миновал центральную улицу и очутился в темном переулке, где свет падал лишь из окон, пошел быстрее.
Чтобы попасть ко мне домой, надо идти по Суйфунской до трехэтажного дома, там повернуть налево – и в гору по Корейской, почти до самой седловины Тигровой сопки, а оттуда уже шагов триста вверх. Дом мой хорошо виден с бухты.
Я запыхался и в седловине постоял немного. Мне хотелось приготовиться к встрече. Когда сердце немного успокоилось, я начал подъем. Не доходя нескольких шагов до дому, я остановился как вкопанный: в окнах было темно. Где Лариса? Как же я попаду в дом?
Я поднялся на вершину сопки, сел на камень, снял фуражку, вытер пот со лба, набил трубку н закурил… Я решил подождать. Внизу гудел город. Бухта сверкала огнями. Было тепло. Пахло морем. Небо черное, а звезды как золотые искры. Кажется, впервые в жизни я пожалел себя. «Вот, – думалось мне, – всюду жизнь, под каждой крышей счастливые люди…» Я тогда думал, что, кроме меня, все счастливы, что только моя жизнь дала трещину.
Я выкурил несколько трубок. В городе один за другим начали гаснуть огни. Ночь окутывала землю. Ночь была и в окнах моего дома. Еле различимым темным силуэтом торчал он у вершины сопки.
Я почувствовал усталость и решил отправиться обратно на корабль. Что же все–таки с Ларисой? Где она? Я встал и хотел уже пойти, но вспомнил, что у меня есть вторые ключи. Как я об этом раньше не подумал?
Когда до дома оставалось не более десяти шагов, мне послышались голоса. Я сразу узнал Ларису, зажал трубку в кулак и замер на месте.
– Нет, нет, – говорила она. – Уходите! Уходите сейчас же!
Мужской голос глухо ответил:
– Хорошо! Иду! А когда я увижу вас снова?
– Не знаю… Может быть, никогда. Идите! Мне холодно.
– А на концерт придете? – спросил тот же голос.
– Идите! Я не могу больше…
Я не слышал, о чем еще они говорили и говорили ли: я задыхался, в ушах звенело, дрожь охватила меня. В темноте я не видел его, но по голосу узнал. Это был музыкант, который аккомпанировал Ларисе в тот вечер, когда я привез ей кимоно.
Первой моей мыслью было кинуться вниз, где еще слышались его шаги… Но я тут же понял, что это глупо. Ну что мне с ним делать?.. Убить его? Да, в тот момент я мог убить его. А дальше? Что дальше? Кто виноват во всем? Я или она? Или мы оба? Я ни черта не соображал. Но стоять на месте не мог. Все–таки я кинулся вниз. Бежать было тяжело – ноги дрожали. Я добежал до центральной улицы, но музыканта нигде не было.
Яркий свет, толпа людей – все это отрезвило меня«Мне стало вдруг ясно, что он, в сущности, ни при чем, во всем виновата Лариса. «Беги к ней, – шептал мне какой–то внутренний голос. – Беги, не теряй времени!»
И я бросился обратно на Тигровую. Когда мы вернемся в Приморск, вы сами убедитесь, что значит пробежать с Камчатской до моего дома.
Ну вот, когда я подбежал к дому, сквозь кисею занавесей увидел Ларису. Она стояла перед трюмо. Закинув руки, покачивая локтями, она укладывала волосы на ночь. Задыхаясь от ярости, я перемахнул через ограду, чтобы ударом кулака вышибить стекло… Но мне вдруг стало смешно: «Какой же это из меня, Степки Кирибеева, Отелло?..»
Я постоял, затем сел на приступок, набил трубку и закурил. А когда сердце немного успокоилось, вошел в дом.
14
Обняв колени, Лариса сидела с ногами в углу дивана и, не глядя на меня, говорила:
– Ты сам виноват… Кто же оставляет молодую жену одну, да еще на такое время? У тебя там людей полон корабль. А у меня что? Этот противный дом на самой горе?.. Что ж… Я долго сидела в нем, как птичка в клетке… А потом вышла – и вижу, что есть жизнь, люди живут. А я?.. Да! Да! Ты не перебивай меня, я все тебе скажу, все!
Ты ушел в рейс, запер меня – и думаешь, что все сделал? Да? Нет, подожди. Ты думал только о себе! Ты считал, что главное – это ты, а я придаток к тебе, к твоей жизни. Не перебивай, я все знаю, что ты скажешь.
Она говорила без умолку. Я молча грыз мундштук и чувствовал то омерзение, то какую–то проклятую жалость к ней. Иногда я даже начинал соглашаться с ее логикой. «Действительно, я там был занят делом. А каково было ей здесь одной?» Затем эта змея, шептавшая о жалости, уползала, и шипела другая: мол, тем более она не должна была так себя вести, раз ты был занят делом да еще подвергался опасности. Кончала эта нашептывать, как появлялась третья: «А ты подумал, когда связывал с ней свою жизнь, что ты старше ее и что должен был сделать так, чтобы твои интересы были и ее интересами?»
Я с трудом удерживал себя от того, чтобы не наделать глупостей; меня то тянуло подойти к ней, обнять ее и решить все миром и лаской, то, каюсь, ударить!
Наступил уже рассвет, а мы все еще не ложились: говорили и говорили. В комнате было полно табачного дыма – я курил одну трубку за другой.
Я так устал, будто две вахты в тропиках отстоял, я мучительно искал выхода из проклятого положения. Она же то упрекала меня, то угрожала разрывом, то искала оправдания себе и если умолкала, то лишь на мгновение. На плечах ее была белая ангорская шаль с большими кистями.
Я впервые видел ее такой нестерпимо неприятной, и мне вдруг захотелось разрубить этот узел одним ударом – уйти. Уйти совсем из моего дома. Я понял, что все наши дальнейшие отношения будут пыткой.
Я подошел к шкафу и начал укладывать свои вещи…
Вы, профессор, спокойно слушаете меня. Я сейчас тоже не особенно волнуюсь. Но тогда мне было трудно, словно мой корабль шел ко дну, а машина его продолжала работать. Вы никогда не тонули? А я тонул раз, когда у Хоккайдо в тумане японская шхуна распорола мне борт. Так вот, когда я запихивал свою «сбрую» в чемодан, у меня было примерно такое же состояние, как и тогда, при погружении… Лариса с любопытством зверька смотрела на меня: мол, что будет дальше? Скорее всего, она не верила, что я уйду. Но когда я направился к выходу, она, как сивуч, который при виде человека прыгает со скалы, кинулась с дивана и вцепилась мне в плечо:
– Не уходи! Не уходи, Степа!
И расплакалась.
Пришлось мне взять ее на руки да еще успокаивать. А когда успокоилась, обвила вдруг мою шею руками и все повторяла:
– Никуда я тебя не отпущу! Понимаешь?! Никуда!.. Глупый, неужели ты и в самом деле думаешь, что я променяю тебя на кого–нибудь?!
Я посадил ее на диван, а сам отошел к окну. Над городом уже поднималось солнце. Хорошо было за окном: все золотилось кругом. А у нас черт знает что! Понимаете?.. Хотя она и пошла на мировую, но на душе у меня все равно не было спокойствия. Я смотрел на Ларису и думал: «Неужели эта стройная, красивая женщина чужая мне? Давно ли я целовал ее, называл самой любимой, родной? Давно ли она говорила, что без меня у нее нет жизни?.. А вот сейчас оба мы какие–то чужие».
Но вот она выпрямилась и стала тихонько напевать старинный вальс «Что это сердце сильно так бьется?».
Умолкнув, она минуту, может быть меньше, сидела, покусывая губы. Потом соскочила с дивана и прошлась легкой, танцующей походкой по комнате. Остановилась у рояля, открыла крышку, но раздумала, вновь опустила и подошла ко мне, комкая кисти шали.
– Господи! Да что же это такое?
Я не ответил:
– Степа! Да ну же!..
– Что ты хочешь? – спросил я, стараясь быть суровым.
– Что я хочу? – сказала Лариса.
Мне не хотелось продолжать разговор, не хотелось и думать о чем бы то ни было. Скоро я должен идти на корабль, а туда нужно прибыть спокойным. А потом – мне казалось: если начну говорить, то сдам какие–то позиции (я ведь до этого и так немало сделал уступок).
С горечью думал я, как непоправимо глупо мы оба ведем себя и как трудно исправить все то, что мы оба наломали. Да и возможно ли исправить?
В доме установилась тишина, как на корабле, стоящем на приколе. Слышались только гудки буксиров с бухты. Они напоминали, что мне пора идти. Я хотел уже подняться, но тут Лариса вдруг снова заговорила быстро и жарко:
– Давай уедем отсюда, Степан! А?.. Давай уедем, – повторила она, – если ты хочешь, чтобы у нас было хорошо… Ты не сердись, но я… как бы это понятнее сказать тебе?.. Эх! Да разве ты можешь понять? За последнее время ты становишься чужим мне…
Меня не тянет к тебе, как прежде. Ты для меня уже не тот капитан Кирибеев – сильный, самоотверженный, могучий человек, в которого я влюбилась, как дурочка, тогда в Крыму. Я не знаю, когда и как это случилось… Я не в силах объяснить тебе, Степан, что происходит со мной… Но ты как–то стал отдаляться от меня… Ах, нет! Что я говорю! Не ты!..
Она откинула голову, закрыла глаза и сказала с отчаянием в голосе:
– Я не знаю, понимаешь, ничего не знаю, где ты виноват, а где я…
Она покачала головой, затем прильнула к моему плечу.
– Боже мой, – прошептала она. – Я боюсь, Степа… Уедем! Уедем отсюда!.. Куда? Мне все равно – только давай уедем! Что же ты молчишь, Степа?!
Я пожал плечами.
– Степа! Почему ты словно каменный? Хочешь, поедем в Ленинград? Я поступлю в консерваторию, мне все советуют… Не могу я больше так… Не могу одна сидеть дома. Я должна работать. Но где мне работать? Ты же знаешь, в театре нет свободных мест. Я хочу учиться, хочу на сцену! Ну, скажи хоть слово! Конечно, я понимаю, в твоих глазах я дурочка. Но пойми, ты ушел на полгода, а я одна, дела никакого. Ну что же, сходила несколько раз в театр. Разве это преступление? Но что ж мне было делать – повеситься от скуки? А что тебя не встретила – прости. Ты сам тоже хорош – помнишь, как ушел из дому? Я целый день ревела.
Я не дослушал и открыл дверь. Тут она закричала:
– Степа! Степочка! Скажи что–нибудь…
Я не выдержал, повернулся к ней.
– Ладно, – сказал я, – подумаю.
15
Туман все еще висел над океаном. Он окутывал его от края до края, и мне порой казалось, что мы никогда уже больше не увидим ни голубой морской воды, ни людей; казалось, что земля, на которой мы уединились с капитаном, вот–вот тронется с места и понесется по безбрежному белому морю туда, где нет ни горя, ни радости, ни любви, ни ненависти, ни слез, ни смеха; только голос капитана, изредка прерывавшийся посапыванием трубки, выводил меня из этого состояния.
Кирибеев неожиданно умолк и быстро вскочил на ноги, пристально глядя вперед, в сторону океана. Я поднялся вслед за ним и тоже стал смотреть туда же.
– Стоп блок! – сказал он. – Хватит травить! Погода меняется.
Только обладая его опытом, можно было сделать такой вывод. Туман по–прежнему висел над водой, закрывая океан на многие мили сизым дымом.
– Пора возвращаться, профессор! – сказал Кирибеев.
Он нагнулся к костру, вытащил головешку и, прикуривая, сказал:
– Костер надо засыпать. Сейчас поднимется ветер, тогда будет поздно – эти прерии начнут полыхать.
Не успел он докончить фразу, как налетевший ветер начал ворошить костер. Неприятный холодок заползал в рукава. Скоро ветер перешел в постоянный, туман вдруг заклубился, затем начал сгущаться и сворачиваться, словно огромное полотнище. Это случилось так неожиданно, что я был поражен, как быстро стал открываться океан, и чуть не вскрикнул от удивления. Кирибеев же стоял, молча посасывая трубку, и глядел вперед. В уголках его губ отложились морщинки – он улыбался.
Капитан радовался наступлению хорошей погоды так, как умеют радоваться только моряки, знающие, что значит быть застигнутым страшнейшим из своих врагов – туманом. Блеск открывшейся воды слепил глаза. Я начал складывать вещи. Кирибеев окликнул меня:
– Смотрите, профессор!
Я поднялся. Сначала я ничего не увидел, но, всмотревшись в дымчато–голубую даль, заметил торчащие за горизонтом, как будто высунутые из воды, мачты какого–то судна.
– Топает, бродяга, в Приморск! – не то с завистью, не то с восторгом сказал Кирибеев.
Корабль шел быстро прямо на нас. Скоро показались трубы, и, пока мы спускались вниз к бухте, вылупился из воды весь корпус. Залитый золотом вечернего солнца, которое после тумана, казалось, сияло особенно ярко, корабль был похож на чудесную сказку. Кирибеев первым очутился у воды. Он пронзительно свистнул. От китобойца быстро отделилась шлюпка с гребцом. Свист капитана вспугнул птиц, хлопотавших в бухте. Но, убедившись, что им ничто не угрожает, они одна за другой, словно гидросамолеты, тяжело шлепались на воду, что–то крича, точно о чем–то переговаривались между собой. Садясь в шлюпку, Кирибеев сиял, как будто там, у костра, совсем освободился от мрачных своих дум.
– Смотрите, профессор, как радуются!
Гребец, гнавший с завидной легкостью шлюпку, широко улыбался.
– Как же не радоваться, товарищ капитан! Этот проклятый туман кого хочешь в тоску вобьет. Ведь мы чуть не померли со скуки… И на вас глядеть больно. Ребята говорили: «Неужели туман простоит еще неделю? Наш кэп совсем с курса собьется».
Кирибеев нахмурился.
– Много разговариваете, – сказал он и, не дождавшись, когда шлюпка пристанет к борту, крикнул: – На судне!
К борту подошли Небылицын и боцман Чубенко.
– Объявить морские вахты! Изготовить машину! Сейчас снимаемся!
– Есть! – ответили с корабля, и вслед за тем раздался веселый топот десятка ног.
Когда шлюпка подошла к борту, Кирибеев быстро поднялся на палубу.
Восхищенный ловкостью своего капитана, матрос насмешливо посмотрел на меня.
– Подсобить вам? – спросил он.
– Спасибо! – сказал я и, подражая Кирибееву, полез на борт. Капитан Кирибеев уже стоял на мостике. Корпус китобойца вздрагивал. Из трубы валил густой дым. Китобои во главе с боцманом Чубенко появлялись то тут, то там. Гигантского роста, он во всем почти походил на своего капитана, только был пошире в плечах, и лицо его, хотя и было выдублено солнцем и морскими ветрами, отличалось какой–то благородной красотой, вызывавшей в памяти далекие образы запорожцев, потомком которых он был. Широкий лоб, черные, чуть–чуть подгоревшие на солнце брови, тонкий прямой нос, глаза голубые, добрые, бронзовые висячие усы, упрямый подбородок. Чубенко никогда не повышал голоса, никогда не повторял своих распоряжений, никогда ни на кого и ни на что не жаловался. Ему было лет за сорок. Безотказной и безукоризненной работой, строгостью суждений и кристальной честностью он, как я успел заметить, завоевал всеобщее уважение и пользовался особым доверием капитана Кирибеева. Как только шлюпка, на которой мы вернулись, была поднята и установлена на шлюпбалках, капитан Кирибеев вынул пробку из переговорной трубы и запросил машинное отделение:
– В машине! Готово?
Получив утвердительный ответ, Кирибеев крикнул на нос, где у лебедки находились Небылицын, Чубенко и два матроса:
– Якорь выбрать!
Вскоре с бака доложили:
– Чисто! – что означало: якорь у клюза.
Три прощальных гудка разбудили птичье царство бухты, разом поднявшееся и кричавшее на разные голоса. За кормой забурлило, и китобоец медленно потянулся из бухты; за малым последовал средний ход. Густой дым черными клубами вырывался из трубы и падал на воду.
Кирибеев разгуливал по крошечному ходовому мостику, жадно посасывая трубку.
Когда вышли на простор, капитан взял курс на север. Китобои решили, что капитан Кирибеев пойдет в бухту Моржовую, к месту стоянки «Аяна». Но он неожиданно для всех взял мористее и направился в сторону Командорских островов.
Горизонт был чистый. Дул встречный ветер. С моря шла широкая и сильная волна: она стучала в правый борт и забрызгивала палубу.
Я устроился в наветренной стороне и занялся фотографированием. Но вскоре руки онемели от холода, и я ушел в каюту.
Я ушел в каюту погреться. Раздевшись, прилег на диванчик. Тихое покачивание китобойца, легкий баюкающий гул машины навевали дремоту. Не помню, сколько я так пролежал, то проваливаясь в глубокую пропасть, то поднимаясь на вершину, как вдруг раздался крик: «Кит по носу!»
Я открыл глаза, прислушался, проверяя, приснилось мне или в самом деле кто–то крикнул.
Прошло несколько тихих, дремотных секунд. «Очевидно, приснилось», – подумал я и повернулся на другой бок, но тут послышались топот ног и стук штурвального колеса. В открытый иллюминатор хлынул поток холодного воздуха, и вместе с ним донеслось шипение стекающей с палубы воды.
Застегивая на ходу плащ, я выбежал на палубу.
Брезжил рассвет. Капитан был на мостике. Гарпунер Олаф Кнудсен, широко расставив ноги, стоял у пушки.. Чубенко сидел в бочке и корректировал ход китобойца.






