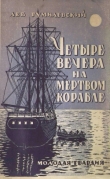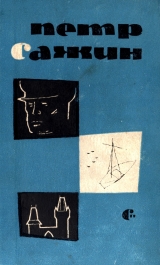
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
Домой она вернулась поздно, умиротворенная и, пожалуй, даже счастливая, оттого, что не нарушила клятву, хотя и была близка к этому.
Глава тринадцатая
Гаврилов уже имел билет на самолет в Берлин, когда в казарму прибыли представители из Министерства вооруженных сил и объявили большой группе офицеров, что их поездка на Запад отменяется и каждому надлежит явиться по таким–то и таким–то адресам.
Гаврилову было сказано, что его полк, прибывший вчера из Праги в Москву, уже переброшен с Киевской дороги на Северную и стоит на станции такой–то, на пути таком–то…
Прежде чем явиться в полк, Гаврилов кинулся к Кировским воротам, на почтамт, – от Либуше ничего не было. С почтамта он поехал на Старомонетный, оставить матери письмо и деньги, затем на Ярославский вокзал.
Бекмурадова в штабном вагоне не было, он уехал в Министерство вооруженных сил.
Танкисты уже знали, что их отправляют на Дальний Восток. В ожидании полковника они толпились у вагонов и платформ, точили лясы и перестреливались «прямой наводкой» с проходящими мимо работницами трикотажной фабрики. Загорелые, ладные, в хромовых, блестевших на солнце сапожках, в пилотках, в осыпанных орденами видавших виды гимнастерках, танкисты были картинно хороши.
Хороши были и женщины. До прибытия танкистов они мало следили за собой – не до того было. Четыре года – «Все для фронта!». А теперь эти труженицы, впервые увидевшие тех, для кого они трудились в годы войны, расцвели, как яблоньки.
Было начало теплого и ласкового подмосковного лета. Цвела сирень. Летний ветер гнал из леса, недалеко от станции, горьковатый запах хвои.
Из деревни, что раскинулась за полотном железной дороги, доносились крики петухов и мычание телят. К ним примешивались звонкие удары молотков – железнодорожники проверяли «ося», хриплые гудки маневровых паровозов и бешеный аллюр тяжелых поездов, проносившихся мимо станции от Москвы и к Москве.
За станционным переездом дорога круто заворачивала вправо и скрывалась за подступавшими к насыпи лесами. Убегающие вдаль рельсы, тающие на полях рваные клочья дыма и голоса гудков наводили тоску.
Как же это случилось, что он ничего не знал о переброске полка! Вот тебе и расстались на месяц. Сколько же они проторчат в Маньчжурии? Кто знает… Как глупо получилось. Уехать бы сейчас на Старомонетный! Но в Москву нельзя – все увольнения и отпуска отменены. Командир полка может вернуться в любую минуту, движенцы уже держали наготове паровозы.
Друзья–однополчане приняли Гаврилова с большой радостью. Особенно новый водитель гавриловского танка старший сержант Гордиенко. Оказывается, Гаврилову было присвоено очередное звание, и приказом командующего фронтом он был награжден третьим орденом Красное Знамя за взятие Дрездена.
Гордиенко подбивал отметить это событие. Парменова принесла мензурку spiritus vini. Праздник вышел на славу. Гаврилова то и дело просили рассказать о том, что было на параде, кто стоял на трибуне, на коне или в автомобиле ехал маршал Рокоссовский…
Гаврилов говорил без особого подъема. Танкисты огорчились, когда Гаврилов сказал, что лучше всех мимо Мавзолея прошли моряки, а не танкисты. Кто–то заметил: «Ну, моряки – известное дело! Они ж через Красную площадь не идут, а прямо плывут, черти!»
Рассказывая, Гаврилов не переставал думать о Либуше: как она огорчится, когда получит его письмо.
Праздник был прерван появлением Морошки, который прыгнул в вагон и, пропустив поданный ему Пар– меновой «мерзавчик», сказал:
– Закругляйтесь, хлопцы! Полковник приехал. Все увольнения отменяются. В семнадцать ноль–ноль запоем: «И на Тихом океане свой закончили поход»!..
Часть вторая
Глава первая
Шел 1947 год. Уволенный в запас, капитан Гаврилов возвращался домой с Дальнего Востока. С рукой на перевязи, стоя у окна вагона и вспоминая о том, как эшелон полковника Бекмурадова около двух лет назад с песнями несся по этой же магистрали к маньчжурской границе, Гаврилов тяжело вздохнул. Никто тогда не предполагал, что танкисты первыми попадут под удар японской авиации, что двадцать человек, в том числе и старший сержант Гордиенко, погибнут, а он, Гаврилов, будет тяжело ранен и проваляется на госпитальной койке полтора года. Врачи извлекут у него три осколка из грудной полости, три – из спины.
Когда эшелон Бекмурадова спешил к маньчжурской границе, стояло лето, а теперь – весна. Все в цвету. Тут бы радоваться, а на душе у Гаврилова темнее ночи: пока он валялся в госпитале, умерла мать, из Праги ни одного письма.
Вагон качало. По коридору в сторону ресторана и обратно сновали люди, больше военные. Они торопились домой, радость так и плясала в их глазах. Домой! Ну как не отметить такое событие! В ресторане дым коромыслом, звон посуды, хриплые голоса, густые запахи табака, пива и водки.
Когда поезд притормаживал на какой–нибудь станции, демобилизованные высыпали из вагонов, постукивая начищенными, ладно пригнанными сапожками, оправляя пояса на гимнастерках.
Сибиряки спрашивали:
– Домой?
– Домой!
– Отвоевались?
– Точно, отвоевались!
– Куда ж теперь?
– Как куда? Россия велика!
– А чо в Сибири–то не останётесь? Сибирь – страна заманная! Места тут всем хватит!
Свисток. Поезд трогается, исподволь набирает скорость и несется затем, как лихой конь, откинув в сторону пышную гриву дыма. Целыми днями Гаврилов у окна. Его никто и ничто не ждет. Проклятая война, что она наделала с людьми! А вот этот непроглядный лес, и темнеющие на горизонте горные кряжи, и звонкий простор падей, и даже шорох цветов – все живет и кружится перед окнами вагона так же, как и полтора, и два, и три, и тридцать три года назад.
Годы и люди бегут перед глазами, мелькают, как километровые столбы.
Июль 1945 года… Эшелон несется на восток. Танки зачехлены. Брезент парусит, рвется прочь. Рваный дым клочьями повисает на придорожных кустах, стелется над тайгой. Танкисты у раскрытых дверей дивятся на красоту сибирской земли. Бодрая песня льется из вагонов: «…штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни-и…»
За Байкалом Гаврилова позвал к себе Бекмурадов. Предложил папиросу и, щуря оливковые глаза, завел разговор о том, что вот, мол, полк приближается к маньчжурской границе, предстоит ответственное задание, скорее всего связанное с переходом границы, и что танкистам не избежать контакта с местным населением. Он просит Гаврилова помнить, кто они такие, гражданами какой страны являются и с какой миссией прибывают. В Маньчжурии много публичных домов, много красивых женщин разных национальностей. Но на все это – «кирпич»! После каждой фразы Бекмурадов спрашивал: «Понятно?» Когда полковник был спокоен, он хорошо говорил по–русски.
Гаврилову было все понятно, за исключением одного: зачем полковник завел с ним этот разговор. После его вопроса Бекмурадов помедлил немного, затем, глядя ему в глаза, сказал:
– А как же не гаварить тебе? Ты самый влюбчивый в маем полку. – Понизив голос до шепота, полковник произнес: – Ты знаешь, твоя пани Либуше приходила ко мне накануне нашего отъезда из Праги и спрашивала о тебе…
– Что же вы сказали ей?
– Что я мог сказать? «Наверно, гаварю, забыл он вас, пани Либуше…»
– Да как же вы посмели, товарищ полковник!
– Слушай, Гаврилов, я тебя люблю, патаму и не наказываю за твой недапустимый тон!
Гаврилов опустил голову.
– Я здесь существую не для того, чтобы улаживать любовные дела! Понятно? Нечего нос вешать! Подумаешь, любовь! На войне чего не бывает. Ну встретил, ну понравилась и, между нами гаваря, сагрешил, и что же? Важно, чтобы шуму не было. «Чэпэ» чтобы не было! Понятно?
– Значит, для вас, товарищ полковник, важно, чтобы «чэпэ» не было, а человек…
– Пастой! Зачем же сразу на третью скорость? «Чэпэ» для полка – знаешь… Это вот где отражается, – полковник похлопал себя по тугой загоревшей шее, на которой каракулем вились черные волосы. – Вот где, – повторил он. – А ты что… действительно любишь ее?
– Если б не любил…
– Жить без нее не можешь?
– Не могу!
Полковник вздохнул:
– Ну зачем тебе это? Что, у нас нет девушек?.. Кончится война – поедем на Кавказ, там знаешь какие девушки, ц-а! Нет! Ты ничего не знаешь, если матаешь головой. Да! Нехарашо у нас с тобой получилось. Ты не сказал мне в Праге, а я подумал… Да-а… Пани Либуше тоже, как ты, заматала головой – не поверила, когда я сказал, что ты забыл ее. Письмо мне дала…
– Где оно?
– Нет его…
– Как нет! Куда же вы его дели?
Бекмурадов вздохнул. Ему неловко стало оттого, что он солгал.
– Нет и не будет, – уничтожил я его! Думал, так лучше! Представь, что ты балной…
– Какой больной! Да вы…
– Ну, я говорю, представь, что ты балной. Что, по–твоему, болезнь развивать надо? А? Молчишь? О! Я панимаю, тебе болно. Но пусть лучше сейчас тебе будет болно, а не на всю жизнь. Письмо пани Либуше, когда наш эшелон подходил к советской границе, я уничтожил.
Гаврилов вскочил:
– Ну, знаете ли…
– Знаю! Можешь не прадалжать. Ты, наверно. Гаврилов, думаешь: «Вот сволочь, сам никогда не любил, а суется в чужие души!» Так? Что мотаешь головой? Нет, Гаврилов, и я любил. Да еще как! Но у меня все время такая ситуация складывалась… Влюбился я в одну девушку. Стройная! Глаза – утануть можно! Пригласил домой, с родными познакомить. Сэмья у нас большая – шесть синовей и три дочки. Я – третий син. Дома, конечно, знают, все в сборе. Всем эта девушка понравилась, особенно старшему брату, ну, он и женился на ней… Влюбился я в другую девушку. Ну и что? Другой брат женился на ней. Тогда я сказал: «Точка, Бекмурад! Пора подумать и о себе!» На этот раз я сначала записался, а потом пришел домой и говорю: «Вот моя жена!»
Ты молодой человек, Гаврилов, ты думаешь, что лучше пани Либуше нет на всем свете девушки? Я на твоем месте тоже считал бы так. Но… по глупости! Хороших девушек на свете столько! Ты думаешь, я женился бы тогда, если б нашелся человек, который открыл бы мне глаза так, как я тебе их открываю? Канэчна нет! Ну, да ладно, плюнь на все!
Кровь бросилась в голову Гаврилову.
– То есть как это «плюнь», товарищ полковник? Чему вы меня учите!
– Слушай, – примирительно сказал полковник, – нервный ты стал. Матор твой, – он показал на сердце, – барахлит. Я, канэчна, панимаю, что слова мои тебе не по вкусу. Но лучше сказать, чем молчать. Нэ сердись на меня, я хорошего хочу тебе.
…Поезд резко тормознул – приближалась узловая станция. Воспоминания разбередили сердце Гаврилова. Эх, Бекмурад Бекмурадович! Что же вы наделали!
После того разговора он написал Либуше, но и это письмо осталось без ответа.
Куда же, черт возьми, деваются его письма? Цензура задерживает? Но в них нет ничего подцензурного. Тогда что же?
Два года его бьет одна беда за другой, бьет, как степной орел ягненка. Не успел Гаврилов оправиться после травницкой контузии, как в маньчжурских песках его чуть–чуть не размололо в порошок. Семь сложных и пять простых операций. Дюжина! Пусть кто–нибудь попробует хоть один раз полежать на операционном столе, тогда поймет, что это за штука, когда тебя режут двенадцать раз. Хорошо, что в общем–то все обошлось. Из тела Гаврилова выкинуто около двадцати граммов металла. Перебитая нога срослась и стала, как после электросварки, еще крепче. Только вот с правой рукой придется еще повозиться. Врачи называют это контрактурой. Нужно разрабатывать в руке подвижность физическими упражнениями. И он делает это с присущим ему упорством. Еще в постели, не открыв глаз, Гаврилов начинает день разгибанием и сгибанием кисти руки. Третий месяц – утром, днем и вечером… Бедная рука – ей досталось еще там, в Травнице. Ну, положим, там досталось не только руке, а еще и сердцу! Врач сказал, что он имеет право получить инвалидность и не работать, это право он завоевал. Чудной доктор! Завоевывать себе право на то, чтобы не работать! Не–ет! Он не пойдет на инвалидность. Дудки! Он освободится от этой проклятой контрактуры, чего бы это ни стоило! Целыми днями будет сгибать и разгибать кисть и вертеть ею.
Под бодрый стук колес мелькали километр за километром, поезд сноровисто мчался на запад, и вот на горизонте уже открылись высокие седые хребты Хамар—Дабана, и перед глазами раскинулись глубокие и темные морщины земли – горные ущелья и лога, густо поросшие безмерными и бескрайними лесами. Скоро должен открыться Байкал, а потом – Иркутск.
И после Иркутска Гаврилов продолжал стоять у окна.
В соседнем купе шла игра в карты и слышались разговоры, без которых игра – что щи без соли. Игру вел армейский офицер, крепко сбитый, как боксер. Шея у него толстая, бугристая. Руки короткие, ладони сильные, загребистые. Карты он держал, как хрупкие елочные украшения. Дышал шумно, смеялся с еле слышным подсвистом. Гаврилов смотрел на его руки с завистью: ему бы такую здоровую руку! А то носи вот ее, как ребенка в зыбке. Офицер, оказывается, участвовал в пленении императора Манчжоу—Го. Рассказывая об этом, захлебывался смехом:
– Император! Хи–хи–хи! В юбке, как баба, только что без косы! А зовут–то как чудно: Пу-и! Хи–хи–хи! Пу-и!
Офицер, как успел приглядеться к нему Гаврилов, был чисто военного производства, чувствовалось, что он обладал природным даром увлекать людей в бой, храбростью и сметкой. Когда игра в «козла» кончилась, Гаврилова пригласили в купе. Он подсел к столику, офицер – в звании лейтенанта – с заметным уважением посмотрел на гавриловскую пирамидку нашивок за ранения и на ордена.
– В отпуск или насовсем? – спросил он.
– Насовсем, – со вздохом сказал Гаврилов.
– Значит, на гражданку опять, к довоенному уровню возвращаетесь? – после небольшой паузы, словно с сожалением, сказал лейтенант, вздохнул и добавил: – А меня всю войну пули, как заразу, обходили. Ну скажи ты, ни одной царапины, а уж в огне–то был, как в дерьме… Даже под землей два часа, как йог, лежал, пока ребята не откопали. И, как видите, цел! Как это было? А может быть, сначала навернем «инзы», товарищ капитан, а там эти воспоминания сами, как говорится, на своих ногах пойдут. Между прочим, знакомьтесь с моими соседями.
Гаврилов познакомился. Один из компаньонов лейтенанта оказался механиком с краболова, молчаливым человеком, который говорил лишь по необходимости и то лишь два слова: «есть» и «отставить». Второй – инженером с «Алданзолота», он ездил во Владивосток принимать в порту новую драгу. Инженер был еще экономнее механика – он говорил всего лишь одно слово: «прелестно».
Сначала выпили флягу лейтенанта. Затем механик и инженер начали наперебой предлагать спирт. Гаврилов – коньяк, но его отвергли, а пустили в дело спирт. Когда его разлили, лейтенант достал кисет с махоркой и подсыпал в свой стакан.
– Простую, – сказал он, – с того время уже не могу. На душе у меня какая–то бурмундия ошвартовалась. Ее, как ржу в винтовке, керосином надо сводить. Вот и делаю такое хлёбово. Другой с него костьми ляжет либо в небо взовьется, а для моей бурмундии это как щекотка!
Выпили. Инженер долго махал ладошкой перед открытым и искривленным ртом и говорил, грассируя: «Пгелестно!» Механик ничего не говорил, а лишь отдувался. Гаврилов почувствовал, что весь горит и что тоска отходит от него. Лейтенант крякнул:
– Да-а… Обдало, как кипятком, того гляди перо вместе с подперком слазить начнет. Вот и тогда было вроде этого. Кто из вас станцию Матвеев Курган проезжал? Это возле Таганрога. По–настоящему, власти должны там морячкам памятник поставить или курган насыпать! Фрицы в том месте вздумали прорыв на Ростов сделать и нашу морскую бригаду бросили в эту щель. Хлопцы – один к одному, бескозырка к бескозырке, плечо к плечу. Между прочим, штрафники среди них были – бандюги несказанные, но дрались – тигр кошкой перед ними покажется. Фрицы, конечно, не прошли, а от бригады горсть осталась: одни от пуль да мин погибли, другие – под танками, третьи – померзли. Погодка стояла – самому дьяволу на праздник. Ну, значит, осталась нас горсть – из погибших, кого успели, похоронили, а кто и остался, прихваченный морозом, в поле. Я старшиной был, зовет меня командир бригады и говорит: «Слушай, Мостовенко, – это фамилия моя) – надо выводить людей к Матвееву Кургану. Задачу, говорит, свою мы выполнили, хотя и дорогой ценой. Но что ж делать, война! Я, говорит, посылал разведку – путь один: вон мимо той высотки в овраг. Высотка обстреливается фрицами. Причем, говорит, пристрелялись они, стервецы, так, что надо не пройти, а прошмыгнуть, как мышь! Понятно?» Отвечаю: «Есть!». Прихожу к хлопцам и держу речь об этом. И вдруг встает парень, – таких, как я, полтора будет в нем, – и говорит: «Если, старшина, первым пойдешь, и мы пойдем за тобой, а так все равно, что тут, что там. Тут, говорит, даже лучше в компании со всеми хлопцами лежать, да и хоронить легче будет…» У меня, конечно, кулак чесался дать ему в то место, откуда рождались его подлые слова. Словом, пошли мы, и вот там, у самого кургана, где надо было ползком, на меня вдруг нашла гордость. Нужно ложиться, а я ватник распахиваю, вместо армейской ушанки – мичманку на голову – и вперед! Шлепаю малым ходом: мне, мол, со смертью играть в свахи нечего, я не невеста для нее… Уже проходил я высотку, оставалось два шага… И вот тут он как даст! Я делаю оверкиль, а впереди снаряд – бац! Воронка – хату спрятать можно. Хотел я в нее смайнаться – не успел: вторая болванка легла рядом, и меня засыпало. Только через два часа ребята откопали и долго потом йогом дразнили. Вот с тех пор у меня и образовалась какая–то бурмундия. Дошел до Берлина, потом нас перекинули сюда, на Дальний на Восток. Между прочим, тут меня и в офицеры произвели, и раз война обошлась со мной таким образом – ни раны, ни царапины, – решил я служить в армии до деревянного бушлата. Только вот бурмундия нет–нет да и мутит душу… А может быть, нам навернуть еще по одной?
Москва еще издали сообщает приезжим о своей деловитости. Конечно, грузовики, автобусы, пригородные поезда, пешеходы здесь такие же, как и около других городов. Но стоит вглядеться, и увидишь во всем – и в движении людей, и в движении машин – московский темп. Он становится особенно заметным, когда курьерский, сбрасывая пар, входит на территорию станции, когда навстречу несутся здания, машины, люди. И хотя города еще не видно, но он уже угадывается в могучем гуле.
Когда поезд остановился у перрона, Гаврилов на какой–то миг испытал прилив грусти: среди стаи носильщиков и москвичей, вышедших встречать курьерский, не было ни одного человека, который бы кинулся к нему.
Мамочка! Бедная, не дождалась его…
Гаврилов шел по перрону один – механика с краболова встретили родные. Лейтенант Мостовенко сошел в Ярославле, где у него была дивчина–военфельдшер, ушедшая на «гражданку». Инженер с «Алданзолота» слез еще на Урале.
У всех, с кем Гаврилов разделил время в пути, жизнь как–то была устроена, а ему все начинать сначала.
Но разве он один такой? Война у миллионов людей отняла прошлое, а у некоторых и будущее. Она сделала покушение и на его будущее. Гаврилов лишь чудом не стал полным калекой. Хорошо, что большую часть японского металла извлекли из него. Но вот рука – не рука, а полено. Правда, пальцы уже держат папиросу, спичечную коробку, а пуговицу не могут застегнуть – нет еще силы. А будет она, сила–то?.. Должна быть! Нужно только драться, а не хныкать. Этому его учили с детства.
Перрон быстро пустел. И стоило Гаврилову выйти на площадь трех вокзалов – Ярославского, Ленинградского и Казанского, как от грусти не осталось и следа. Москва поразительно энергична на этом древнем майдане! Здесь сходятся люди со всей страны. Дальний Восток, Сибирь, Средняя Азия, Волга, Север – потоки людей, разноязычный говор…
Гаврилов испытывал огромное удовольствие и от прохлады метро, и от приветливых взглядов москвичей. Какой–то мальчик, глянув на его усыпанную орденами грудь, встал и сказал:
– Садитесь, дяденька!
Гаврилов сел, устроил поудобнее руку и задумался. Куда ехать? В военкомат? А может быть, сначала в трест? Занята ли комната матери? Нет, все это не то! Сначала на почтамт – нет ли писем от Либуше. Он просил, чтобы письма на его имя сохранили до приезда. Ну, а если на почтамте ничего нет, остается еще Центральный телеграф. А если и там нет, тогда… Он не успел додумать: пришло время выходить.
Глава вторая
В армии не нужно было заботиться ни о хлебе насущном, ни о крове, ни о работе. А «гражданка» с первого же часа потребовала от Гаврилова огромной энергии и изворотливости для решения именно этих задач.
Комната матери была занята. Конечно, ее можно было бы вернуть либо через Моссовет, либо через суд. Но с кем судиться? С солдатской вдовой, у которой на руках трое ребятишек? Нет, счастья на чужой беде ему не надо! Однако, как говорил лейтенант Мостовенко, где–то нужно «якорь бросить». Пришлось побегать по Москве. В гостиницах требовали либо броню, либо направление от военного коменданта. Военный комендант отказал – Гаврилов к армии формально уже не принадлежал. Растерянный, он долго бродил по улицам, не зная, что же ему предпринять. На душе было невесело. Да и отчего бы веселым быть? Крова нет, от Либуше ни слова…
До десяти часов Гаврилов прошатался по улицам, затем, совсем обезножев, поехал на вокзал и только примостился на жестком диване в зале для транзитных пассажиров, как нагрянул военный патруль. Через полчаса он снова был у военного коменданта, а еще через полчаса – в гостинице.
В гостинице его поместили всего на десять дней. За это время нужно было встать на воинский учет, получить паспорт, оформиться на работу и где–то устроиться жить. Можно было, конечно, снять комнатенку за городом. Но это же не жизнь – мотаться туда–сюда. А надо и в вуз готовиться, и руку лечить. Надо разыскать кладбище, на котором похоронена мать, и что–то предпринять с Прагой… Ну почему Либуше не пишет? А может быть, больна? Умерла?.. Нет! Нет! Кто–то мешает ей – либо отец, либо Витачек. А как же ребенок? Либуше писала, что родила мальчика. С тех пор прошло больше года. Мальчуган, наверно, уже на своих ножках топает и лопочет: «папа…»
При этой мысли мрачное выражение лица сменяется улыбкой. И все же, что предпринять? С чего начать?
Узенькая, хорошо утоптанная тропа долго петляла среди неухоженных могил, потом выпрыгнула на поляну. Рядом с кладбищем, с этим царством скорби и печали, поляна выглядела удивительно веселой – среди разнотравья блестели то белые матросские бескозырки ромашек, то милые синенькие огоньки колокольчиков, то красные шапочки диких маков.
Гаврилов шел следом за кладбищенским служащим – одноруким инвалидом войны. На нем видавшая виды, стиранная–перестиранная, сильно выгоревшая и местами уже штопанная гимнастерка, армейские брюки с леями и кирзовые сапоги. Сухой, скуластый, с большим лбом, остроносый, он все время щурится, угрюмо сосет папиросу и время от времени сплевывает табачную горечь.
Вскоре тропа вывела их на разъезженную, ухабистую дорогу. Глубокие колеи налиты грязью. За дорогой, в невысоком ельнике, замелькали могильные холмики, свежие кресты, крашенные серебрянкой.
– Здесь, – показал левой рукой инвалид.
Они долго еще петляли среди могил, свежих и старых, старательно убранных и забываемых… Были тут мрамор и глина, золото и химический карандаш, фанера и железо, розы и бурьян, внимание и забвение, долгая любовь и долг, отданный в одночасье похорон.
– Во–он там могилка вашей мамаши, третья от дорожки, – сказал инвалид. – Вы один пройдете?
Гаврилов кивнул.
– Ладно. Мне тут еще надо одну территорию посмотреть. – Он глубоко вздохнул. – Растет кладбище, все новую землю подгребаем.
Мягко и осторожно ступая, словно боясь разбудить спящих, Гаврилов подошел к могильному холмику. На самодельном деревянном кресте черной краской, которой клеймят багаж на железной дороге и посылки на почте, было написано:
«Гаврилова Ек. Никит.
1883 г-д рожд.+ 1947 г-да,
м-ца фивраля читвертага»
Недалеко от креста лежал огромный валун. Гаврилов присел.
Он видел много смертей. Его. переживания обычно были недолгими и неглубокими – война! Но тут он чувствовал больше, чем жалость, больше, чем горе. Все, что он ни делал до сих пор, все как–то примерялось на то, как посмотрит на это мама. Трудно было – вспоминалась мама. Больно было – ее имя было первым на устах. Страшно было – вспоминал маму, и страх прятался. Награду к груди прикрепляли – в уме мама, как она будет рада, что сына ее наградили!
Он сидел у могилы матери долго, пока инвалид не коснулся его плеча:
– Идемте!
Гаврилов встал. Он плохо слушал то, что говорил ему инвалид об ограде, памятнике и об уходе за могилой. Мысли о матери как–то слились с мыслями о дальнейшей судьбе. Правильно ли поступил он, отказавшись от работы в тресте по передвижке и разборке зданий? Директор треста шел на все: «Хочешь, посажу на кадры? Не нравится чиновничать – возьми под начало всю домкратную братию…» Даже комната была обещана.
Но, собственно, что же неправильного было в том, что он отказался и перешел в строительный трест? Соблазнился лучшими условиями? А где они, эти лучшие условия? На новом месте его взяли на курсы машинистов–экскаваторщиков и дали койку в общежитии за Крестьянской заставой.
Но зато он будет строить, а не передвигать старое с места на место! Разве не в этом он клялся Либуше на высоких холмах пражского Вышеграда? А потом, какие бы трудности ни встретились на его пути, он обязательно станет архитектором. Как? А очень просто: днем – работа, а вечером – учеба. Это, как говорил Морошка, «железно!»
Да, ради этого можно побыть чернорабочим даже в тресте по передвижке и разборке гор! Ради этого не грех было скрыть, что правая рука у него неполноценная. Ради этого можно пожить и в общежитии, а не соблазняться комнатой.
Инвалид спросил, есть ли у Гаврилова родные, которые могли бы ухаживать за могилой. Гаврилов сказал, что, кроме него, некому.
– Что ж, капитан, – вздохнул инвалид, – ты, наверно, такой же горемыка, как и я. Рука–то чего в перчатке? Оттуда принес такую? Мерзнет?
Гаврилов кивнул.
– А действует?
– Будет.
Инвалид покачал головой.
– А моя уволилась насовсем! Ну что ж, капитан, фронтовик фронтовику должен помочь. Вижу, ты еще не оклемался на гражданке–то… Могилку–то прибрать надо. Цветочков, березку посадить… Уютней будет мамаше!
– Что?
– Я говорю – уютней будет. Я, конечно, не верю, но тут всякий народ ходит. Говорят, что они слышат…
– Кто?
– Покойники–то! Слышат, значит, заботятся о них близкие иль нет.
– Слышат?
– Ну да! Видеть уж неспособные, а вот слышать, говорят, слышат… Я, конечное дело, считаю – чепуха это! От него, конечно, от покойника–то, ничего наверх, в жизню, не поступает. Но другие считают, что поступает, и разговаривают с ним, с покойным–то. Точно! Недавно хоронили тут одного. Видный из себя мужчина, положительный, мастер с шинного завода. Вдова так убивалась – того гляди рядом с покойником лягет. Еле удержали. А когда заземлили покойного, встала в ногах и, как живому, говорит: «Отец! Ты не скучай, я к тебе приду скоро. Вот Тоньку выдам и приду! А то она, дуреха, без меня жизню свою изгадит в одночасье!»
Мне поначалу страшно было, веришь ли, капитан. А потом обвык и не замечал вроде. А евреи, те берут своего служку, ну, который по–ихнему молится, и он все поет: вот, мол, к тебе дочь пришла, она делает тебе честь и внимание, живет она так–то и так–то и просит тебя, чтобы ты пожелал ей и ее деткам, то есть внукам своим, счастья… Фарсмагония какая–то!
– Как вы сказали?
– Фарсмагония, говорю… А вы, товарищ капитан, конечно, в эту штуку не верите. Я тоже не верю. Я ведь до войны строителем был. Каменщиком. Завод «Шарик» в Москве строил. Потом на жилищное строительство перешел, дома на улице Горького клал. А как руку потерял под этим самым, под Кюстерном… Может быть, слыхали?
– Кюстрин.
– Ну да! Я и говорю – Кюстерн… А теперь видишь, заведующий стал. Начальник. Могилы строю. Да я бы, может, и не пошел сюда, на эту должность, да ведь как оно случилось–то… Вот ты женат, капитан?
– Женат.
– Женка хорошая?
– Хорошая.
– А чего ж без нее приехал?
– Далеко она.
– Вы что, не московские?
– Я московский, а она… пражская, чешка.
– Это как же понять? На войне, что ли, познакомился иль…
– На войне.
– Так! Значит, живет далеко, а к сердцу близкая. А моя живет от меня близко, а от сердца далекая–далекая! С фронта вернулся с пустым рукавом – руку–то мою, как говорил тебе, закопали в Кюстерне. На Берлин мы шли…
– Мы тоже.
– Это в какой же армии?
– Рыбалко.
– Рыбалкины танкисты? А ведь мы с вами вместе шли. Интересно! И чего только на свете не бывает! Ну вот, вернулся я с фронта. Ехали домой эшелоном. Встречали нас с цветами, с музыкой… После митинга – на рысях домой. Жил я недалеко от метра «Дворец Советов», в Третьем Зачатьевском. Может, слыхал, это у Метростроевской улицы. Домик, конечно, скромный, двухэтажный. Комнатенка небольшая, но светленькая, уютная. Квартира дружная… Что тебе сказать? Как шел от метра до дому, как подымался на второй этаж – не чуял. А как поднялся, стою у двери и постучаться боюсь. В руке чемодан, за плечами «сидор» – подарки жене привез. Стою, значит, и думаю, как жена посмотрит на мой пустой рукав: на войну–то провожала целого, а вернулся не в комплекте… Ну что скажешь, дрожу как студень и в дверь боюсь постучать, будто на меня оттуда вода иль огонь хлынут. Стою и вдруг слышу за дверьми смех. Меня будто кнутом огрели. Открыл дверь: за столом женка и какой–то хлюст. Скажи, капитан, что бы ты на моем месте сделал?
Гаврилов пожал плечами:
– Трудный вопрос.
– То–то, что трудный. И для меня был он трудный. В окопе перед летучей смертью не было так трудно, как тут! Посмотрел я на нее и не помню, как обратно подался, только слышу – она кричит: «Коля! Коля!» А я с лестницы, как мальчишка, на заду съехал – и на вокзал! В Киев хотел махнуть, звал меня туда один дружок – вместе до Кюстерна шли.
На вокзале засел в буфете. Тут ко мне пришвартовался один. Тары–бары, старые амбары, – и уговорил поехать сюда. Комнатенку в щитовом доме дал. Вот я и приклеился тут. Надолго ли – не знаю. Скажу тебе одно, капитан: если женку свою любишь, выручай ее оттуда. У меня дело конченое. А ты не бросай свою. Есть люди, которым все на свете одинаково. А я всегда относился строго к семейной жизни и знаю, что мужчине без семьи никак нельзя – радости нету! Ну что я? Только что на ногах держусь, а живу, как вон тот камень: на меня и ветер и дождь – все валится, если б не было солдатской привычки, мохом давно бы оброс. Согласен, капитан?
Гаврилов кивнул.
Когда они шли в контору, Гаврилов предложил инвалиду бросить кладбище, в стройтресте найдется для него работа. Инвалид не ответил.