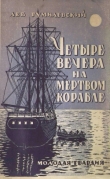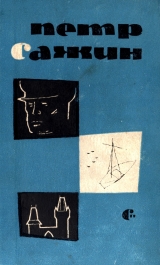
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
В конторе он бойко стал писать левой рукой.
– Научился, – сказал он, – а вот камень класть без второго рычага нельзя. Поэтому я и робею отвечать на твое предложение, капитан.
– А если протез? – сказал Гаврилов.
– Не думал я об этом. Да им тоже, наверно, много не намахаешь.
Гаврилов заказал ограду и скромный памятник. На прощание инвалид сказал:
– А ты, капитан, смотри не теряй женку. Нашему брату без жены – труба. Знаешь, как кладка без раствора, – не держится. Иной раз так за бабу думаю – аж сердце жгет. Ну, скажи, никакой жизни без нее нету… Ну ни синь пороха!
Он помолчал.
– А на работу к тебе, если моя военная утрата не будет помехой, пойду с удовольствием. А что в общежитии – это меня не пугает. Нет! Мне на людях – что рыбе в воде!
Когда Гаврилов отошел от кладбища метров на сто, его потянуло оглянуться. Инвалид стоял у конторки и смотрел вслед Гаврилову, как смотрят с берега на корабль, уходящий в море, – с мечтой и надеждой.
Глава третья
И началась жизнь на «гражданке»: вместо командира танка капитана Гаврилова – машинист ковшового экскаватора, офицер запаса Василий Никитич Гаврилов. Вместо удостоверения личности в кармане паспорт.
Гаврилову понадобился всего лишь месяц, чтобы овладеть экскаватором. Этому, конечно, способствовало отличное знание танка: в полку Бекмурадова у Гаврилова не было соперников. Пригодилась и довоенная выучка.
Новая жизнь подхватила и завертела Гаврилова, как вешние воды щепку в своем могучем потоке. С утра получение нарядов и затем: ковш – вниз, ковш – вверх, да побыстрее, чтобы взять побольше и аккуратно высыпать в металлический кузов самосвала. И так весь рабочий день: ковш – вниз, ковш – вверх… После работы спецовку в сторону, надевается новенькая гимнастерка, бриджи, хромовые сапоги – и в библиотеку: учеба!
«Даймлер» – мотоцикл хотя и не новый, но, как говорят автомобилисты, приемистый. Приятно «с ветерком» промчаться на нем по Москве. Но в библиотеке, как всегда, полно народу. Гаврилов никогда не думал, что в Москве столько людей учится! Проходит час, пока подходит его очередь. С охапкой книг под мышкой он пробирается к столу.
Эх, если б не возиться столько времени с нарядами! И потом, хорошо бы обойтись без заезда в общежитие. Но где же на котловане помыться и переодеться?
Весь вечер, пока сон не начинает клевать его, Гаврилов грызет гранит науки. Крепок этот гранит! Но и он тоже не слабак!
Постепенно Гаврилов втягивается в новый образ жизни. Не беда, что в поясном ремне пришлось проделать две новые дырочки и за ворот гимнастерки можно было свободно просунуть кулак, зато занятия шли успешно.
В природе нет более постоянного движения, чем движение времени. Гаврилов приехал в Москву весной, когда цвела сирень, когда листья на деревьях были яркие и блестящие. Весна незаметно уступила место лету. А теперь лето слезало с кареты времени: начал жухнуть лист на деревьях; в парках и садах запахло сеном; на лотках появились яблоки и сливы, а кое–где уже трещали от взрезов круглые головы арбузов – пришла осень.
Стрелки часов крутились все быстрее и быстрее. В начале лета экскаваторы работали на улице Горького– рыли котлован под восьмиэтажный дом. А в первых числах августа, на холодной и туманной зорьке, тяжелые машины пошли петлять по московским улицам да переулкам: их перегоняли на Фрунзенскую набережную, где против парка имени Горького начиналось строительство домов.
В первый послевоенный год строительство в Москве велось еще робко и без размаха: не хватало ни строительных рабочих, ни материала.
Немцы разрушили из двух тысяч девятисот пятидесяти двух городов – одну тысячу семьсот десять! В развалинах лежали семьдесят тысяч сел и деревень и тридцать одна тысяча промышленных предприятий. Всего свыше шести миллионов зданий. Эти цифры – сухая скучная проза. Но если глубоко вдуматься в них, то, кроме скуки, не отыщется ли в них что–то более важное? Для подсчета только строительных материалов потребны числа, какими пользуются астрономы. А цифры астрономов разве не предмет поэзии? Но дело не в цифрах, а в людях, которые должны месить глину, делать кирпичи, цемент, рыть котлованы, варить стекло, пилить лес, тереть краски… Сколько же труда и какого нужно на все это. Сколько рук!
Вот где поэзия! В труде десятков тысяч людей, производящих материалы для строительства, и в труде людей, воздвигающих здания!
Гаврилов умел мыслить масштабами, и поэтому ему не надоедало кажущееся однообразие работы на экскаваторе. Он работал не только увлеченно, но и с упоением, радуясь тому, что экскаватор, этот грузный с виду, может быть, кажущийся малоподвижным механизм слушался его беспрекословно. Раскрывая ковш над самосвалом, Гаврилов не просыпал ни горстки земли. Да и загребал быстро и энергично. Недаром, когда Гаврилов работал близко от тротуара, москвичи часами простаивали около него. Никто не знал, сколько нервов и пота ему это стоило! Четкая и ладная работа со стороны всегда кажется легкой: посмотрите – вон спортсмен прыгнул в высоту ну просто играючи, как птица, перемахнул через планку. А гляньте на конькобежца – он же без всяких усилий несется со скоростью ветра по зеркальному льду. А что же делает теннисист? Он просто вовремя подставляет ракетку, и мяч отскакивает от нее на площадку противника…
Просто, легко и красиво всегда получается там, где красоте и легкости предшествует труд, слитый с терпением и волей.
Рука Гаврилова долго не подчинялась его воле: опасаясь боли, она то слишком быстро передвигала рычаг, то слишком медленно. Раздавались грохот, скрип, экскаватор трясло как в лихорадке. Отработка повторялась до тех пор, пока машина не переставала дергаться и скрипеть. Работа экскаваторщика – дело вообще–то скучное. Ну что в ней от художества? Ничего. Черпай грунт из котлована да вываливай либо в грузовик, либо на сторону. Любого посади за рычаги, обучи ими двигать, и он будет таскать землю. Это, может быть, и верно – не боги обжигают горшки. Но художественная работа – удел художников, все равно, колет ли человек дрова или фугует ножку для стола, кует ли подкову для мерина или паяет на фефке волосяной тонкости деталь для серебряных кружев!
Талант и труд – как корень и ствол дерева – отдельно не существуют. Настойчивость и упорство Гаврилов вкладывал и в подготовку к экзаменам в архитектурный институт.
С Фрунзенской набережной стало дальше ездить и домой, и в библиотеку, и в лекторий университета, где Гаврилов слушал лекции для поступающих в вузы. Ну что же, один он, что ли, в таком положении? Сядьте на трамвай номер сорок один или на «Аннушку» – посмотрите, сколько людей пожирают страницу за страницей. А в электричках или пригородных поездах, которые идут от Москвы до каких–нибудь Черустей или Малоярославца по два часа? Вот тут читают так читают! Студент в этих поездах не редкость: это те, кто из–за отсутствия мест в студенческих общежитиях снимает за городом у частников «углы». Два раза в день, по нескольку часов проводят они в поездах. Здесь время не пропадает даром: решают задачи, «спикают» по–английски или «парлекают» по–французски. И ничего – всё успевают: сдают зачеты, защищают дипломы, уезжают на периферию и потом удивляются, как они все успевали. А самое главное – ни на что не жалуются…
И Гаврилов не жаловался. Он ограничивал себя во всем: работа, учеба и никаких развлечений!
Инвалид не подвел его: и памятник–плита из черного камня, и скромная оградка, похожая на сложенные накрест копья, были сделаны. Но самого инвалида не было: человек, занявший его место, рассказал Гаврилову, как инвалид на похоронах встретил своего бывшего начальника – он с ним еще до войны работал на стройке – и тот увез его. «Мы, говорит, оборудуем тебе протест (так этот человек называл протез), и ты, говорит, за милую душу опять станешь каменщиком первой руки».
Гаврилов огорчился – солдат понравился ему. К тому же он все подготовил на стройке, чтобы перетащить однорукого. «Ах, Кюстерн! Кюстерн! Ладно, что хоть ушел отсюда», – подумал Гаврилов.
Возвращаясь с кладбища, Гаврилов задумался. Все у него как будто складывалось хорошо – на работе его ценят, документы в институт уже приняты, скоро экзамены, – а из Праги, как говорил однорукий, «ну ни синь пороха»! Что же там случилось?
Через восемь с половиной месяцев после отъезда Гаврилова из Праги студентка факультета всеобщей медицины Карлова университета Либуше Паничекова родила мальчика. Роды проходили тяжело.
Мальчик был крупный, горластый, свое появление на свет отметил таким криком, что измученная вконец родами, впавшая в забытье Либуше очнулась и спросила:
– Он умер?
Матери показали могучего хлапца [27]. Он так дрыгал ножками, словно хотел взлететь. Либуше облегченно вздохнула, не стесняясь набежавших слез, поцеловала ребенка и отдала сестре. Мальчик был до того хорош и до того похож, по ее мнению, на Гаврилова! Она вдруг отчетливо, с приятной щемотой в сердце, вспомнила все: и то, как танковая колонна вошла в Травнице и она с букетом сирени подбежала к танку, в люке которого стоял русский офицер… Вспомнилось, как она поцеловала офицера в колючую небритую щеку… Боже! Да что только не пришло ей на память в этот счастливый миг. Но зачем она дала клятву перед распятием никогда не писать Василю!
А воспоминания плыли и плыли. Травницкие холмы. Прага, хмельная любовь, прощание на вокзале, беременность… «Где ж он теперь, ее милачек? А если написать ему? Написать о том, что он отец, что мальчик так похож на него, – это же не будет нарушением клятвы? Это же для мальчика!»
Либуше сняла с шеи крест с распятием и долго сосредоточенно смотрела на него. «Переписываться она не будет, нет! А сообщить отцу о рождении ребенка просто необходимо!»
Либуше долго не решалась нажать кнопку звонка. Но когда вошла дежурная сестра, она с удивительным для себя спокойствием попросила бумагу, конверт и ручку.
Время шло. Давно уже слезли с лесов механики и живописцы, чинившие часы на Староместской ратуше. Часовые стрелки снова вращались с той же точностью, как и в 1490 году, когда всеславный механик Гануш из Руже впервые установил их. На циферблате живописцы вывели календарий, показывавший дни, недели, месяцы и годы. А во время боя курантов в окошечках над циферблатом снова стали появляться двенадцать апостолов.
Пятое столетие часы шли с первородной точностью, стрелки их без устали ткали время, и через каждые двадцать четыре часа с циферблата слетал новый день. Великие события творились в мире: рабы рвали цепи колониализма; ученые снимали путы с атома; в Старом свете возникали новые государства – почти полмира освободилось от капитализма; народы, пострадавшие от войны, отстраивали разрушенные города; самолеты летали, перегоняя звук, а в жизни Либуше, кроме появления на свет Мартина, ничего не менялось. Жизнь держала ее в тяжелом кругу домашних забот. Либуше не стало легче и после того, как Иржи Паничек встал с постели. Оплывший, неестественно розовый, он целыми днями либо шаркал шлепанцами по паркету, вмешиваясь во все, либо сидел в кресле перед окнами, выходившими на Староместскую площадь. Болезнь развила в нем самые тяжелые, раньше почти незаметные, черты характера: эгоизм и подозрительность. Не желая его огорчать, Либуше не говорила ему, как сложна жизнь в Праге. На столах чехов было больше посуды, чем еды, – на карточки давалось так мало! А у отца, словно назло, во время болезни появился аппетит здорового человека. Как все испуганные тяжелой болезнью, Иржи Паничек попал в рабство собственному здоровью: он неукоснительно соблюдал режим питания и требовал то, что прописывал ему такой же наивный в житейских делах Ярослав Смычек. Либуше измучилась с ними. Если б Гаврилову довелось случайно встретить ее на улице, он, пожалуй, не сразу узнал бы ее – так она изменилась: глаза запали, нос заострился, а круглые, румяные, с легкой подзолотцей щеки побледнели. И только волосы не потеряли ни пышности, ни блеска.
Либуше не понимала, каким чудом она держится. Ее день начинался вместе с солнцем, а кончался, когда часы на Староместской ратуше отбивали двенадцать ночных ударов.
Сон приходил не сразу. Нужно было подсчитать расходы, продумать план следующего дня. Сколько же это занимало времени!
Не было дня, чтобы перед сном Либуше не вспомнила о Гаврилове. Где он? Как живет без нее? Получил ли ее письмо о рождении сына?
Письма от него продолжали приходить. Отец складывал их в портфель и – в письменный стол, под замок! Сколько раз она удерживала себя от соблазна взломать этот замок. Плакала ли она? Как еще! И не раз. Она и жила только потому, что Мартин смотрел на нее глазами Гаврилова, улыбался его улыбкой, да и ушки у него – две нежные розовые ракушки – были точной копией отцовских.
Кормя ребенка грудью, она часто играла с ним, называя его Васильком. Ах, какие же это были счастливые минуты!
Время шло. Мартин рос. Однажды он сполз с материнских рук, испустил радостный крик и вдруг встал на ноги и пошел. На четвертом шаге его повело в сторону, и он, конечно, шлепнулся бы, если бы мать вовремя не подхватила его. Мартин не испугался, напротив, это развеселило его. С радостными возгласами «дззы-ы, дззы-ы» он замахал ручонками и снова потянулся на пол. С тревожно бьющимся сердцем Либуше спустила сына. Шаг, другой… Мартин обрел силу и пошел, широко расставляя пружинистые ноги. У стены он сел и, пуская пузыри, пронзительно выкрикнул: «Гры-ы, гры-ы…»
Обратный путь мальчик почти пробежал с восторженным визгом. Как же Либуше хотелось, чтоб рядом с ней в этот счастливый час был Василь!
Дед не принимал участия в радостях дочери. При Либуше он был равнодушен к внуку, но, когда она уходила из дома, старый доктор становился обыкновенным дедом – «милым Иржиком», наивным, сюсюкающим чудаком. Он брал внука на руки, агукал, вытягивая губы, цецекал языком, щекотал Мартина и целовал его аппетитные ручки. Но как только слышал на лестнице шаги Либуше, клал внука в кроватку, спешил к своему месту, делал серьезное выражение лица и закрывался газетой.
Так шло время. Либуше безропотно несла свой нелегкий груз – растила сына и ухаживала за отцом. Дед стал гнуться, а внук распрямился, наливался силами и все более становился похожим на отца.
…Список принятых на первый курс вечернего отделения архитектурного института был небольшой – всего двадцать пять человек. Гаврилов без труда нашел свою фамилию под шестым номером. Да, да, это был он! Ну конечно же он, Василий Никитич, а не кто–то другой. Эх, отпраздновать бы! А с кем? Бедная мама не дожила, а самый близкий после нее человек далеко. Друзья–однополчане раскиданы по всей стране, а на «гражданке» он еще не успел обзавестись новыми. Некогда: днем – работа, вечером – учеба. Девушки у него тоже не было. Гаврилов следовал отцовской морали. Незадолго до своей смерти, в разговоре за столом по поводу нашумевшей газетной статьи, в которой описывались похождения одного «гусара», отец сказал: «Запомни, Василек: Гавриловы женятся один раз!»
Слова эти глубоко запали в душу, хотя семнадцатилетнему пареньку снились тогда ратные подвиги. Но вот пришло время и ратных подвигов, и женитьбы. Он женился. Но что же? Жена – там, он – здесь. С кем ни поговоришь, смеются: «Поду–у–маешь, женился! Да на войне каких свадеб не было!»
Находились дружки, которые пытались затащить Гаврилова то на вечеринку, то на танцы, а то и прямо, без маскировки, «к девочкам». «Что это ты, – говорили ему, – все о работе да об учебе? Хватит тебе поститься, пора оскоромиться!»
Выйдя из института, Гаврилов вдруг ощутил, что его руки, которые всего лишь час назад были как–то незаметными, теперь вдруг стали обузными – их вроде некуда деть, не к чему приспособить, но сердце полным–полно солнца. Он – студент Инженер Чакун – начальник строительной конторы – назвал его идиотом, зачем, мол, пошел на вечернее отделение. Чудак этот инженер – он все измеряет категориями прошлого… Нет, Гаврилов правильно сделал: работая на стройке, он всегда будет в курсе современных методов строительства. Еще не известно, кому больше будет к лицу то звание, которым наградил его инженер Чакун!
Ах, подумал Гаврилов, если б рядом была Либуше! Посадил бы ее на багажник и пустился бы на Ленинские горы – посмотрела бы она, какая оттуда красотища открывается! А что, если сейчас, когда на душе так хорошо, махнуть в Министерство иностранных дел и выяснить, нельзя ли ему до начала занятий в институте съездить в Прагу!
Вскочив на мотоцикл, он через две минуты был у министерства. Сухонький, в безукоризненно сшитом костюме работник министерства долго, с какой–то крайней степенью вежливости, граничащей с раздражительностью, утомительно долго стал объяснять Гаврилову, что министерство не занимается выезжающими за границу по личным делам. Затем добавил, что вряд ли Гаврилову удастся добиться положительного решения этого вопроса – Верховный Совет принял указ о запрещении браков между советскими гражданами и иностранцами.
Закон, запрещающий вступать в браки? Но что мне закон, когда у меня сын, понимаете, сын родился? Нет, никто не хочет понять его! Никому нет дела до какого–то Гаврилова. Подумаешь, сын? Мало ли их рождается каждую минуту… Что ж, придется ехать на Моховую.
Работник приемной Председателя Президиума Верховного Совета в габардиновом кителе и серых, заправленных в мягкие шевровые сапоги брюках внимательно выслушал Гаврилова, затем сказал, усмехаясь:
– Чудак ты парень! Где же ты раньше был? У нас что сейчас? Июль тысяча девятьсот сорок восьмого года. А указ, запрещающий браки с иностранными подданными, принят – вот смотри – пятнадцатого февраля сорок седьмого года! Тебе нужно было прийти… ну, скажем, полтора года назад. Брак–то оформлен? Нет? Так чего же ты, чудак, хлопочешь? А? Ты что, в Советском Союзе не найдешь хорошей девчушки, что ли? Ну зачем тебе чешка? Брось ты напрасные хлопоты! – И, как бы считая, что с этой темой покончено, спросил: – Трудоустроился? Помощи не надо? Смотри не стесняйся. Поможем! А то у нас были случаи, когда хозяйственники не принимали фронтовиков на старые места.
Гаврилову долго не удавалось вставить слово – человек все говорил и говорил. Наконец Гаврилов встал:
– Спасибо!
– Да за что же спасибо–то? Я ж для тебя ничего не сделал, – сказал работник приемной. – Ты смотри, если с работой затрет, давай, брат, топай к нам. Поможем. Обязательно поможем! А эту блажную идею брось, – он добродушно рассмеялся. – В Москве да не найти хорошей девчушки, тогда где еще искать! Ну, желаю тебе, фронтовик, счастья!
«Счастья»! – повторил про себя Гаврилов с горькой улыбкой.
«Нет, – рассуждал он, садясь на мотоцикл, – ничего вы, уважаемый товарищ, не смыслите в этом тонком деле. У вас не было, наверно, его, настоящего–то счастья! Не смыслите вы и в том, что никакой закон не в силах запретить любовь! Никто и ничто, кроме смерти».
Возбужденный, он примчался на почтамт. Письмо к Либуше получилось длинное, сумбурное, горячее. Гаврилов заклеил конверт и собрался уже опустить, как вдруг его охватило сомнение – стоит ли? За два года он столько отправил их! Хоть бы раз пришел ответ…
Гаврилов разорвал письмо.
Письмо порвано, но как вырвать из сердца и памяти любовь к той, чей адрес был на конверте?!
…Мотоцикл несется быстрее птицы. Огни, светофоры, милиционеры, встречные машины – все пускай летит к черту!
Через Красную площадь он вырвался на набережную. Пролетел мимо Кремля. Нырнул под Большой Каменный мост, а у Крымского его остановил регулировщик, потребовал водительские права и долго отчитывал за быструю езду. Козыряя милиционеру, Гаврилов с трудом вскинул руку – так она вдруг заныла.
Вырулив на Крымский мост, он помчался «с ветерком» к Калужской заставе, а оттуда на Воробьевское шоссе, мимо сонной деревушки, утонувшей в садах, выехал на Ленинские горы.
Большая скорость, встречный ветер немного успокоили его. Он остановил мотоцикл у вышки лыжного трамплина и закурил.
Отгороженная рекой, похожей на кривое лезвие татарского ятагана, внизу лежала дымная, загадочная, манящая к себе мигающими огоньками Москва. Над ней висел грохот и чад. В смутном блеске огней сверкало золото куполов.
Он долго стоял, стараясь ни о чем не думать, просто смотрел на город и слушал, как он гудит. Уже темнота совсем сгустилась, и небо вызвездилось, а ему не хотелось уходить. На Потылихе взлаяли собаки. Внизу, сверкающий огнями, пролетел речной трамвай. В небе золотой синицей вспорхнула звездочка. Гаврилов хотел, как в детстве, загадать на звездочку, да не успел. С восторгом и удивлением он смотрел на черный шатер вселенной. Легко нашел и Волопаса, и Гончих Псов, и Каллисто, обращенную гневом Зевса в медведицу. Недалеко от Большой Медведицы – яркий блеск Кассиопеи, чуть южнее – три яркие геммы ее дочери Андромеды.
Прекрасная Андромеда, дочь мудрого Цефея и Кассиопеи! Быть бы ей во чреве Кита, если б не смелый сын Эллады Персей. Прекрасный Персей возвращался домой на крылатом Пегасе с притороченной к седлу головой Медузы Горгоны, когда увидел прикованную к скале Андромеду. Меч Персея разрубил цепи. Спешившему за жертвой Киту Персей показал голову Горгоны. Доверчивый обжора не знал силы глаз Медузы, глянул в них и тут же окаменел…
Гаврилов долго смотрел на небо, мысли его блуждали среди звезд, и вдруг он вспомнил, что так же выглядело небо и над Прагой накануне его отъезда в Берлин. Как же хороша была та ночь и как же коротка! Нет, астрономы ничего не знают о ночах и звездном небе!
Снова пронеслась падучая звезда. Гаврилов загадал, вышло, что его желание исполнится.
Теперь бы ему меч Персея да резвого Пегаса!
Глава четвертая
Жизнь Гаврилова металась, как река на порогах.
Поздним вечером, усталый, даже не прослушав «Последних известий», поплещется под холодной струей умывальника, булочку пожует – и в постель.
Конечно, лучше всего сразу заснуть. Но где там! Мысли то и дело рвут непрочную ткань сна. Мысли о работе, институте. А когда Морфей уже начинает «закрывать ставни», выясняется, что сна–то у него и нет – так, на донышке…
Подъем в шесть. Гимнастика. Затем упражнения для руки. Обтирание. Кружка чая. Дальше все идет в темпе: тренировочный костюм в шкаф, на себя – гимнастерку, полугалифе, хромовые сапоги и фуражку с бархатным околышем. Потом на мотоцикл, и по набережной почти через всю столицу.
Утренняя Москва – веселая, кружится, бежит навстречу вся в золоте утреннего солнца. Так бы ехал и ехал.
За ночь поручни экскаватора остыли, оброснились. Пока мотор греется, обтирочные концы гуляют по стеклам кабины. Потом пройдутся по сиденью, по поручням. А как только машина готова, папиросу долой, и давай: ковш – вниз, ковш – вверх…
Водители самосвалов первое время ворчали: тяжело было приспособиться к четкой работе Гаврилова, но очередная получка убеждала их в том, что экскаваторщик, пожалуй, не такой уж блажной парень.
Напротив строительства – парк имени Горького. С того берега по вечерам доносится музыка и девичий смех. Видно, как крутится «чертово колесо», взмывает к небу на стальной мачте серебряный самолет, машут крылами качели, малявинской бабой кружится карусель.
По реке челноками снуют шестерки с шоколадными гребцами. Из воды торчат головы купальщиков в разноцветных шапочках и шлемах. Мышцы у гребцов – литые. А пловцы так и заманивают в воду!
Хорошо бы искупаться! Да где там! Напротив строительства нет спуска к реке – он у Крымского моста, – пока дойдешь туда, половины обеденного перерыва как не было! Конечно, рабочий ум смекалист: спустили канат, и по нему – в реку.
Но на другой день около этого места милиционер, как огурец, вырос: «Давайте прекратим!»
Ковш – вниз, ковш – вверх… После работы, чуть пригнувшись, лавируя и отчаянно напрягая волю, молнией мимо тяжелых грузовиков, автобусов и троллейбусов, как через дремучий лес, в библиотеку: нелегкое это дело перескакивать через курс! Но нужно. Нужно? А сколько же можно так жить? Когда же можно будет просто выскочить за город и полежать на траве и смотреть, как плывут в голубом небе серебристые облака? И когда же наконец придет весточка от Либуше?
Осеннее солнце все еще живет щедротами лета: днем сильно припекает, и небо стоит высокое и голубое. На улицах высятся горы арбузов, слив, сизых и холодноватых, как утренние зори. А яблоки! Как будто в садах во время войны не падали снаряды. Падали, да еще как! Просто природа быстрее человека залечивает свои раны. Природа? А что она знает о самом совершенном своем плоде – человеке? Ничего! Ровным счетом ничего!.. Как, впрочем, и сам этот совершенный плод ее – о себе…
Надвигалась осень. Однажды ранним утром, когда солнце еще только «одевалось», прежде чем выйти на горизонт, Гаврилов увидел в высоком небе тонкие стежки журавлиных косяков и загрустил. Дни становились короче, а приступы тоски длиннее и мучительнее. Спалось плохо. Что ни делал, перед глазами – Травнице да Прага.
Четвертый год отсчитывал день за днем, а помнилось так ясно, будто вчера все это было. Особенно то утро на вокзале, когда он уезжал в Берлин. Заплаканное лицо Либуше, и глаза круглые, испуганные, и судорожный замок пальцев на его рукаве… Но почему же она не пишет? Разлюбила? Нет! Там что–то случилось. А что? Загадка. Что же предпринять ему еще? Как же попасть в Прагу?..
Вечером после работы Гаврилов зашел в контору. На столе у Чакуна лежала «Вечерка». Внимание Гаврилова привлекла заметка о том, что Чехословацкое правительство закончило переговоры с Советским правительством об установлении прямого железнодорожного сообщения между Прагой и Москвой через Минск – Киев – Львов – Чоп – Черни над Тиссой – Оломоуц. А что, если наняться проводником? Наука тут небольшая.
…Преждевременно оплывший, на вид лет тридцати пяти – сорока, железнодорожный майор, внимательно выслушав Гаврилова, потер широкий – лопаткой – нос и со вздохом сказал:
– Ну и задал ты себе задачку.
Гаврилов посмотрел на высокий штабель орденских планок над клапаном нагрудного кармана майора, затем на его теплые серые глаза и подумал: «Добрый. Не может быть, чтобы не помог!»
– Пустой номер тянешь, парень.
Ответ был таким неожиданным, что Гаврилову показалось, уж не ослышался ли он.
– Ты что, слепой иль газет не читаешь? – сказал досадливо майор. – Сейчас идет борьба с безродными космополитами, а ты со своей чешкой… Иди–ка ты, парень, обратно на свою стройку и не рыпайся! Чего уставился? Хочешь сказать – за что кровь проливал? – Майор, сильно припадая на правую ногу, вышел из–за стола. – Видишь, какую бандуру вместо ноги мне в госпитале привинтили? Ну и что? Мы одни с тобой, что ли, воевали?.. В общем, не могу я взять тебя: мест нет – своих железнодорожников хвост целый. А потом эта твоя чешка. Затаскают нас с тобой. Связь с заграницей. Понял? Еще влепят чего–нибудь, а то и загонят, куда Макар телят не гонял. Не ходи никуда больше. Потерпи. Придет время, найдешь свою чешку…
Мрачным вернулся Гаврилов от майора. О своем разговоре не сказал никому. Но в конторе быстро заметили, что с ним что–то случилось, – он словно бы озверел – так работал, что самосвальщикам и покурить некогда было.
Нарядчица конторы СМУ‑12 «Мосстроя» Вера Ковшова, плотная, с большой грудью и крупными карими, стойкими под чужим взглядом глазами девушка, всякий раз, когда Гаврилов приходил за нарядами, старалась задержать его ничего не значащим, пустым разговором. Но Гаврилов всегда куда–нибудь торопился. Вера нашла выход: дока–девка, она стала задерживаться в конторе для выписки нарядов к следующему дню и утром прямо у конторы вручала их бригадирам. А когда подходил Гаврилов, говорила ему: «Иди, я принесу тебе на агрегат».
Сначала она, конечно, не догадывалась о том, какие это будет иметь последствия: преследовала лишь свою цель – при вручении наряда Гаврилову поговорить с ним наедине. Но дело приняло общественный характер, и ее инициатива была отмечена приказом по конторе, а спустя некоторое время – и по тресту. Ей выдали премию. В газете «Московская правда» появилась статья об инициативе нарядчицы Веры Ковшовой.
Но на Гаврилова Верина популярность не оказала никакого влияния…
Перед ноябрьскими праздниками группа передовиков СМУ‑12 выехала с субботы на воскресенье в подшефный колхоз помочь в ремонте инвентаря и вывозке овощей.
С бригадой поехали жена начальника конторы Надя Чакун и Вера.
Осень стояла сухая и теплая. В колхоз приехали поздним вечером, разместились в школе.
Перед сном походили по селу. Когда вернулись в школу и легли, долго болтали, пели песни. Особенно старалась Ковшова: она пела с какой–то пронзительной громкостью. В полночь все стихло. Отшумела и деревенская улица. Только кое–где побрехивали собаки. Гаврилов долго не мог уснуть: было душно и кто–то так прилежно храпел, будто вода кипела в перегретом радиаторе. Гаврилов встал: надо устраиваться где–то в другом месте. Он нащупал дверь, открыл. Это была учительская. Зажег свет, принес охапку соломы, лег.
Гаврилов не помнит, сколько спал. Проснулся от жаркого шепота над ухом:
– Ну же, проснись!
Гаврилов приподнялся на локте. Вера Ковшова!
– Накрой меня! – прошептала она. – Я совсем закоченела. Легла с Надей, а проснулась – Нади нет, пальто нет: ей не спится, гулять пошла, видишь, луна. Ну чего ты шарахаешься? Я тебя не съем…
– Хорошо, – тихо сказал он и встал.
Вера легла на его место. Он накрыл ее шинелью. Сел. Закурил. Тусклый рассвет еле–еле пробивался сквозь слежавшуюся темноту. Вера с удивлением смотрела на него из–под шинели.
– Ты чего не ложишься? Боишься, что ли? – Она усмехнулась. – Ты со всеми так?
Гаврилов молчал.
– Что молчишь?
Гаврилов пожал плечами.
– Я что, противная?
– Согрелась? – спросил он.
– Согрелась, – сказала она. – Ложись. Не бойся.
– Тсс! Что шумишь? – прикрикнул он. – Бери шинель и иди туда, где была!
Ковшова вскочила, с презрением бросила Гаврилову под ноги шинель и вышла. Гаврилов докурил папиросу, прислушиваясь к голосам в соседней комнате, разобрать ничего не мог, раскрыл окно и выпрыгнул на улицу.
Далеко–далеко разгоралась заря.
Гаврилов пересек густо заросший муравой выгон и пошел прямиком, через жнивье, к лесу.
Возле леса текла речка, узенькая, но шустрая, густо заросшая кугой и давно уже отцветшими кувшинками. Хорошо обтесанный временем камень наполовину лежал в воде. Снизу он был обтянут зеленой шелковистой тиной, а сверху блестел, как лысина. Гаврилов сел на него. В небольшом омуточке, над которым нависал валун, он увидел стайку плотвы. Рыбки, не испытывая никакой тревоги, беспечно играли, поблескивая серебряными боками.