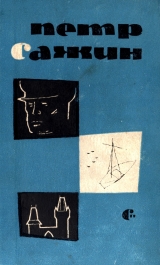
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
В Гаврилове проснулся рыбак, но в руках у него лишь портсигар да зажигалка – подарок Либуше. Он долго сидел над омуточком. Утренний покой в природе – ласковое журчание воды, жирование рыбы, медленный налив утренней зари – успокаивал. В кармане оказались хлебные крошки, он бросил их в воду. Плотвички вначале дали стрекача, но нашлась среди них отважная, клюнула крошку – та отскочила, она нагнала ее, схватила вытянутыми губами и стала по–старчески жевать. Мгновенно стайка рыбок подскочила к ней. Гаврилов улыбнулся. Вдруг невдалеке мелькнула тень, и плотвичек как ветром сдуло. В омуточке появилась плоская морда матерой щуки. Гаврилов не успел поднять руку, как щука исчезла.
По дороге с реки к нему стало возвращаться прежнее беспокойство. «Черт знает, что могут подумать обо мне! – рассуждал он про себя. – И как теперь глядеть ей в глаза?»
Почти весь день Гаврилов проработал со слесарями, и трактор, который давно безмолвно стоял под навесом, вдруг чихнул дымком, сначала черным, а потом дал легкий голубоватый и весело застрекотал.
Когда ехали обратно, Гаврилов, – с ним рядом, не выдержав характера, сидела Вера Ковшова, – беспричинно улыбался. Потом стал дремать. Сон поборол его, и Гаврилов уронил голову на плечо Вере. Ковшова с каким–то неестественным оживлением, в котором звучало наигранное раздражение, сказала, кивая Наде Чакун:
– Посмотри, Надя! Нашел себе подушку, герой! – Она тряхнула плечом. – Да что он, прилип, что ли?
Надя сказала:
– Не трогай ты его, Верка! Пусть спит. Устал он. Видишь, какой бледный…
– Хм! Я что ему – дом отдыха? Возьми к себе на плечо, если тебе его так жалко!
– Ну, будет, Верка!
Ковшова снова дернула плечом, ухмыльнулась и вдруг тихо запела. Песню подхватила Надя. Наивно–трогательную песню военного времени – «Огонек». Надя и Вера пели ее так хорошо, что в машине смолкли разговоры, и под эту песню въехали в Москву.
После поездки в колхоз о Гаврилове и Вере Ковшовой пошли разговоры. Гаврилов сначала пытался опровергать их, но этим лишь подливал масла в огонь. Поняв это, он замкнулся и стал избегать встреч с Ковшовой. Будь Гаврилов наблюдательнее, он, конечно, заметил бы, как страдала Вера. И не столько от разговоров, сколько от того, что Гаврилов не обращал на нее никакого внимания, хотя досужие языки создавали ей славу неотразимой покорительницы мужских сердец: «Ай да девка Верка! Какого парня обратала!»
А она, приходя домой, плакала: «Ну за что он меня не любит!»
Глава пятая
Гаврилову порой казалось, что он чувствует движение времени физически. И в самом деле, оно уже не текло, как медленная степная река – так ведь течет время в детстве, – а низвергалось бешеным водопадом.
Давно ли Гаврилов договаривался в институте о том, чтобы ему разрешили в новом, 1949 году держать экзамен за два курса: за первый и второй. Это было в ноябре, а теперь март! Четыре месяца пролетели, как мгновение.
Гаврилов так похудел, что Вере стало жалко его, и она, отбросив женскую гордость, решилась первой подойти к нему.
Гаврилов не нуждался ни в жалости, ни в сочувствии. Всю зиму он занимался так, что «аж пар шел!». И вот пришла весна… Небо стоит высокое, синее, облака белые–белые. Солнце с самого утра старательно подпиливает сосульки… Хорошо! Но Гаврилову не до солнца и не до Веры: каждая минута на учете, он уже к обеду выполнил дневную норму. Вылезая из кабины, бегло окинул взглядом котлован и сразу наметил план послеобеденной работы. Тут его и окликнула Ковшова.
– Я слышала, ты уходишь от нас?
– Куда же это я ухожу?
– Разве ты не знаешь?
– Знал бы, сказал…
– Ах вот как! Что же, выходит, «без меня меня женили»?
– Ну, женить–то меня, положим, не к чему. Кто же тебе сказал такую чепуху?
– Чакун.
– Надя?
– Зачем Надя… Сам.
– Не понимаю. Я должен уходить, а говорят об этом тебе.
Ковшова смутилась.
– Понимаешь… Чакун не прямо мне говорил, а… ты только не подумай, что я подслушивала. Я просто была в конторе, когда он разговаривал по телефону с трестом. Понимаешь, тебя хотят взять в трест… Пойдешь?
– А ты как считаешь?
– Дело хозяйское. Раз у тебя здесь нет интереса… – Вера вздохнула, посмотрела в глаза Гаврилову и сказала: – Смотрю на тебя и никак не могу понять: с виду ты парень как парень, а если… – Она остановилась, прищурила глаза, как–то сокрушенно дернула плечами и неожиданно закончила: – Ну, да ладно!
– Что ладно? Говори, раз начала.
– А то ты сам не знаешь?
– Все не можешь забыть поездку в колхоз?
– Дурной ты!
– Что ты хочешь? Говори! Мне некогда.
– Ясности!
– А какая же еще нужна ясность?.. Разве Надя Чакун ничего не говорила тебе?
– О чем?
– Что я давно женат!
– Как женат?!
– Ну, это длинная история! Надя знает…
Ковшова горько усмехнулась.
– Надя знает! А Верка Ковшова – нет. Хорош кавалер. Ты, Гаврилов, наверно, думаешь, что на тебе свет клином сошелся? Запомни! Если тебе встретится еще такая же дура, не прикидывайся хорошим парнем. Прощай!
Она резко отвернулась от него и побежала к конторе. Только теперь, глядя ей вслед, Гаврилов заметил, какая у Ковшовой стройная фигура.
В середине мая на Ленинских горах, на Потылихе и у Новодевичьего монастыря расцвели сады. Они цвели неделю, а как только обронили цвет – наступила жара.
Однажды, поднявшись чуть свет после душной ночи, Гаврилов вывел мотоцикл и понесся на Фрунзенскую набережную. По чистому голубому небу только что еще начал разливаться нежный розоватый свет спешившего к восходу солнца. Поставив мотоцикл, Гаврилов вышел к Москве–реке. Вода текла тяжело, и в ней нехотя поблескивали еще слабые краски утренней зари. Стояла тишина. Только со стороны Крымского моста доносился гул ранних машин да в соседних дворах, возле новых домов, шаркали метлы дворников. На кудрявых липах беспокойно верещали воробьи. Черная с палевыми пятнами кошка кралась в молодой траве. Вдруг Гаврилов услышал крик:
– Глядите! Воздушный шар!
Над Ленинскими горами, на высоте примерно трехсот или четырехсот метров, Гаврилов увидел воздушный шар. На набережную высыпали рабочие.
– Кино, наверно… Снимают, как мы тут новую Москву строим, – сказал кто–то.
Ему возразили:
– Ну да, так им и понадобилось с шара снимать, как мы тут копаемся. Москва небось не в одном месте строится. Вот на Можайке дома как грибы растут! А у нас тут не больно шибко. Кругом частная собственность…
– Подумаешь! – возразил широкоплечий, быковатый с виду слесарь–сантехник. – Вон Гаврилов ковырнет ее – пыль одна будет от этой собственности!
Слесарь не договорил. Подошедший к группе инженер Чакун сказал:
На Ленинских горах новый университет будут строить. Его вышина со шпилем – двести сорок три метра. Вот на эту высоту и поднят шар, а из города начальство смотрит, как он будет «читаться» с разных точек Москвы.
– Эх, мать честная! – воскликнул сантехник. – А вы – кино, кино-о! Да это ж почти четверть километра, а? Значит, верные слухи ходят.
– Верные, – сказал Чакун. – Я уже видел макет в Моссовете. В центральном здании сорок два этажа.
По окружившей Чакуна толпе рабочих прошел гул:
– Сорок два! Вот это да-а!
Чакун продолжал:
– Одних рабочих – тридцать тысяч.
– Эх, мать честная! Вот тебе и Америка. Надо еще подумать, кто теперь первой державой будет! – раздались голоса.
Чакун вынул из кармана записную книжечку и продолжал сыпать цифрами:
Под территорию нового университета отводится сто шестьдесят четыре гектара. Только жилых корпусов запроектировано на пятнадцать тысяч человек. Ну что, может, хватит?
– Давайте, товарищ инженер, говорите еще!
– А кто работать будет? Пора на котлован. Тут, – он похлопал по записной книжке, – еще на час разговора. Я думаю так: давайте на днях соберемся после работы, и я сделаю доклад.
Поднявшись в кабину экскаватора, Гаврилов глянул на Ленинские горы, вздохнул, включил мотор, и ковш стремительно пошел вниз. Гаврилов работал механически. Голова его была занята мыслями, которые и радовали и тревожили сердце.
Давно ли Гаврилов стоял на Ленинских горах у лыжного трамплина? Дул пронзительный ветер, и маленькая церквушка с голубыми куполами, усыпанными крупными, сусального золота звездами, зябко жалась в одиночестве, а внизу лежала Москва.
Гаврилов не чувствовал ветра, с замиравшим от восторга сердцем смотрел на покрытую сумраком ночи столицу и мечтал перестроить ее по своему плану, начиная с Воробьевского шоссе, где архитектор Витберг хотел возвести каскад парадных зданий для увековечения славы русского оружия. И вот наконец пришло то время, о котором мечтал Гаврилов. Какой простор для архитектора! Скорей бы кончить институт! Конечно, это были бы принципиально новые дома. Нет, не Корбюзье! Хотя Гаврилов и не отвергает его. Это и не небоскребы и не плоские бетонные ящики… Гаврилову представляются кварталы светлых, простых, без всяких уступок известным классическим ордерам домов. Он поставил бы их в зелени, в двухстах или трехстах метрах от транспортных магистралей. Дома не выше девяти этажей, с плоскими кровлями, наверху – бассейны, теннисные корты, площадки для волейбола.
Мечты, мечты… Генеральный план реконструкции Москвы уже на ватмане, а ему еще столько тянуть лямку!
Мысли его неожиданно переходят к Ковшовой. Вера хороший товарищ. Вера любит его, но что же делать, если он не может ответить ей тем же? Ковшова это чувствует и поэтому то дерзит, то отворачивается, проходя мимо. Настырная она. А Гаврилов никогда не любил настырных. И потом какая–то она, ну, не привлекательная, что ли.
После поездки в колхоз Гаврилов говорил с Надей Чакун. Он объяснил ей, что для него, кроме Либуше, не существует на свете ни одной женщины. Гаврилов просил Надю сказать Вере, что она хорошая девушка, но он не может полюбить ее. Не может, и все!
Надя, казалось, внимательно слушала его, а когда он кончил, кокетливо прищурила глаза, улыбнулась и сказала: «Хорошо! Я поговорю!»
Гаврилов никак не мог понять значения Надиной улыбки: то ли она не верит ему, то ли…
А что «то ли»? Уж не думает ли он, что и Надя Чакун влюблена в него?
Мысль показалась ему настолько нелепой, что он рассмеялся.
Глава шестая
Гаврилов не вылезал из Ленинской библиотеки – скоро экзамены. Огромный зал похож на улей: студенческая братия многочисленных московских вузов шелестела тысячами страниц и, как армия пчелиная, без устали собирала нектар знаний.
За пять дней до экзаменов Гаврилов отложил в сторону книги, махнул на мотоцикле в Рузу и двое суток купался, спал, рыбачил, дурачился с мальчишками из соседнего пионерлагеря, учил их вязать из куги плоты, варил на костре уху, загорал. Накануне экзаменов обрумяненный солнцем и омытый студеной речной водой вернулся в Москву.
Он отлично сдал все экзамены за первый и второй курсы, купил арбуз, бутылку коньяку и прискакал на набережную. Чакун предложил отпраздновать событие у него дома – в новой двухкомнатной квартире на улице Горького. Но Гаврилову так осточертело в городе! Лето стояло жаркое, грозовое, душа и тело так и рвались в лес, к речке. Вот поехать бы с ночевкой на воскресенье в Старую Рузу, куда он ездил перед экзаменами. Он напел Чакуну, какие там идут шелесперы, щуки, окуни, плотва… Ну, словом, костер, ночевка в сене, а перед сном, когда в светлых летних сумерках гладь реки блестит как зеркало и поплавок хорошо виден, закинуть удочки. Рыба пойдет и на утренней зорьке. Можно сварганить такую уху!
Чакун сразу согласился, но тут же спросил:
– А как же с Надей и этой… ну, Ковшовой?
Об этом Гаврилов не подумал.
– Нельзя ли как–нибудь без них? Может быть, дам комарами напугать? – сказал он.
Чакун замотал головой. Тогда Гаврилов предложил отправиться вдвоем в субботу на мотоцикле, а женщины пусть едут в воскресенье поездом до Дорохова, оттуда на автобусе до Рузы, там они их и встретят. Чакуну этот план пришелся по сердцу, но женщины решительно отказались ехать в воскресенье утром. Они тоже хотели ловить рыбу, ночевать в копнах сена и варить уху.
Пришлось всем выехать в субботу поездом.
Гаврилову с большим трудом удалось вкатить на площадку вагона свой «даймлер». От Дорохова он поехал на мотоцикле, а Чакуны и Ковшова на автобусе. В Старой Рузе женщины кинулись в магазин смотреть «тряпки», а Гаврилов отвез Чакуна к месту слияния реки Рузы с Москвой–рекой. Когда Гаврилов вернулся назад, Надя и Ковшова уже ждали его. Двоих взять он не мог, пришлось перевозить их по очереди.
Ковшова всю дорогу молчала, а Надя трещала как сорока. Она журила Гаврилова за то, что он невнимателен к Ковшовой: девушка страдает, мучается, худеет, а он… Неужели он серьезно думает, что у него выйдет жизнь с этой чешкой? Зачем он бегает по учреждениям и все хлопочет о ней? Говорят, даже проводником на пражский поезд хотел устроиться. Верно? Ну и дурачок! Зря все это! Никто не разрешит ему выехать туда, тем более теперь, когда ведется кампания против низкопоклонства перед заграницей. Что он, ребенок, что ли? Да и чешка–то его давно уж, наверно, замуж выскочила. Станет она ждать, как же! Ребенок? Ну и что! Найдется и для ребенка отец.
Они с мужем столько говорили об этом, и Чакунчик считает, что пора бросить хлопоты. Не ровен час, им самим заинтересуется соответствующее учреждение. Да, да! Уж очень подозрительно, почему он так добивается выезда в Чехословакию. Что? В Чехословакии революция? К власти пришли прогрессивные силы? Ну и что! А вы слепой или глухой? Не знаете, что в Чехословакии жрать нечего? Нет, не сказки! У Чакуна дружок в Австрии работает, недавно в отпуск приезжал. Из Вены по дороге в Москву останавливался в Праге. Прогрессивным силам сейчас не до Гаврилова и его дроли. Да–да! Без хлеба ни одна власть не держится. Понятно? А вы ходите по инстанциям, канючите: «Пустите меня в Чехословакию! У меня жена там…» Да разве до вас сейчас, Гаврилов! Да и кто поверит, что какой–то там Гаврилов жить не может без женщины, с которой случайно сошелся во время войны… Мало ли было таких встреч на войне. Что, правительство пе понимает, что ли, что солдаты и офицеры – тоже люди. Оторванные от жен на четыре года с лишним – могли они быть ангелами? А о холостяках и говорить нечего. Ну, грешили, и что же? Окопы уже давно травой поросли. Подумаешь!.. «Мой Чакунчик, – доверительно сказала Надя, – тоже не без греха вернулся. Что ж делать? Не разводиться же! И вот живем уж сколько лет».
Она шумно вздохнула и прижалась к широкой спине Гаврилова.
– Ну и трясет же, Гаврилов, на вашем драндулете!
Гаврилов молчал. Надю, по–видимому, это устраивало, она продолжала говорить: какая же Верка хорошая, простая девушка, как же она любит Гаврилова! Да какая она интересная, стройная. Правда, умом не блещет, а кто блещет? А если какая блещет, то смотреть не на что – так, одушевленная колода, и все.
Гаврилову хотелось спросить: «А вы?», но вместо этого он на выезде из леса сбросил газ, остановил мотоцикл и сказал:
– Поймите, там ведь ребенок растет. Мой ребенок! Можете считать меня чудаком, как хотите, но я не могу забывать об этом!
– Да? – удивилась Надя, словно впервые услышала, что у Гаврилова есть ребенок. Полувопросительное выражение сохранялось на ее лице и тогда, когда она едва заметно улыбнулась и сказала: – Слушайте, Гаврилов! Вы не обидитесь, если я все прямо вам скажу?
Гаврилов поднял на нее глаза и смутился: он поймал себя на том, что Надя Чакун волнует его, что она чертовски красива! Ее темно–карие с поволокой глаза жгут, а мягкие, сочные, четко очерченные губы тянут к себе. А какая у нее чудесная кожа на лице – матовая, чуть осмугленная солнцем! А густые, темного каштана, небрежно подстриженные под мальчишку, слегка нависшие на лоб мохнатыми лапами волосы… Лучше не смотреть!
Смущенный, не замечая скрытой за очаровательной улыбкой ловушки, сказал:
– Нет.
– Смотрите, Гаврилов! Я предупредила вас!
– Хорошо, – сказал он, еще больше смущаясь и досадуя на себя за это.
Надя вскинула голову и, глядя на Гаврилова из–под опущенных ресниц, сказала:
– Скучно с вами, Гаврилов! Что вы все о работе да об учебе и об этой чешке! Неужели в вашей жизни нет ничего другого? Ну почему вы, мужчины, такие тусклые и ограниченные… В ваших отношениях к женщинам нет ни нежности, ни красоты, а только лишь грубая чувственность. Руку пожать женщине и то не умеете. Сожмете, словно клещами, и – «пока» или «приветик». А нет, чтобы поцеловать. Скажете, старомодно? А человек, по–вашему, новая модель природы? Словом, с женщиной вы обращаетесь либо как с прислугой, либо как с лошадью…
Гаврилов поднял руку, но Надя остановила его:
– Нет, нет! Я еще не закончила. Понимаете, Гаврилов, когда читаешь «Войну и мир» Толстого, забываешь, кто ты, что ты. Будто Наташа Ростова – это ты и ухаживают не за ней, а за тобой. Будто это твою руку берут нежно–нежно, как розу… Ах, Гаврилов, Гаврилов! Скучные вы все. Вам бы только размножаться простейшим способом, как это делается у амёб. Не возражайте! Современные ханжи все говорят о работе, о строительстве, ну а если вы спросите, во имя чего все это – и работа, и строительство – вам ответят: мол, во имя коммунизма. А коммунизм для чего? Для того, чтобы люди жили хорошо, по своим потребностям. А что такое хорошо и что это за потребности? В ответ понесут такую ахинею про больницы, детсады, механические прачечные, общественные столовые, бани… Чего только не нагородят. А любовь? Нужна ли она при коммунизме? Полезное ли эго занятие в человеческом обществе будущего? А может быть… Вы понимаете, Гаврилов, если при коммунизме не будет чистой и высокой любви… Если при коммунизме люди не будут страдать от разлуки с любимой… Если любовь будет считаться пустым делом – тогда остановитесь сейчас же и не стройте коммунизм. Не надо! Я хочу любить! Нежности, красоты хочу! Понимаете? Нет, подождите, не отвечайте мне. Я знаю, что вы скажете. Боюсь, что и вы такой же примитивный, как и мой Чакунчик. День–деньской на работе, высунув язык: папиросный дым, телефонные звонки, наряды, процентовки, накладные. Домой придет – нос в газету или наскоро поест и в Дом партпросвещения. Уже седеть начал, а все учится, как школяр. Скажите, зачем? Домой вернется – зевает, как бегемот. Чаю выпьет и спать. Ну что это? Скажете – жизнь? Разве о такой жизни мечтали мы с ним, когда учились в архитектурном? Да и вы, Гаврилов, мечтаете не о такой ведь жизни? Верно?
Гаврилов хотел ответить, но она опять замахала рукой:
– Нет, нет! Не надо! Я знаю, что и вы будете мотаться по манежу жизни, как цирковая лошадь: работа, учеба и страдание по этой вашей чешке. Сегодня, завтра, послезавтра – все одно и то же, с ума можно сойти! Ну ладно, Гаврилов, поехали, а то там мой Чакунчик и Верка от нечего делать, чего доброго, еще производственное совещание откроют. Ведь мы, Гаврилов, и отдыхать–то не умеем. Во всем пользу ищем. Не жизнь, а сплошной утилитаризм! За город выедем, опять о бутовом камне, о рабочих чертежах, о столярке, о плане, а кругом луга, поля, рощи, речки с омуточками, цветы, пчелы гудят… Эх, жизнь! Поехали, Гаврилов! И не пытайтесь мне возражать: считайте, что я ничего не говорила, а вы ничего не слышали. Я хочу отдыха, чистого и ясного, как это синее небо, легкого, как вон то облачко. Смотрите, какое красивое, а белое! Господи! До чего же тут чудесно! А вода– то – как совесть младенца! Как горный хрусталь! Поехали скорее, Гаврилов, а то я либо заплачу в восторге от собственной речи, либо начну говорить стихами.
При выезде из лесу мотор закапризничал. Гаврилов остановился. Пока он возился с мотоциклом, Надя, сорвав высокий сочный стебелек сурепки, прислонилась к столетней сосне и, пожевывая, следила за Гавриловым. Но вот мотоцикл заработал. Гаврилов опробовал газ и пригласил Надю садиться. Она медленно подошла, положила руку Гаврилову на плечо и опять начала тот же разговор о счастье, о жизни, об идеалах. Опять они стояли несколько минут. Когда Гаврилов стал возражать ей, назвав ее понимание коммунизма потребительским, она прыгнула на сиденье и нетерпеливо, капризно сказала:
– Гаврилов! Ну же! Поехали!
Когда они подъехали к месту, где сидели Чакун и Ковшова, от глаз Веры не укрылось, что разговор у Нади и Гаврилова хотя и был, но не в ее пользу.
Обрывистый песчаный берег с небольшой пещеркой приглянулся и Гаврилову и Чакуну. Они снесли сюда все вещи, натаскали сена из валков, затем вбили колышки, привязали к ним край палатки, спустили ее вниз.
Пока мужчины возились с «жилым объектом», женщины сходили в лес за валежником. Они быстро развели костер, повесили на перекладине котелок с картошкой и чайник. Чакун и Гаврилов разобрали удочки и устроились в уголке тихого плеса, на зеркальной глади которого плавали большие, похожие на слоновьи уши листья желтой кувшинки.
Говорят, что рыба ловится не столько на крючок, сколько на терпение. И Чакун, и Гаврилов запаслись им надолго: прошел час, а на куканах у рыболовов было всего лишь четыре пескаря да вертлявая, блестящая, как елочная игрушка, уклейка. А место заманчивое – каждую минуту казалось, что вот–вот в темной воде появятся золотистые сазаны, лини или подлетит быстрая и грозная, как субмарина, матерая щука. Но поплавки лениво лежали на воде. Надя и Вера уже два раза подходили к рыболовам и острили над неудачниками. Мужчины деликатно выпроваживали дам, ссылаясь на то, что рыба не любит шума.
У Чакуна было больше терпения, он курил и невозмутимо посматривал на поплавки, а Гаврилов нервничал: он позвал сюда Чакуна, он нахваливал это место, а что вышло? То ли браконьеры поработали и еще в апреле, когда рыба идет на нерест, поглушили ее? То ли реки сильно обтянулись мелями? Гаврилов знал здесь каждый изгиб реки, каждый куст ольшаника и вербы. На любой – высокий или отлогий – бережок он смотрел глазами старого знакомого. Сколько раз он тут зоревал с удочками. Даже сейчас сердце замирает от восторга при воспоминании о полуметровых шелесперах.
Часа через два Гаврилову удалось наконец подсечь горбатого окунька, разодетого в чернополосую тельняшку. Рыбаки шумно обрадовались: началось! Им уже чудилась уха, да еще какая! Из ершей, пескарей, окуней, уклеек и красноперок. А что может быть лучше сборной ухи? От такой ухи – плотной, густой, пахнущей перцем, луком, укропчиком – и за уши не оттащишь!
Но, кроме окунька и задиристых ершей, опять долго ничего не было, и Чакун уже решил сматывать лески.
– Нема дурных, – сказал он, – хватит! Жрать хочется, как из пушки. А там, наверно, картошка уже остыла.
Накручивая леску на катушку спиннинга, Чакун на всякий случай не спускал взгляда с донок, удилища которых были подняты, как стволы зенитных пушек, – там был покой. Стал собирать свои удочки и Гаврилов, и вот тут рыба и потеряла осторожность. Не успел Чакун смотать леску, как обе донки зазвонили и пошли «ходить». Он кинулся к ним.
– Кажется, лед тронулся, – сказал Гаврилов замирающим от восторга голосом, каким умеют говорить только истые рыбаки. – Здесь всегда…
Он не успел договорить, как у него самого утонул поплавок, и катушка спиннинга бешено зажужжала. Гаврилов понял, что рыба попалась большая, что придется с ней повозиться. И он не ошибся: рыба тянула его то как собака, идущая на поводке по следу, то рывками. Гаврилов был так поглощен сложными маневрами вываживания, что не видел, чему радовался Чакун. А тот с криком: «Ага! Это вы, гражданин подуст! Здрасте!» – упал на крупную, ходившую по траве колесом, сверкавшую серебряными боками рыбу. Не видел Гаврилов и второго подуста. Внимание его было сосредоточено на натянувшейся, как струна, леске: щука, килограмма на три, два раза выходила на поверхность и тут же, взмутив воду, молнией кидалась в омут.
Гаврилов вспотел, а рыба продолжала ходить. Но вот и она начала притамливаться, темным челноком проскользнула к берегу, уткнулась в него и как бы повисла, еле–еле шевеля плавниками. Гаврилов осторожно подобрал на катушку леску, выбрал слабину, затем сильным и быстрым махом вытянул щуку из воды.
Подусты быстро уснули, а щука была жива даже после того, как ей прокололи затылок. Тугая, словно намокший морской канат, она то вздрагивала, как наэлектризованная, то пыталась свернуться в кольцо.
Уху варили в ведре.
За ухой, которая получилась отличной (по–видимому, плохой ухи не бывает), разговор велся вокруг рыбной ловли. В несчетный раз вспоминалось, как сначала поплавки лежали на воде, будто дохлые, как поймали первого пескаря, уклейку, трех ершиков, окуня и наконец дошли до подустов и щуки. Тут в рыбаках проснулись такие рассказчики, что опыт Тартарена из Тараскона показался бы маковым зернышком в ворохе арбузов…
На чистом небе горели звездочки, и их косорогий пастух–месяц купался в плесе притихшей реки. Костер хлестал едким дымом настырных комаров. Пахло ухой, сеном и рекой. Так хорошо все сложилось, что взятое Гавриловым вино оказалось весьма кстати.
Когда собрались спать, Наде Чакун пришла мысль искупаться. Ее предложение не встретило поддержки – она одна ушла к реке, и вскоре оттуда донесся всплеск и вслед за ним восторженный вскрик:
– О боги! До чего же хорошо! Верка! Ковшова! Иди сюда! Чакун! Гаврилов! Лежебоки! Идите купаться…
Гаврилов пошел первым, и, когда он был уже в воде, Вера еще раздевалась. Чакун остался. Он подбрасывал в костер сучья и тихо пел старинную песню о Хаз—Булате удалом…
Не успел Гаврилов окунуться, как к нему подплыла Надя.
– Это ты, Чакунчик? – Она оплела шею Гаврилова руками и тут же вскрикнула: – Ой! Гаврилов! Бога ради, извините меня, дурочку! А Чакунчик не пошел? Вот тюлень.
– Надя-а! – крикнула Вера. – Ты где?
– Здесь! – откликнулась Надя. – Плыви сюда, Верка!
– Я боюсь!
– Плыви! Плыви! Тут мелко!
Но Ковшова осталась у берега, а Надя тихо сказала Гаврилову:
– Ну поплыли!
Они двинулись сначала по течению, в сторону Рузы. Впереди в темноте серела большая отмель. Когда их ноги стали упираться в песчано–бархатное дно, вышли на берег. Надя легла на песок.
– Отдохнем немного? – спросила она.
Гаврилов не ответил – в ухо ему попала вода, и он старался вытрясти ее. Надя позвала:
– Гаврилов, идите сюда!
Гаврилов подошел и лег рядом. Болтая ногами, Надя мурлыкала мотив какой–то песенки. Вдруг она умолкла и спросила:
– Слушайте, Гаврилов! Вам совершенно не нравится Вера?
– Я уже говорил вам.
– А… я? – спросила она шепотом.
– Нравитесь…
Она захохотала.
– Ох, какая же я дурочка! А песок как лед! Скажите, Гаврилов, что это там впереди: куст или копна сена?
– Сено, – сказал Гаврилов с легкой дрожью.
– Принесите, пожалуйста, сюда охапку! Иль нет, – я сама пойду, погреюсь. Хотите со мной?
Гаврилов почувствовал во рту сухость. Чертовски хотелось курить.
– Хорошо, – глухо сказал он.
Когда они подошли к копне, Гаврилов хотел взять охапку. Надя положила ему руки на плечи.
– Погодите!
Он остановился. Надя приблизилась к нему вплотную. Глаза ее блестели.
– Поцелуйте меня, – сказала она обжигающим шепотом.
– Что вы, Надежда Ивановна! – Гаврилов впервые назвал ее полным именем. – Разве…
Она не дала ему договорить, вся дрожа прижалась к нему и поцеловала в губы. Гаврилов пытался освободиться, но она вдруг обмякла и жарко зашептала:
– Ну, поцелуйте же!
…Обратно они шли молча. Не доходя нескольких шагов до воды, Надя сказала:
– Брр… Холодно как!
Издалека, где едва мерцал костер, донесся голос Чакуна:
– Надя–а–а! Надя–а–а!
– Ау-у! – откликнулась она. – Ау-у! – и вошла в реку, шумно разбрызгивая воду.
Гаврилов отстал. Он казнил себя за то, что, как мальчишка, как сопляк, не устоял перед соблазном. Однако появиться возле костра порознь – это значит дать повод для подозрений. Плывя размашистыми саженками, он догнал Надю. При выходе на скользкий крутой берег молча подошел к ней, и, почти неся ее на руках, помог выбраться наверх. Надя благодарно пожала ему руку и побежала к тому месту, где лежала ее одежда.
…Ночью Гаврилов не сомкнул глаз. Он чувствовал себя подавленным. А если бы пришлось ему оправдываться перед Либуше, что бы он сказал ей?
Встал Гаврилов, когда небо, за ночь обтянувшееся облаками, еле заметно стало светлеть с востока. Вера и Чакуны спали. Гаврилов собрался и, не потревожив спящих, ушел.
Ни хлопоты о насадочных червях, ни поиски хорошего, уловистого плёса не могли отвлечь Гаврилова от мучивших его мыслей. Закинув удочки, он сел на бугорочек и некоторое время пристально смотрел на неподвижные поплавки. Задумавшись, он вскоре забыл об удочках – на ум пришел последний разговор с Надей Чакун, в лесу, после починки мотоцикла. Она была возбуждена, говорила резко и порой с неприязнью не к тому, о чем говорила, а, как казалось Гаврилову, к нему лично.
– Гаврилов, – сказала она, – вы несчастный человек по своей натуре, вы из страдающих… Верно?
– Почему вы так думаете? – спросил он.
– Это видно и невооруженным глазом. Вы же Вертер типичный!
– Вертер?
– Ну не Персей же, спасший прекрасную Андромеду!
– Что я не Персей – могу согласиться, а к чему вы начали этот разговор?
– Ну, просто смешно смотреть на вас, как вы по своей чешке страдаете! Надо жить, голубчик, а не страдать! Жить! Понимаете? А вы страдаете, скучаете и еще строите и тихо–тихо сереете! Заметьте, все слова на букву «с». Эта буква, между прочим, стоит первой в словах: счастье и смерть. Кстати, хочу спросить вас… Для кого вы строите? Ну и заодно – и для чего?
– Хорошо, я отвечу. Но сначала вопрос к вам.
– Задавайте.
– Вы давно замужем за Чакуном?
– Двенадцать лет.
– Это первый брак?
– А это что, анкета?
– Нет, просто элементарные сведения для продолжения разговора.
– Первый. Дальше!
– Детей у вас нет?
Надя помедлила, затем со вздохом сказала:
– Не было у меня, Гаврилов, детей. Не было и, к сожалению, никогда не будет.
– Жаль, – сказал Гаврилов, – без детей семейная жизнь становится простым сожительством. И потом, люди, у которых есть дети, никогда не задают вопросов, для кого и для чего они строят. Да! Вот вы сказали: «Жить надо, Гаврилов! Жить, а не страдать!» А что значит жить? Если я правильно понял вас, это значит не ломать голову над сложностями жизни, над ее неустроенностью. А вы знаете, что это не ново? А ново то, что лучшая часть человечества борется за то, чтобы изменить жизнь, освободить ее от скотства! Вы сказали, что если при коммунизме не будет любви, не будет страданий от разлук или там неразделенной любви, то лучше сейчас прекратить строительство коммунизма… Так я вас понял?
– Н-да… Пожалуй, что так.
– Так вот, еще раз прошу извинить меня за то, что я повторяюсь. По–видимому, в нашем разговоре это неизбежно. Видите ли, коммунизм представляется людям, которые борются за его осуществление, наиболее творческой, совершенной формой человеческой жизни. А если творческой, то, значит, лишенной штампа и чистого потребительства. Значит, в существе его – разнообразие, и притом благоприятных для человека форм жизни. А будут ли люди страдать от разлук – это все–таки только деталь.






