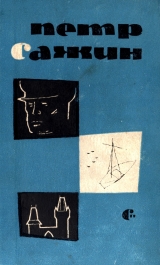
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц)
Природа, профессор, устроена сложно. Есть на свете не видимые глазом бактерии и есть слоны, ручьи и океаны, вечные льды и раскаленные пустыни. И над всем этим человек и его энергия. Энергия человека способна менять природу. Но есть область, где человек бывает иной раз робким, а то и беспомощным, – это любовь. Даже гениальный ученый, когда он влюблен, стоит на коленях перед посредственной в умственном отношении женщиной. Непобедимый полководец попадает в плен к обыкновенной женщине… Ну, в общем, вам ясна моя мысль?..
Нет, мне еще не была ясна его мысль. До сих пор он не говорил при мне таким изысканным и немного напыщенным языком. Я хорошо помню наш первый разговор. Правда, я и тогда чувствовал, что капитан Кирибеев незаурядный человек, что он начитан, что ум его разносторонен и гибок, хотя по временам он рисовался, изображая из себя этакого грубоватого морского волка, простачка. Но эта слабость простительная, и сейчас не в ней дело.
– Я, – продолжал он, – тоже попал в плен. Да, попал, но не сдался…
Все время я хотел, чтобы наша жизнь с Ларисой была радостной. А что из этого получилось? Помните, чем кончилась моя встреча с Ларисой после возвращения китобойной флотилии в Приморск? Ну, в тот раз, когда я застал ее около своего дома с музыкантом?
Я ведь рассказывал вам, что мы с Ларисой тогда всю ночь проговорили. Она настаивала на том, чтобы нам уехать в Ленинград… Ну вот… Я тогда ответил ей, что подумаю, и ушел на корабль.
А вечером, возвратясь домой, объявил, что согласен ехать в Ленинград. Я поддался ее настроению, так как надеялся, что в Ленинграде все наладится. Уезжать с Дальнего Востока, вы понимаете, мне было не легко: я тут родился, вырос, да и дело было интересное. Но любовь моя к Ларисе была такой, что я готов был ехать хоть на край света. Наступил день, когда мы сели в поезд и покатили на запад – оба радостные, возбужденные, счастливые.
32
В Ленинграде мы прожили три года. Да, три года… Вот там и завершилось все… Сначала, конечно, было как в самых счастливых семьях: после приморских переживаний мы как будто второй раз справляли медовый месяц. Он начался еще в поезде. Всю дорогу от Приморска до Москвы мы ухаживали друг за другом, на таежных станциях собирали цветы. На нашем столике было все, что продавалось в пути. Лариса все покупала и обо всем расспрашивала. Я ей рассказывал, как добываются кедровые орехи, как ловят омуля и хариуса, из чего шьют унты, как плетутся туески… О наших приморских размолвках ни она, ни я не вспоминали… Да и некогда было: столько нового перед нами развертывала дальняя дорога.
Сколько народу ехало в поезде! И какие люди! Моряки, пограничники, китобои, тигроловы, изыскатели, дипломаты, гидрологи, золотоискатели, строители… Боже мой! Кого только не было! Вплоть, до транзитных пассажиров из Мексики, с Гавайев, из Японии. Впрочем, зачем я рассказываю вам?.. Вы же совсем недавно проделали этот путь… Вы бывали в Ленинграде, профессор?
– Не доводилось, – ответил я.
– Жаль, – сказал он и продолжал: – Я исколесил почти весь мир. Я видел Лондон, Гамбург, Нью—Йорк, Шанхай, Марсель, Вальпараисо, Антверпен, Бомбей, Сан—Франциско, Гавр…
Кирибеев остановился, махнул рукой и сказал:
– Пожалуй, легче перечислить то, что я не видел. Да… А вот в Ленинград попал впервые. Он мне представлялся серым, холодным, неуютным, строгим городом. И верно, поначалу так оно и было. Мы поселились в Октябрьской гостинице – напротив Московского вокзала. Место шумное. Большая голая площадь. Целый день грохочут трамваи, гудят автобусы, машины. В центре площади – «пугало», памятник Александру Третьему. Огромный камень, а на нем фигура царя в образе жандарма. Десятипудовые ноги, толстый зад, заплывшая жиром туша. Борода веником. Выражение лица тупое. Действительно пугало! Не знаю, нарочно ли сделал так скульптор Трубецкой или невольно.
Я был подавлен и этой почти голой, каменной и холодной площадью, и серым, похожим на дымовую завесу небом, и грохотом городского транспорта, и промозглым воздухом. У Ларисы тоже было невесело на душе, но она улыбалась и щебетала без умолку, раскладывая вещи в шкафу нашего номера. Меня грызла тоска. Номер был почти под крышей. Я стоял у окна и смотрел на город, на лес закопченных труб, на серый камень домов, на сизое тревожное небо, и перед мысленным взором возникала необыкновенная голубизна неба Приморья, сопки, тайга и величавое дыхание Тихого океана.
Я пожалел, что приехал сюда, в этот большой и неуютный город.
Устроившись, мы решили пойти побродить.
Люблю ходить по улицам незнакомого города так, безо всякой цели. Куда ни зайдешь, всюду открываешь что–то новое, интересное.
Вернулись мы в номер поздно, усталые, но совершенно очарованные. Ленинград – удивительный город: он буквально гнетет в районе Московского вокзала, но стоит удалиться чуть в сторону, как попадаешь словно в другой мир.
На следующий день утром мы сели в первый попавшийся трамвай, не спрашивая, куда он идет. Трамвай свернул от гостиницы вправо и минут пятнадцать бежал по узкой темной улице с высокими серыми домами. Мы уже пожалели, что ни у кого не спросили, куда завезет нас эта грохочущая колымага двадцатого века, как вдруг перед нами, как в сказке, возникла широкая площадь, а в конце ее – ослепительной красоты монастырь.
Помните?
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый, златоглавый…
Рядом с этим монастырем в глубине парка стояло строгое здание. На его крыше развевался красный флаг. Когда кондуктор объявил: «Смольный», мы вскочили и заторопились к выходу… Несколько часов мы бродили вокруг. Лариса восхищалась всем, бранила меня за то, что я молча переживал все виденное.
– Степочка, – говорила она, – как ты можешь молчать? Ну что ты как деревянный!.. Ну же, Степа!.. Посмотри, какая прелесть!
Она указывала то на пятиглавый собор Смольного монастыря, то на литую, полукруглую решетку, то на ограду с башенками по углам.
– Ну, смотри, смотри же, Степа! Это чудо!
Действительно, все это выглядело как истое чудо; чугунная решетка казалась совсем невесомой, словно черное кружево. Главы собора и башенки горят золотом… Да что там! Разве можно найти слова? Это не по моей специальности…
Кирибеев откинул упрямо сползавшую на глаза кудрявую седеющую прядь, почмокал трубкой и продолжал:
– Понимаете, профессор, величие было не в камне, из которого русские мастера почти двести лет тому назад воздвигали эти бессмертные творения… Величие и, если хотите, возвышенная красота были для меня не в этом. Все виденное соединилось у меня с воображаемым… Ну, как бы сказать вам яснее? Когда я шел по дорожке к Смольному и затем остановился у ступеней главного входа, меня, словно стрела, пронзила мысль: да ведь по этим ступеням в ночь на двадцать пятое октября тысяча девятьсот семнадцатого года в Смольный вошел Ленин.
Я смотрел на Смольный, а перед мысленным взором возникали горящие костры, сизый дым махорки, серые папахи солдат, тельняшки и бескозырки матросов Балтики, кожаные фуражки питерских рабочих, говор, треск мотоциклов, слова команды…
Словом, я как бы перенесся через горы лет и забыл обо всем. По дороге к гостинице я молчал, словно разговором боялся спугнуть то, что предстало перед моим мысленным взором. А Лариса ничего не поняла. Ее восхитил внешний вид этих действительно великолепных и неповторимых зданий, а то, что тронуло мою душу, ее не коснулось. Она без умолку щебетала и все спрашивала:
– Что с тобой, Степа? Уж не заболел ли ты? Скучаешь по Дальнему Востоку?
Ну, что я мог сказать ей? Чтобы не вызывать лишних и никчемных расспросов, сказал:
– Да, скучаю.
За обедом она немного выпила. Вино возбудило ее, и она то кокетничала со мной, то вполголоса подпевала оркестру, то с жаром говорила о том, какие мы с ней молодцы, что уехали с Дальнего Востока, что здесь у нас наконец пойдет настоящая жизнь, что Приморск дыра, а Ленинград величайший культурный центр, что вот так, как мы сейчас живем, – это и есть настоящая жизнь.
– Знаешь что, Степочка, – говорила она, – давай пока никуда не устраиваться. Осмотрим весь–весь Ленинград, все его сокровища, а когда надоест – будем устраиваться… – Потом она говорила, что очень любит меня, просила, чтобы я забыл все, что было там, на Дальнем Востоке. Говорила, что она взбалмошная, а я настоящий человек, но что она никогда больше не будет делать мне гадостей, что, когда мы осмотрим город, она пойдет учиться в консерваторию, а я, если мне захочется, на корабль…
Когда мы поднялись к себе в номер, она присела на диван, хотела что–то сказать, но на полуслове отвалилась на спинку и мгновенно уснула. Я отошел к окну. С улицы доносились шум трамваев, гудки паровозов с Октябрьской дороги – волнующий гул большого города.
Я растворил окно и, облокотившись па подоконник, думал: хорошо ли, правильно ли я сделал, что приехал сюда, бросив любимое дело? Что ждет меня здесь? Сойдутся ли наконец наши интересы?
Время от времени я смотрел на Ларису. Она была похожа на ребенка, который набегался, нашалился и заснул там, где приткнулся. Иногда она ворочалась, морщила лоб, чмокала губами и прерывисто дышала. Что беспокоило ее? Какие мысли одолевали?
Я спрашивал себя: а правильно ли я поступаю, что ничего не делаю для того, чтобы как–то влиять на ее сознание, ее вкусы, на ее помыслы и стремления? Почему я все пустил в дрейф? Ну хорошо, она красива, порой заботлива, нежна, но порой как же пуста!
В полночь я лег, решив, что, может быть, здесь, на новом месте, когда у нее и у меня будет дело, наша жизнь и вправду наладится…
Спал я плохо – никак не мог привыкнуть к разнице во времени: ведь когда мы ложились спать, по дальневосточному нужно было уже вставать. Но Лариса приспособилась быстро. Ей нравилась жизнь в гостинице, она любила шум большого города, быструю смену впечатлений.
– Знаешь, Степа, – говорила она, – не пойму отчего, но я так люблю жить в гостинице! Движение людей, телефонные звонки, горничные, лифты, неожиданные встречи – все это так волнует меня.
На следующий день после завтрака мы отправились на Сенатскую площадь. Около памятника Петру Первому священнодействовали фотографы, а у ограды Александровского садика раскинули свои мольберты художники. Мы сфотографировались на память – сначала на фоне Сената, потом с видом на Исаакиевский собор, и только хотели уйти, как вдруг около нас очутился какой–то красноносый, низкорослый человечек в черном пальто, в мятой, видавшей виды шляпе и в пенсне.
– Приезжие? – спросил он.
– А что, это видно? – сказал я.
– Как же, – ответил он, – местные жители редко ходят осматривать достопримечательности… А приезжие жадны.
Лариса дернула меня за рукав и сказала:
– Пойдем, Степочка.
Но меня этот тип чем–то заинтересовал. Потом я проклинал себя за то, что задержался с ним. Он снял пенсне, потер нос и, прокашлявшись, сказал:
– Но жизнь всегда короче надежды: многие местные жители так и не успевают осмотреть достопримечательности своего города. Между прочим, не желаете ли портретик, так сказать, на память? Можно на фоне Сената или Адмиралтейства, а хотите, и тут, около «Медного всадника». А?
Предложение этого маленького человечка вызвало у меня неприятное чувство. Он, очевидно, заметил это и вдруг весь преобразился – в его лице появилось достоинство, он выпрямился и сказал обиженным тоном:
– Вы, наверное, меня неправильно поняли? Я сам буду писать, вон мой мольберт!
Он указал на одиноко стоявшие треногу, раскладной стул и коробку этюдника.
– Между прочим, – сказал он так, будто забыл сообщить самое главное, – не бойтесь, задержу недолго, возьму недорого!
Я хотел отказать ему и уже взял было под руку Ларису, как вдруг она спросила:
– А маслом вы можете написать портрет?
– Маслом? – спросил он, задумавшись, словно решая, стоит ли ему возиться и сумеем ли мы заплатить как следует. – Маслом? – переспросил он и вдруг быстро заговорил: – Да, конечно, могу… Могу гуашью или пастелью, как вы хотите… Сам я, правда, больше люблю акварель. Акварель дает сочные тона и прозрачность, она как бы излучает свет, то есть дает аромат жизненности… А масло – масло хорошо для монументальной живописи. Но если хотите, я к вашим услугам, А где писать вас? У меня, видите ли, нет своей мастерской…
– А если у нас? – сказала Лариса. – У нас в номере, в гостинице?
– Отлично! – сказал он. – Когда можно приступить к работе?
– Завтра, – сказала Лариса и, взяв меня под руку, назвала художнику гостиницу и номер. Когда мы отошли к Исаакию, она повисла на моей руке и прошептала: – Ты не сердишься?
Я сказал, что сердиться не сержусь, но напрасно она это затеяла: зря время потратим.
Лариса сжала мне руку:
– Ох, Степочка, какой же ты у меня хороший! Как я тебя люблю, если бы ты знал!
К сожалению, я не мог тогда предполагать, что встреча с бродячим художником будет иметь для нас тяжелые последствия.
33
На другой день Лариса поднялась чуть свет.
Она прошлась по номеру, словно что–то разыскивая, котом остановилась у окна, раздвинула занавеси и долго глядела на город.
Ленинград пробуждался: с улиц уже слышался глуховатый шум, где–то протяжно выли гудки, от вокзала доносились вздохи паровозов.
Я смотрел на Ларису и не мог понять, что встревожило ее. Почему она так рано поднялась? Постояв у окна, она отошла к зеркалу, рассыпала по плечам волосы и стала их расчесывать… Волосы у нее, профессор, мягкие, длинные, они не растут, а как бы льются, словно шелковые струи. Расчесав и уложив их, она принялась «шпаклевать» лицо. Намажет одним кремом, затем снимет ваткой. После этого накладывает другой. Я не мог понять, зачем она мазалась.
В Ленинграде женщины бледные. Им, вероятно, и нужна была вся эта штукатурка. А ей зачем? Когда она была готова, мы сели завтракать. И за столом она была неспокойна, словно чем–то встревожена, ела плохо.
Я спросил ее, что с ней. Она пожала плечами.
– Так… Ничего… Сама не знаю…
– Ты, может быть, нездорова? – спросил я.
Она покачала головой.
– Нет, я здорова, – улыбнулась она, – ты не тревожься, Степочка, я совершенно здорова!.. Но так, знаешь… грустно что–то мне стало, и спала я плохо…
Она снова как–то через силу улыбнулась и встала из–за стола, посмотрела на себя в зеркало, затем подошла к окну, постояла немного, что–то написала пальчиком на пыльном стекле, повернулась ко мне и спросила:
– Как ты находишь меня, Степочка?
Я ответил ей, что она очень хороша. Она подошла, положила руки мне на плечи, вздохнула, затем прижалась щекой и сказала:
– Я гадкая… За что ты меня только любишь?
Я хотел ответить ей, но в это время в дверь кто–то тихо, словно царапаясь, постучался.
– Войдите, – сказала Лариса.
В дверях показался художник, тот самый красноносый тип. Я забыл о том, что он должен был прийти сегодня. Теперь я понял, зачем Лариса так рано поднялась с постели и долго сидела перед зеркалом. Вот для него, для этого доморощенного Рембрандта.
Художник поклонился мне, а Ларису осчастливил – поцеловал руку. Он был в том же, с потертым бархатным воротником пальто и в разбитых туфлях. От них несло гуталином, – очевидно, перед тем как подняться к нам в номер, он надраил их у чистильщика в вестибюле гостиницы.
Я предложил ему раздеться. Когда он снял пальто, на нем оказалась длинная бархатная блуза. Из–под воротника ее торчал белый как снег широкий крахмальный воротничок. На месте галстука – черный бант. Он одернул блузу, облизал губы и растерянно смотрел то на меня, то на Ларису, то на стол. Очевидно, он был голоден. В то время существовали карточки и всякие там ЗРК. А у нас на столе – ветчина, дальневосточные сардины, икра, сыр; все это мы прихватили с Востока.
«Рембрандт» – с моей легкой руки мы стали его так называть – с виду был неказист. Маленькие, совершенно круглые, похожие на пуговки глазки и бесцветные ресницы. Брови реденькие, белесые. Нос, как волнолом, большой и толстый. Губы сборчатые, стариковские. Уши небольшие, но сухие, хрящеватые… В общем, уродец какой–то. А вот руки дал ему бог тонкие, гибкие – они все время были в движении, словно разговаривали… В общем, он выглядел лучше, чем накануне, этот чертов «Рембрандт», будь он проклят!
Кирибеев вскочил и снова зашагал поперек каюты, на ходу продолжая свой сбивчивый рассказ, то с утомительными подробностями, то с недомолвками, то просто говорил: «Опустим этот эпизод – он не представляет интереса». Хотя мне казалось, что эпизод, который Кирибеев «опускал», и содержит в себе главное.
Я, конечно, ничего не мог сделать: Кирибеев был для меня словно книга, в которой по капризу ее автора что– то недосказывается, а что–то излагается с такими подробностями, которые ленивый читатель лишь «пробежит», стараясь скорее добраться до «самого интересного».
В ожидании этого «самого интересного» я, как говорил Пушкин, «питался чувствами немыми». Я ждал, когда Кирибеев наконец перейдет к тому моменту, когда из–за этого «чертова Рембрандта» он «сошел с курса». А капитан рассказывал о том, как он пригласил к завтраку художника, как тот делал вид, будто только что отобедал с самим датским королем.
О том, как «Рембрандт» начал писать портрет Ларисы, Кирибеев не стал рассказывать. «Это дело не по моей специальности». Но Лариса была довольна. Художник «колдовал» у мольберта целый день, делая наброски с Ларисы то в профиль, то анфас.
Капитан Кирибеев просидел в номере весь день.
«Рембрандт» работал с усердием, на его крупном носу блестели капельки пота. Он быстро смахивал их платочком, давно не бывавшим у прачки, и всякий раз при этом краснел. Но ненадолго; как только увлекался работой, забывал обо всем. Глазки его горели, а руки…
Кирибеев так красочно рассказывал о нем, что я живо представил себе художника, его вдохновенное лицо, горящие глаза и быстрые движения рук.
Все время сеанса Кирибеев нервничал: ему было жаль терять день так, ни за что. Но когда сеанс кончился, Лариса, несмотря на возражения художника, который считал, что работа находится лишь в самом зачатке и что ее нельзя показывать, взяла за руку мужа и подвела к мольберту. То, что увидел капитан Кирибеев, казалось, не могло быть сделано человеком, да еще таким, как этот уродец…
Кирибеев увидел Ларису на плотном листе бумаги не той, какою ее отражает зеркало. Он увидел ее такой, какою только один он и знал: тщеславной, легко возбудимой, нежной, капризной, гордой и красивой… Кирибеев растерянно смотрел то на Ларису, то на художника, то на его творение. А художник, опустив плечи, стоял у окна и жадно курил. Вид у него был усталый, взгляд блуждал.
– Вы понимаете, профессор, – воскликнул Кирибеев, – какая силища таланта оказалась в этом невзрачном на вид человечке! Кстати, фамилия его – Занятов. А имя, если память не изменяет мне, – Константин. Да, точно: Константин Георгиевич Занятов. Не слыхали?..
Кирибеев задумался, видимо вспоминая что–то; он потер переносицу и, словно одному себе, сказал:
– Да, талантище огромный! Черт ее знает, как это природа распоряжается! Иногда дает человеку талант, а характера не дает, и талант гибнет. Какое–нибудь неустройство убивает его. Ведь так вот и с ним, с этим «Рембрандтом», то есть Занятовым Константином Георгиевичем…
Пока капитан Кирибеев говорил, я, слушая его, рассматривал моржовый бивень, искусно обработанный косторезами. Слушал внимательно. То ли в самом деле он интересно рассказывал, то ли потому, что я сам дополнял или, вернее, домысливал его рассказ, но мне все представлялось живо и ясно. Я видел то, о чем он говорил, настолько отчетливо, как будто все события совершались при мне, и забывал о том, что рядом плещутся холодные волны сурового камчатского моря…
Кирибеев продолжал:
– А впрочем, опустим пока это… Если будет время, я расскажу вам о том, что и как, почему этот «Рембрандт» оказался неудачником. Ну вот, – продолжал он, – стоим мы с Ларисой у мольберта как зачарованные и слова сказать не можем. А он бросил окурок в пепельницу и говорит: «На сегодня все, больше не могу!» И стал объяснять, что и устал–то он сильно, и ждут его дома, и что завтра он продолжит работу. Я протянул ему руку и говорю: мол, что ж, пожалуйста, но и то, что он сделал, уже хорошо. Он улыбнулся и говорит: «Нет, это только набросок, настоящая работа впереди». Я ему сказал, что в этих делах не разбираюсь, как он находит нужным, так пусть и делает. И протянул ему снова руку. Он пожал ее. Да, попрощался я с ним, а он стоит и не уходит: переминается с ноги на ногу, щурит свои пуговки, губами словно жует. Гляжу на Ларису. Она стоит злая, на щеках около ушей кожа горит. Ничего не могу понять. Вижу, Лариса отходит к ночному столику, туда, где в нише стояли кровати, и, знаете, так, нежным голоском, но сквозь сжатые губы говорит мне:
– Степочка, поди сюда!
Затем вся расплывается в улыбке и обращается к художнику:
– Извините, Константин Георгиевич, я одну минуту!
Я подошел к ней.
– Степочка, милый, – говорит она громко, а на ухо шепчет: – Ты что же, не видишь, что ему деньги нужны? У него, наверное, даже на трамвай нет!
Я сколько мог весело сказал:
– Да–да–да, и как это я не догадался!
Подошел к нему и говорю:
– Вам, наверное, деньги нужны, то есть задаток,
Он просиял весь:
– Если можете, то буду весьма признателен.
Ну, дал я ему две тридцатки и спрашиваю:
– Вас устроит пока это?
Он стушевался, что–то промычал, быстро спрятал деньги в карман и поспешил к вешалке.
И тут какой–то дьявол дернул Ларису за язык.
– Константин Георгиевич, – сказала она, – вы, может быть, пообедаете с нами?
Он замешкался на миг, неловко держа в руках старенькое, потертое, с отвислыми карманами, с засаленным воротником пальто, и как–то нерешительно сказал:
– Спасибо.
Я обрадовался – думал, уйдет. Но он вдруг взял да и повесил пальто обратно, расправил блузу и, мигая глазками, стыдливо улыбнулся:
– А впрочем, пожалуй, останусь!
Лариса была очень довольна, будто сам Репин согласился разделить с нами обед.
– Прошу мужчин, – сказала она, – пока на диван, а я займусь хозяйством.
Мы прошли к окну и сели. Разговор не завязывался. Мы долго молча сидели у окна и курили. Затем он спросил, откуда и надолго ли мы приехали, успели ли ознакомиться с городом, что собираемся делать. Так внезапно родился разговор, как шквалистый ветер. Занятов был весьма неглуп, начитан, и, как видно, жизнь его обкатала, как волна прибрежные камни.
Вскоре Лариса позвала нас к обеду. И вот за столом я почувствовал к художнику симпатию. В этом уродце была какая–то скрытая красота, какая–то порядочность или, как это сказать, интеллигентность, что ли… Он умел быть неназойливым и одновременно очень внимательным и услужливым. Каюсь, мне это не всегда удавалось. Я немного завидовал ему. Я‑то ведь грубоват, профессор.
После обеда Занятов стал вдруг грустным.
– Что с вами? – спросила Лариса.
– Ничего, – сказал он и тяжело вздохнул. – Завидую вам, что вот вы счастливы, и много видели, и еще больше увидите. А я, – он махнул рукой, – я тоже хотел, думал, надеялся быть счастливым. А вот живу, как неодушевленный предмет…
– Ой, что вы! – воскликнула Лариса. – Вам грех жаловаться, у вас такой талант!
– Да? – спросил он. – Вы уверены в этом? Талант? Зайдите в Эрмитаж, Русский музей, а когда будете в Москве, непременно загляните в Третьяковку: Репин, Крамской, Серов, Маковский, Саврасов – вот таланты! А это, – он указал на мольберт с его работой, – ремесло, кусок хлеба.
Он неожиданно встал и заторопился. Прощаясь, он надолго задержал свой взгляд на Ларисе. Она смутилась. Я тогда не знал, как к этому отнестись. «Может быть, – думал я, – ему и в самом деле нужно хорошенько изучить ее лицо для работы». Он ушел такой жалкий, сгорбленный.
Когда затихли его шаги на лестнице, Лариса сказала:
– Жалко мне его. Талантливый человек, а, видно, не везет. Он тебе нравится, Степа?
Я пожал плечами.
– Ты чем–то недоволен? – спросила она.
– Нет, чем же мне быть недовольным? Жаль только, что время идет у нас пока как–то без толку.
– Ты что, имеешь в виду это? – показала она на мольберт.
– Нет, – сказал я, – но нам пора бы как–то определиться: не век же жить в гостинице, тут неудобно и дорого.
– Но ты же согласился сам, чтобы он писал тут, в номере?
– Да, согласился. Но сколько это протянется? А мне скучно без дела: я – как баржа на приколе.
Она ничего не сказала и отошла к окну. Я шагал по номеру и курил, прислушиваясь к гулу города.
– Степа! – вдруг позвала Лариса. – Иди, Степочка, сюда!
Я подошел. Она обняла меня одной рукой и тихо сказала:
– Смотри, смотри, какая прелесть!
Город был действительно хорош: он был как рейд. Всюду мерцали огни, автобусы и трамваи вспыхивали, как светляки, на Невском гудела толпа, она неслась широкой, шумной рекой.
– Ты меня любишь, Степа? – спросила Лариса.
И прежде чем я ответил «да», она сняла свою руку с моего плеча, быстро подошла к шкафу, вынула гитару – ту, что я купил ей на Кубе, и сказала:
– Хочешь, спою?
Когда она хотела петь, меня не надо было уговаривать. Мы присели на диван.
Легли мы поздно, оба радостные и, как мне тогда казалось, счастливые.
На другой день Занятов не пришел. Не явился он и на третий. Я злился страшно, а Лариса все «Степочка» да «Степочка». На четвертый день мы встали рано и решили заняться осмотром города. Только хотели уйти, как он явился – виноватый, жалкий. На меня боится смотреть. Бегает глазками–пуговками по стенам либо в пол глядит. Нос красный, как у вареного краба панцирь. Но когда сел за мольберт, преобразился. Он так, черт его подери, работал, что я до сих пор не могу понять, откуда в нем все бралось… Какая–то чудовищная сила была в его кисти.
Целую неделю он работал как бешеный, как говорится, на полный ветер. И вот наступил час, когда он положил кисть, встал и, вытирая со лба пот, сказал:
– Вот, кажется, и все.
Он отошел от мольберта, закурил, кося глазами то на свою работу, то на Ларису, как бы сравнивая, что же лучше – оригинал или копия.
Лариса повисла у меня на плече и не отрывала глаз от портрета.
– Степочка, как хорошо! Я прямо ну как живая! – Затем обращаясь к Занятову: – А вас, Константин Георгиевич, не знаю, как и благодарить.
Он пожал плечами, словно хотел сказать: «Да что уж тут».
Вдруг она оставила меня, как колибри, порхнула к нему, взяла за руку.
– Что вы такой грустный, Константин Георгиевич?
Он и тут ничего не сказал, только сделался еще мрачнее. Лариса подвела его ко мне.
– Мужчины, – сказала она, – а не устроить ли нам хороший обед в знак окончания работы и дальнейшей дружбы?
Не дожидаясь моего согласия, она порхнула к телефону, сказав на ходу:
– Вы пока покурите, а я сейчас.
…Обед был грандиозный – Лариса никогда не считала деньги. Но «Рембрандт» сидел, как палтус, вытащенный из воды: квелый, жалкий. Лариса ухаживала за ним. Оживлялся, лишь когда глядел на нее. Но как только она заговаривала со мной, он опять опускал плавники. Лариса много говорила, то и дело подливала нам вина и сама пила больше, чем следовало. Разве ей можно было пить, с ее голосом? Я намекнул ей, а раз даже остановил, когда она хотела пригубить.
– Степочка, я сама знаю, – сказала она.
Я махнул рукой.
После обеда мы перешли на диван и закурили. Лариса подошла к нам с гитарой.
– Можно мне спеть, Степочка? – спросила она, хорошо сознавая, что спрашивает меня лишь из шалости.
Занятов, увидев ее с гитарой, спросил:
– Вы… вы поете?
– Так, для себя, – ответила она, отошла к окну, тронула струны и задумалась.
Занятов схватил бумагу, карандаш и стал быстро зарисовывать. Лариса заметила это, вскинула голову.
– А вы пойте, пойте, – сказал он.
Лариса была что называется в ударе.
Занятов бросил рисовать, сел поглубже и слушал с раскрытым ртом и горящими глазами. Она пела песни цыган, русские, неаполитанские и грустные–грустные песни Кубы.
Когда Лариса кончила петь, Занятов вскочил с дивана.
– Это замечательно! У вас настоящий талант. Вам нужно на сцену!
Раскрасневшаяся от волнения и похвал, Лариса сидела в кресле и обмахивалась платочком. А «Рембрандт» шагал по номеру и говорил все те слова, которые и я и она слышали уже не раз. Он спросил, что думает делать Лариса. На ее слова, что она хочет учиться, он горячо возразил:
– Зачем? Да вы же готовая певица!
Лариса жадно слушала его. А он, то ероша волосы, то потирая руки, говорил:
– Это не беда, что вас никто еще не знает. Придет время – и Ленинград ахнет! Да, да, именно!
Он предложил свою помощь, говорил, что у него есть друзья в Мариинском театре, назвал имя какого–то дирижера. Я вмешался в разговор и сказал, что слов нет, Лариса поет хорошо, но на сцену ей рано: если добиваться успеха – нужна настоящая школа. Он согласился. Прощаясь, обещал разузнать через каких–то третьих лиц, нельзя ли помочь Ларисе при поступлении в консерваторию.
Когда он ушел, мы долго стояли у окна и смотрели на вечерний Ленинград. Мы оба были счастливы. Нам было хорошо в тот день, и впереди мы видели сплошной праздник.
На другой день «Рембрандт» явился чуть свет. Я был уже на ногах, а Лариса все еще нежилась в постели. Знаете ли, я плохо спал в Ленинграде. Там в то время были белые ночи, и я с непривычки не переносил их. А Лариса словно родилась в Ленинграде. Ну, да ведь и на душе–то у нее было спокойно. Как же, успех окрыляет и вместе с тем успокаивает. Ну вот, значит, явился он и, не успев поздороваться, объявляет:
– Новость! Приятнейшая новость!
Я спрашиваю какая. Он, не раздеваясь, садится на стул и говорит:
– Для вас есть квартира… Да, отдельная и притом чудная квартира… Можно сказать, в одном из лучших районов: два шага от Невы.
– Это где же? – спросил я, словно знал Ленинград как свои пять пальцев.
– Косую линию знаете?
Я покачал головой.
– А о Васильевском острове слышали?
– Так, в общих чертах, – сказал я.
Он хотел что–то еще сказать, но в это время проснулась Лариса и спросила:
– С кем это ты, Степа?
– Это я, Лариса Семеновна, – сказал Занятов. – Простите, что нарушил ваш покой.
– Константин Георгиевич? – спросила она.
– Я! Я! – ответил он, а сам так и подпрыгивает.
Занятов не дал нам даже позавтракать. Мы сели в трамвай и поехали на Васильевский остров. Трамвай шел долго, визжал на крутых поворотах. Потом выскочил на мост, и перед нами открылась Нева. Слева от моста, у набережной Лейтенанта Шмидта, покачивались корабли и рыбачьи лайбы. При виде широкой реки и корабельных мачт меня неудержимо потянуло в море, и от сознания того, что я болтаюсь без дела, стало грустно. К сердцу прихлынула злоба на себя, на Ларису и на этого чертова «Рембрандта», из–за которого я целую неделю нигде не был, ни с кем не говорил и ничего не сделал для того, чтобы куда–нибудь определиться.






