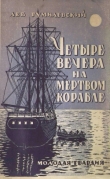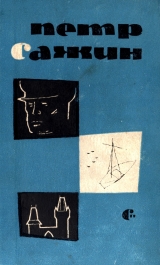
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
В ее глазах вспыхнул жадный огонек, она еле приметно улыбнулась уголками губ. На толстых щеках загорелся легкий румянец. Маленькие глазки сузились. Она облизала толстые губы, быстро, с опаской посмотрела по сторонам и тихо сказала:
– Не менее пятисот!.. За меньшее не пойдет!
– Что ж, – сказал я и сделал паузу, внимательно разглядывая свою хозяйку, будто впервые видел ее.
А она, волнуясь от ожидания того, что я скажу, спружинилась.
– Что ж, – повторил я. Глаза ее чуть–чуть расширились и снова сжались. – Я согласен, – сказал я.
Она вздохнула свободно. Я отсчитал двести пятьдесят рублей и, подавая ей, сказал:
– Вот за полмесяца. Остальное потом. Расписку напишем сейчас.
Она подняла испуганные глаза:
– Расписку-у?
– Ну да, расписку.
– Это зачем же?
– Как зачем?.. Мне в деньгах придется отчитываться.
– А эти деньги не ваши?
– Мои.
– Зачем тогда расписка?
– Затем, что деньги эти подотчетные…
– Подотчетные, – в раздумье произнесла она. – Ну что ж, давайте пишите…
Когда расписка была ею подписана, она жадно схватила со стола деньги и, с хрустом комкая их, проворно ушла в комнату.
Я тоже ушел к себе и стал готовиться ко сну. Хотя в хате стены были довольно толстые, я слышал, как хозяйка кряхтела, как скрипели ящики комода, куда она, по–видимому, прятала деньги. Потом она что–то шептала, молилась, что ли, или рассуждала вслух. После этого слышались вздохи, громкие позевывания и присказы: «Спаси нас, боже праведный!»
Скоро шепот стих. Не слышно было вздохов и позевываний. Только где–то в зале, как здесь называют горницы, под шкафом отчаянно гремела мышь, по–видимому пыталась протащить в норку свою добычу… Я засыпал тяжело и долго.
39
Когда я услышал стук в дверь, мне показалось, что я только–только задремал. Причем задремал так сладко, что меня зло взяло на того, кто стучался. Но отвечать я не торопился: а вдруг это мне приснилось?
Стук повторился.
А может быть, уже утро?
Пока я шарил по столику, ища фонарик, ко мне снова постучали.
– Кто там? – шепотом спросил я.
– Я…
– Данилыч?
– Нет. Это я… Марь Григорьевна…
– Какая Марья Григорьевна?
– Хозяйка ваша… Вы не спите?
– Не сплю, коль разбудили…
– Выйти можете?
– Что случилось?
– Выйдите…
– Сейчас, – сказал я.
«Чего ей еще надо? – думал я, одеваясь. – Какая все–таки бесцеремонность – разбудить человека ночью, а для чего?» И тут меня осенило: «А вдруг она передумала? Или, наоборот, что–то новое надумала? А может быть, время вставать? Тогда для чего она спросила, могу ли я выйти?»
Одевшись и наконец найдя фонарь, я поглядел на часы: было двадцать минут четвертого – пора вставать. Значит, нечего сердиться на нее. Однако что же она хочет от меня?
Сквозь ромбовидный вырез в ставне виднелось черное небо, унизанное звездами. В сенях горела двухлинейная лампа. Хозяйка, чихая и поминутно вытирая глаза, резала лук для завтрака.
– Извиняйте меня, – сказала она, вытирая руки. – Вы собирались в четыре выйти? Вот я и подумала: самое время будить. Да поговорить еще надо. Вы уж извиняйте. Хочу спросить вас, Сергей Александрыч, а кто же харчи будет оплачивать мому мужу?
– Как кто?
– Вот и я хочу знать кто?
– Да сам… Как было до сих пор, так и будет.
Она покачала головой:
– Не–ет! Доси он свое из дому брал, шо я ему собирала. У хороших хозяев положено работника на харчи брать. Раньше так было. Я думаю, вы его и будете кормить.
– Не понимаю, – сказал я.
– А чего тут не понимать–то? Харч стоит двести рублей в месяц. Вот надо с этого расчету и платить. Понятно?
Да, теперь мне было понятно, понятнее не скажешь! Я вынул новенькую сторублевку и вручил ей. Покрасневшая от смущения, но довольная, складывала Мария Григорьевна хрустящую сторублевку и затем спрятала ее за пазуху. Когда она направилась к себе, я вспомнил, что мне надо уплатить за вчерашнее угощение: она же потратилась.
– Марья Григорьевна, – сказал я.
Она обернулась и с испугом посмотрела на меня.
– Вот вам еще двадцатка. Это за вчерашнее…
У нее задрожали губы, когда она заговорила:
– Зачем вы обижаете нас? За вчерашнее никаких денег не надо нам. Вчерашнее – это наше угощение. Нет, нет!.. – Она закачала головой. – Пойду Данилыча подымать. А вы умывайтесь и к столу – трошки закусите перед походом–то. Лампа пока не нужна вам, я приверну фитиль…
– Добре, – сказал я.
Она сделала шаг, но тут же вернулась.
– Да, – сказала она взволнованно, – чуть не забыла… Просьба у меня до вас есть, Сергей Александрович.
– Слушаю, – ответил я довольно сухо, подумав про себя: «Что ей еще от меня нужно?»
Марья Григорьевна подошла ко мне и, чуть покусывая губы, глянула маленькими, но такими вдруг теплыми глазами и чуть дрогнувшим голосом нерешительно сказала:
– Сергей Александрович, пожалейте меня… Не давайте ему пить там… Он раньше не пил так. А как дети на фронте погибли… – Она поднесла фартук к глазам. – Сыновья… двое… В один день на войну ушли. Эх! Сыны мои милые!..
Она махнула рукой. Лицо ее скривилось. Тяжко вздохнув, промолвила с глубокой тоской в голосе:
– Очень прошу вас, не давайте ему… А то он ить добрый, кто угостит, ответить нечем, все с себя спустит. А выпьет, нашумит еще… Не смотрите, шо мы ругаемся. Он мне не просто достался, а выстраданный. Человек он добрый, справедливый, для себя ничего, а за другого в огонь полезет… Очень прошу, одерживайте его.
Я обещал ей.
Когда она вышла, я долго смотрел на дверь, ничего не понимая. Придя в себя, подумал: «Вот ловкая баба – как все дело повернула!» Но вспомнил ее глаза, просьбу, исходившую от самой глубины сердца, подумал: «Нет, все–таки она его любит».
40
Вот что, стало быть, произошло, пока Данилыч спал. Говорить ему или не говорить об этом? Разумеется, я заплатил бы и сам. Но Тримунтаниха обошла меня, как говорят, «с левого борта». Так что же делать? Говорить Данилычу или не говорить?
Времени на раздумье было мало, и я принял, как мне кажется, правильное решение: «Не говорить». А в крайнем случае придется показать ему расписку хозяйки. Но и расписку если и показывать, то не теперь, а потом, в море, иначе он «закипит», как старый радиатор, и, кто его знает, возьмет еще бросит моторку и кинется «до жабы», выяснять отношения. А мне терять время никак нельзя: впереди много работы, нужно побывать и в Керчи и на Сиваше.
Ко всему этому и настроение у меня поганое, холодно как–то на душе. Скорей бы уж в море! Только что я прочитал газеты за несколько дней – узнал, что на Волге у Сталинграда началась забивка шпунтов в плотину будущей гигантской электростанции, а на Ангаре строители электростанции уже «стягивают» концы будущей плотины. Скоро эта безумная, с характером уссурийского тигра река, над которой даже лютейшие сибирские морозы не строили ни одного прочного моста, будет перегорожена, и ее буйная вода кинется на лопасти турбин… Газеты сообщили о том, что советская экспедиция высадилась на берегах шестого континента – на землях, открытых известными русскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым; в кратких заметках говорилось о посылке тракторов на целинные земли Алтая, Урала, Сибири и Казахстана, о выезде в далекие края нескольких тысяч юношей и девушек, отправившихся по призыву партии открывать новые богатства, осваивать глухие углы страны.
После этих сообщений моя работа здесь показалась мелкой, и мне безудержно захотелось очутиться сейчас либо на шестом континенте среди исследователей Антарктиды, либо на стройках–гигантах, либо на безмерных просторах казахстанских степей.
Однако где же Данилыч?.. Бензин?.. Кладовщик? И этот чертов Скиба? Уйдем ли мы сегодня в море?
41
Солнце давно уже оторвалось от горизонта и шустро поднимается на небосклон. Воздух заметно наливается теплом. Скоро кремлевские куранты пробьют семь часов: из репродуктора уже доносится шаркающий ход маятника – транслируется поверка времени, – а Данилыча все нет. Нет и Скибы. Я начинаю терять терпение оттого, что ничего не могу сделать. Во–первых, не с кем шлюпку оставить, во–вторых, сегодня воскресенье – где искать Скибу?
Покусывая губы, я лежу на носу лодки и смотрю на берег. Кремлевские часы все еще делают свое «чах–чах–чах», где–то мемекает коза, со стороны Слободки доносится чей–то смех и чьи–то голоса. Я прислушиваюсь, но ничего не могу разобрать. Но вот на берегу появляется стадо гусей. Они громко переговариваются и, переваливаясь, неторопливо идут к зеркально–гладкой воде. У предводителя стада, дородного, высокого гуся, ослепительно белая манишка, крупная голова с широким и высоким лбом. Он ослеплен собственной важностью – идет, высоко держа голову, с полным презрением относясь к тому, что ниже его роста, поэтому всякий раз припадает на лапы, когда на пути встречаются ямки. И тогда он начинает шипеть, вытягивать шею, как пожарную кишку, и при этом становится обыкновенным гусем. Глядя на него, я долго мучаюсь, силясь вспомнить, кого он напоминает. Когда я вспомнил, гусь был уже на воде, где он перестал изображать из себя важную птицу, словно понял, что если он и дальше будет важничать, то его вполне могут ощипать, набить яблоками и подать к столу. Итак, на кого же похож гусь? На Скибу. Да, Скиба держится важно и нелепо, как гусь. А если бы его бросить на дело, соответствующее его подготовке и опыту, он, вероятно, держался бы просто и красиво и был бы настоящим человеком, а не «руководителем», каковым он себя воображает. Хорошо, но гусь гусем, а Скиба действительно «герой Метута»: до сих пор ни бензина, ни кладовщика, ни Данилыча. Кремлевские часы бьют семь ударов, и диктор произносит привычные, но всегда волнующие слова: «Говорит Москва…»
Слушая Москву, закрываю на миг глаза и вижу голубей у Манежа, цепочки мчащихся автобусов и троллейбусов, плавящееся в золотых куполах Ивана Великого солнце, сонную воду Москвы–реки, тысячи москвичей, спешащих за город, на стадионы, в парки, сотни автомашин с газетами, хлебом, молоком… Москва!.. Какая жизнь кипит там! А я до сих пор ничего не сделал. Какое там! Не могу вот даже сегодня выйти в море! А впрочем, какой толк от моего выхода в море? Что я, богатырь, двигающий горы? Увы!
Русские гидробиологи и океанографы уже несколько столетий, как говорят, «бьются над раскрытием тайн мирового океана». Со многих тайн сброшены покровы. В море с его необычайно разнообразной жизнью, с его обилием видов животного и растительного мира сосредоточены колоссальные богатства. Большинство из них взято на учет учеными в героическом и зачастую самозабвенном труде. Нужно только разумно ими пользоваться. На это направлены усилия науки, а добытчики морских продуктов во имя ближних целей после войны стали игнорировать достижения науки. Если б наши «промышленники» поняли, как важно соблюдать законы круговорота моря, они всегда могли бы брать из морских глубин столько, сколько потребно человеку. Ежегодный запрос плановиков Министерства рыбной промышленности после войны определялся что–то в двадцать два миллиона центнеров.
Подсчитано, что двадцать два миллиона центнеров рыбы заменяют мясо двадцати восьми миллионов коров. Представьте себе, что замены коровьему мясу нет и наша пищевая промышленность, чтобы восполнить пробел, должна – что?.. – дополнительно погнать под ножи мясокомбинатовских гильотин двадцать восемь миллионов коров… Что будет с рогатым скотом?
Море сказочно богато. Еще не известно, располагает ли земля такими сокровищами, как море. Сколько еще рыб, животных и зверя в море!
А сколько водорослей! Подводные луга и миниатюрные «леса» произрастают на миллионах гектаров.
…Мои размышления были прерваны приходом Данилыча и кладовщика. Кладовщик шел впереди, а Данилыч позади. Они страшно ругались, осыпая друг друга такими словами, которые лучше мне и не повторять. Когда они подошли к лодке, кладовщик, очевидно считавший, что последнее слово за ним, сказал:
– Ты не пужай меня: пужаный я… Таких героев, как ты, видал. Всем воскресенье, а мне шо?
– Тебе? – спросил Данилыч.
– Ну да?
– Сивому мерину смолоду цены не было, а под старость задаром отдали татарам. Давай отчиняй склад зараз! А то я тебе!..
Он не сказал, что сделает. Кладовщик остановился, мигнул глазами, сказал: «Но–но!» – и быстро пошел к складу. Не прошло и пяти минут, как они вдвоем, смеясь и балагуря, принесли две канистры бензина.
С приходом Данилыча дурное настроение стало покидать меня, и я почувствовал, что приливают новые силы.
Глядя на него, я думал:
«Мне бы его огонь, его неспокойную душу, сколько бы я мог сделать! И пусть грандиозны масштабы Ангарской гидростанции… Пусть ошеломляющи результаты полета реактивных аппаратов… Но кто скажет, что задача восстановления и развития Азовского моря – маленькая задача?
Мы ищем истины на дне шелкового конуса планктонной сетки, в пробирке, на стекле микроскопа… Что ж! Это так! Но разве наше дело не величественно и не благородно, если на него посмотреть глазами хорошего хозяина и истинного поэта?..»
42
Море тускло поблескивало в розовой дымке утра, словно это было не живое, со своим характером и повадками море, а старая, покрытая пылью олеография.
Впрочем, розовый тон окрашивал все кругом: и белые хаты Слободки, и стекла в окнах, и пески, и море… И даже мою душу. Но я уже говорил, что стоило появиться Данилычу, как все закрутилось и заиграло, его энергия как будто передалась окружающей природе: легкий ветерок пробежался по гладкой поверхности и вызвал рябь; горизонт окинулся ярким, багряным пламенем, и по небу, в самом зените, стала разливаться голубизна, прозрачная, и бескрайняя, и такая бодрая. Она энергично теснила рассвет, как будто расстилала дорогу утру. А вслед за утром на востоке появился стремительный, как бегун, день. Он гнал прочь сутемь и неясность утра. С его появлением все пришло в движение: висевший над морем пар убирался восвояси с такой быстротой, словно боялся, что день врасплох застигнет его у воды; свертывал свои пожитки и утренний холодок; испарялась роса; гуси ватагами шли к воде; московский диктор ставил москвичей под открытые форточки «на зарядку»; пастух собирал коров; козы прочищали глотки; просвистел подходивший к станции пассажирский поезд; и далеко–далеко, в стороне Обиточной косы, блеснул серебряным крестиком, раньше всех нас встретивший солнце, самолет. День настал. И когда я в его честь хотел, по обыкновению, кинуться в воду, то увидел, как из проулка к мосткам спускалась Галинка…
Она была не одна. Рядом с нею шагала чернокосая, крупноглазая, похожая на старую цыганку женщина. Они вдвоем несли корзину с бельем. Возрасту, как мне показалось, не удалось сломить красоту женщины. Нетрудно было догадаться, что это мать Галинки, – так они были похожи друг на друга. Правда, у матери был не такой, как у дочери, тонкий стан. И ноги ее хоти и пощадило время – на них не бугрились обычные для занятых физическим трудом вены и синие узлы, – но в них уже не было легкости. Мать шла, часто и тяжело переставляя ступни. Хотя она и была чернявой, красота ее не казалась резкой, как это свойственно пожилым брюнеткам, уроженкам юга. Ее лицо было мягкое, задумчивое, с гармоничными чертами.
Обе, и Галинка и мать, шли босиком. Когда они поднялись на мостки, то первым делом стали окунать в воду запыленные ноги. Потом не спеша умылись и пошли полоскать и бить вальками белье. Время от времени они разгибались и вдвоем выжимали какую–нибудь тяжелую вещь, и тогда я видел их раскрасневшиеся лица с блестящими глазами.
У Галинки все время выбивались из–под косынки волосы, и она, кривя рот, сдувала их с лица либо заправляла под косынку тыльной стороной ладони. Мать же была аккуратнее: волосы у нее были зачесаны назад в косу туго, как струны.
Пока Данилыч возился с мотором, я украдкой смотрел на Галинку и ее мать. Вероятно, в это время у меня был глуповатый вид, потому что все были заняты делом, а я только вздыхал да восхищался тем, что делала Галинка. Да! Вот, скажем, отжимать белье – дело обычное и даже, я сказал бы, скучное, но я видел в нем что–то особенное и бежавшую по рукам Галинки воду сравнивал бог знает с чем – с жемчугом! Да что там! Обыкновенные дутые позолоченные калачики простых серег, покачивавшиеся в мочках ее крохотных ушек, казались мне ослепительными сокровищами. А ее брови! Э, да что там говорить! А когда Галинка бросала полоскать белье, разгибалась, вскидывала локти выше плеч, приводя в порядок прическу, кофточка обтягивала ее тугую грудь, – сердце мое замирало от восторга, и я забывал о том, где нахожусь, существую ли, а если и существую, то для чего. В эти минуты мне, словно наивному мальчишке, хотелось, чтобы кто–нибудь из них хоть спросил бы, который час, или – что зря таиться! – кто–нибудь, Галинка или мать, нечаянно упал бы в воду… Я тигром бросился бы вслед и спас бы!
Между тем женщины делали свое дело и не обращали никакого внимания на меня: они знай себе полоскали бельишко, безбожно колотили его и время от времени смахивали с лица пот.
Иногда Галинка как бы невзначай глядела в нашу сторону и даже раза два встречалась взглядом со мной. Она словно не видела, что глаза мои горят, а лицо пылает. Но если Галинка время от времени и поглядывала на нас, то мать ее и вовсе не подымала глаз. И только тогда, когда Данилыч запустил мотор, она разогнулась с некоторым усилием, смахнула пот с лица, уперлась руками в бедра и устало посмотрела в нашу сторону.
Данилыч остановил мотор и снова запустил, он прослушивал его: «агрегат» работал отлично. Довольный, Данилыч пустил мотор на малые обороты, поднялся и глянул на мостки. При виде Галинки и ее матери сосредоточенное и немного суровое лицо Данилыча смягчилось. Мать Галинки, встретив его взгляд, засияла вся и будто помолодела.
– Здравствуй, Саня! – крикнула она.
– Здравствуй, – ответил Данилыч.
– Далеко ль ладишься? – спросила она.
– На тую сторону…
– В Гривенскую?
– Думаем…
– Ох, Саня!.. Поклонись там моим. Давно на их могилках не была!.. Теперь бы обернуться чайкой!..
– А ты с нами… Моторка у нас – на миллион!
– Что ты? Куда я от кандалов своих денусь? Вернешься–то когда?
– Море скажет.
Она вздохнула.
– Эх! Как там, в Гривенской–то? Кто жив, кто помер?
– Кому жить, все живы! А кто помер, с того спроса нет… – Данилыч снял кепку, провел рукой по волосам и снова натянул ее по–рыбацки, почти на самые глаза. – Я тоже, – сказал он, – кажись, годов сто не был там. Уж забыл, на какой стороне стоит станица…
– А дом тестя свово помнишь? – спросила она и рассмеялась.
– Помню, – мрачно ответил Данилыч. – Я много чего помню… Шоб он сгорел!
Она вдруг изменилась в лице и опустила голову.
– Заходи, когда вернешься, – еле слышно сказала она и снова принялась за полоскание.
– Ладно… Живой буду, зайду. Ну, Лексаныч, – сказал он, – пора отчаливать!
Не дожидаясь моего согласия, он дал рабочий ход мотору, ткнул отпорным крюком в причал, и лодка, подминая под себя шелковистую воду, пошла на северо–восток. Женщины минуту–другую смотрели нам вслед, затем принялись за свое дело. Когда причал и мостки слились с берегом и от Слободки торчали лишь крыши хат, я спросил сосредоточенного и хмурого Данилыча.
– Это ее мать?
– Кто?
– Ну, женщина, что с Галинкой белье полоскала?
– Мать, – ответил он не сразу, напряженно думая о чем–то своем.
– Знакомая ваша иль родственница?
– Кто?
– Мать Галинки.
– Вроде того, – нехотя ответил он и тут же спросил: – Как пойдем: прямо на Талгирское гирло или к Белосарайке и оттуда на Долгую?
– К Белосарайке, – сказал я, – оттуда через узину перекинемся на ту сторону.
– Ну и шо это нам дасть?
– С Долгой берегом спустимся на юг, до Темрюкского залива.
– Это добре, – сказал он. Закурив папироску, Данилыч затянул песенку, но быстро прервал ее. – Обедать будем на той стороне иль на Белосарайке?
– На той стороне, – сказал я.
– О, це дило! – воскликнул он. – У мэпэ на Долгой дружок е… Юшку такую делает, шо самый наикращий парижский кок в наикращем ихнем ресторане не сробит ни в жисть!
– Ну уж! – сказал я.
– Вот тебе и «ну уж», Лексаныч!.. Я говорю за настоящую юшку, а не за ту, шо любая баба может сварить. Вы, наверное, полагаете, мол, щось тут хитрого? Была бы риба, лук, перец, лавровый лист, соль, картошка, морковь, петрушка… Так? Это, конечно, так – можно юшку сварить, шо и в горле щипать будет, и запах в нос получите, и, если риба не худая, жир будет плавать, и мутнотцу жижа иметь будет… Все, как говорится, будет предъявлено, Но такую юшку, шоб вона, стерва, во рту таяла, шоб с нее без вина пьянел, шоб у кого сил нет, налился ими, шоб дурак умней стал, а злой добрым обернулся, – не–ет, Лексаныч! Такую юшку могут создать на Азовском море лишь несколько майстеров этой вэлыкой кулинарии! Я вот сколько ни учился, не дается мне тая юшка. А кореш–то мой секрета вроде и не держит, но и не сказывает. «Все, – говорит, – в плепорции». И еще важно, когда и чего в котел класть.
На Севере юшку делают из трески с печенью. Она у них там «балочкой» называется… Они так и говорят: «Уха по балкам». Это значит: с печенью. Ихняя уха жирная и сытень в жиже содержит. Ее с непривычки много не съешь – живо либо вострого захочешь, либо водки… Тую уху младенец свободно сварит.
– Едал, – сказал я.
– Тем лучше… А у нас юшка делается из сортимента. Тут и судак, и селява, и тарань, и чулара… Но для полной компетенции нужно – это, конечно, смотря по сезону, – класть недомерки красной или осетровую головизну. Совсем хорошо вводить в самый раскип – когда жижа ходуном ходить в котле – речных окуней или ершей. Кое–кто кидает в котел плавники красной или чебаков. Иные перетирают молоки (это, конечно, тоже по сезону) с луковым сердечком и тоже ссыпают, когда вода в котле совсем сатанеет и готова крышку с котла сшибить. Особое внимание уделяют луку. Его надо уметь подбирать… Лук крупный, как барабан, имеет много горечи, и, извиняйте, запах с него дурной из–под крышки бывает, когда уха сварена. Вы заметили, когда этот лук режется, из него молоко, как из коровьих сосков, прет?.. Вот это молоко–то и есть самый вред для юшки. Такой лук, если нет другого, нужно вымачивать в семи–восьми водах… Не–ет! Не совсем вымачивать, а промывать скорее. Нельзя брать и лук, на котором «одежа» слабая, плохо держится, подведет этот лук: он, значит, тронулся в рост, почнет такую приторность выделять, которая убьет все: и лавровый лист, и перец, и рибу. Нельзя класть и картошку, если она хоть чуть– чуть на холоду побывала: от такой картошки уха острый скус потеряет и наберет паршивую сладость…
О рибе хочу сказать. Все, кто варит уху, особенно бабы, потрошат рибу, то есть разрезают ее и выбрасывают внутренности, а вот этого делать–то и не надо: самый навар в юшке получается, если рибу не потрошить – целиком класть!.. Только шо сверху почистить – чешую снять. Потом помыть и давай клади, не кидай, а именно клади в котел. Уху нельзя, варить на маленьком огне – ни в коем случае! На маленьком она должна «доходить».
А варить на бешеном – шоб шторм в котле был, понятно?
Вот какое дело–то сложное, Лексаныч! А ты думаешь, шо ее любой сварит, тем более баба?.. Баба все может, но юшка – дело мужское, наше, рыбацкое.
Завтра либо послезавтра попробуем с тобой у кореша юшку–екстру. Да-а… А зараз, Лексаныч, ежели курсак запросит, пододвинь вон тую сумку. Видишь? Ну вот! В нее Марья житного хлеба, луку та бичков жареных наховала… Ладно?
– Ладно, – сказал я.
Данилыч снова запел, и моторка ходко понеслась в сторону Белосарайской косы, навстречу белесому небу, сливавшемуся с белесым морем. День уже прочно занял свои позиции, и солнце давно растеряло утренние румяна…
43
Данилыч несколько раз подсовывал мне бычков, нажаренных нам в дорогу Марьей Григорьевной. Я знал, что бычки, приготовленные Марьей, только ленивый не станет есть. Но день стоял такой, что об еде не думалось. Море и небо блестели, словно гигантский шатер, обтянутый бледно–голубым атласом. Мотор журчал, как весенний ручей; шлюпка держалась, по выражению Данилыча, «как штык», – она не заваливалась на борт, когда приходилось переходить с кормы на нос, а всегда шла вперед.
Данилыч тихо мурлыкал песенку, слов которой я не мог разобрать. Так поют на Севере каюры – погонщики собачьих упряжек. В воздухе стояла приятная теплота. Я сначала следил за тем, как от кормы к горизонту бежала мелкой гофрировкой вода, но вскоре мне это наскучило. Я люблю море в движении, когда волны взлетают, как гигантские качели, когда огромные массы воды, сталкиваясь, гудят и слышится песня, идущая из груди моря, и видится, как живет и радуется оно. Ведь спокойное море – это бездельное море. На спокойном море всем плохо: человеку, и рыбам, и птицам. Спокойствие – это почти смерть.
Не знаю, то ли короткая ночь, то ли тихое море сделали свое дело, но я задремал. А когда открыл глаза, не сразу понял, что мы уже прошли западный, отмелый берег Таласской косы, небольшой заливчик и вышли на траверз вершины косы Бердянской.
– Смотри, Лексаныч, зараз будем входить в Белосарайский залив, – объявил Данилыч.
Я посмотрел в ту сторону, куда указывал Данилыч, и увидел высокую белую башню маяка Бердянский Нижний, острова – Большой и Малый Дзензик, отмель, обтягивающую конец косы, а за нею широкий простор Белосарайского залива.
– От здесь, – кивнул Данилыч на желтый песчаный берег перед маяком, – Посимдон костыли мои вынес… А там вон, у острова, волна и меня доставила на песок… Зараз чудно думать, шо тут я мог утопнуть!.. Здесь горобышку трудно сховаться… А тогда чуда просил! Вот, Лексаныч, как на море бывает!
Он вздохнул, прибавил газку и замурлыкал песенку. Моторка, взламывая гладкую, казавшуюся густой, как кисель, воду, легла курсом на северо–восток.
Мне хотелось побывать в бухте Таранья. Она расположена в северо–восточной части Белосарайского залива. Название свое получила из–за весенних скоплений в ее водах тарани.
До селения Ялта, раскинувшегося на северном берегу бухты Таранья, где я хотел остановиться дня на два, было около тридцати миль. День разыгрывался знойный. Море было настолько гладкое, что отраженные лучи слепили глаза. Из–за этого сильно клонило ко сну, и я снова задремал, да так, что проснулся с испугом, услышав голос Данилыча.
– Подходим, Лексаныч! – крикнул он. – Вон, гляди, Белосарайка! Птица кружит, – должно, рыбы много.
Я посмотрел в том направлении, куда указывал Данилыч. На белесом горизонте в легкой дрожащей дымке зноя виднелась узенькая полоска земли. Перед нею над тихой водой тревожно, как казалось со стороны, суетливо кружились птицы. Они словно бы отбивались от кого: то припадали к воде, то взметывались вверх, поблескивая на солнце крылом.
Я достал из кожаного экспедиционного мешка карту Таганрогского залива – одну из копий, снятых мною с карт капитана Белова, и стал рассматривать. Только теперь я заметил, что место, над которым кружились птицы, находилось не в бухте Таранья, а у конца Белосарайской косы. Отсюда до бухты не меньше шести–семи миль. Я спросил у Данилыча, почему он не пошел сразу в бухту. Он объяснил, что, когда увидел птицу, хотел разбудить меня, но не решился: «Больно сладко спал ты, Лексаныч». А посмотреть, отчего птица тут кружит, ему очень хотелось. Тем более отсюда можно быстро добежать и до Тараньей.
Я понял, что он хитрит, но не стал ворчать на него, а еще раз, прежде чем идти в Таранью, посмотрел на карту капитана Белова и только сейчас заметил, что место, над которым кружились птицы, на беловской карте было обозначено тремя крошечными крестами и знаком вопроса. Я развернул свою карту – там обозначенное Беловым крестами место было чисто. Что это значило?
Я сказал Данилычу, чтобы он заглушил мотор в том месте, над которым роились птицы: нужно было проверить, что означали эти три креста капитана Белова.
44
Три креста капитана Белова… Что же это значит? Что скрывается или должно скрываться за ними?
Долго я ломал голову над этой загадкой. Прежде чем остановить мотор, я попросил Данилыча сделать шесть кругов: первый – на расстоянии ста метров от воображаемого центра, второй и последующие – по спирали.
Мотор работал на малых оборотах, и шлюпка почти ползла. Упершись ногами в шпангоуты, я то и дело опускал отпорный крюк в воду: глубина всюду не превышала четырех метров и не падала ниже трех, то есть почти нормальная глубина для этих мест. Значит, здесь нет мели. Затонувшие суда и прочие опасности для плавания ограждаются буями или вехами. Тогда что же? На ум пришла догадка, что капитан Белов нанес эти знаки для себя, сделал только ему нужные пометки. Мало ли какие знаки может наносить капитан сейнера на свои карты! Это открытие, к сожалению, не упрощало задачу, а, наоборот, усложняло ее. Еще больше хотелось знать, что же «для себя» отмечал капитан Белов.
«Три креста, три креста», – скандируя про себя эти слова, я перебирал приходившие на ум новые догадки. Но разум – жестокий контролер фантазии. Он отвергал все, что приходило на ум. «Что же тогда?» – спрашивал я себя после очередного предположения. «А может быть, – думал я, – капитан Белов, как все грешные, взял здесь хороший улов и решил отметить богатую рыбную отмель, а чтобы скрыть от любопытных истинное значение трех крестов, поставил возле них вопросительный знак?» Эта мысль показалась мне близкой к истине. Хотя я не считал капитана Белова обыкновенным промысловым волком, которому главное – «взять рыбу», но вместе с тем невольно думалось, что он при всем его стремлении к высокой культуре рыболовства был прежде всего человеком земным: план и ему нужно выполнять.
Данилыч, когда я высказывал ему свои догадки, молча крутил медный ус, затем качнул головой.
– Видишь ли, Лексаныч, – сказал он, – если б кто другой, не Мыкола, поставил эти кресты, можно было думать, шо они навроде как узелочки, какие бабы «на память» вяжут на платках… А Мыкола – хлопец непростой. Тут он шо–то зробил! А шо? Ему известно, а нам гадать! Ты вот, Лексаныч, человек ученый, тебе и загадка дана. Ты гадай ее, а я пока закину удочку, может, бичка или там чопиков достану…
45
Данилыч натаскал полную сетку крупных головастых бычков, а я так ничего толкового и не сделал. Эх, до чего же примитивны приборы биологов! Геологи, топографы, ботаники, географы, археологи ходят по земле, вооруженные до зубов, и в свои тайны вторгаются без страха и сомнения. А мы? Мы тоже, как говорится, «богом не обижены», и у нас не Мафусаилов век: есть кое–что и у нас, например «Витязь» – отличнейшее, оборудованное совершеннейшими и, не боюсь сказать, даже уникальными приборами судно. «Витязь» плавает на Тихом океане. Недурные суденышки распахивают и другие моря. Но вот тут, на Азовском, нет специального экспедиционного судна и, к сожалению, нет в обиходе и портативных современных приборов. Что делать? Хныкать?