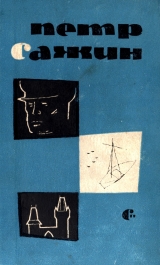
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
Но Кирибеев то ли не понял этого взгляда, то ли имел какие–то свои соображения не торопиться; он молча смотрел прямо в глаза Плужнику.
Плужник лежал беспомощный и жалкий, как большой ребенок. Открытые руки и шея были рыхлы, розовое лицо, окинутое веснушками, сморщилось. Красные глазки под белыми шелковистыми бровями устало и как бы нехотя смотрели на Кирибеева.
– Что ты смотришь на меня, как девка на новые подвязки? Что молчишь? Докладывай – что там у тебя случилось? Почему с людьми не ладишь? Что с Кнудсеном? Зачем штурмана от дела отшиваешь?
– Столько вопросов, и сразу, – сказал Кирибеев.
– Сколько нужно, столько и задаю, – уже не сдерживая гнева, сказал Плужник, слегка приподнявшись на локтях. – Потребуется, еще задам! Не с тебя, а с меня партия спросит. Я за все отвечаю… Ну, говори!
На щеках у Кирибеева взбугрились желваки. Колючим взглядом он посмотрел на Плужника.
– Хорошо, товарищ капитан–директор, – сказал он, с трудом справляясь с дыханием.
– Ладно, ладно, – перебил Плужник, – обиделся… Мне, а не тебе надо обижаться… Лежу вот – сил нет, а от дел никакого отбоя. А кто их, дела–то, делать будет. Рапорт мне с замполитом придется писать… Говори: что там у тебя на китобойце? Да заодно скажи: кто тебя уполномочивал давать телеграмму Вериго—Катковскому? Ты что, скандала в мировом масштабе хочешь?..
С этими словами он тяжело опустился на подушки, закрыл глаза, сделал глотательное движение и тихо проговорил:
– Говори… Обидами потом сочтемся.
Кирибеев молча посмотрел на Каринцева, затем на меня.
– Случилось вот что. В поисках видимости мы попали в бухту Сторож. Там оказалась чистая вода и видимость в пределах до шести кабельтовых. Я спросил у механика – что будем делать? Может быть, котлы почистим? Он сказал, что в этом надобности нет. Хлопцы скучать начали.
– А кружки техминимума? – перебил Плужник.
– Я решил провести несколько занятий по биологии китов, по изучению гарпунной пушки, по наблюдению за морем. Мне помог товарищ Воронцов, – он кивнул в мою сторону.
– Так, – неопределенно сказал Плужник и пристально посмотрел на меня.
– Затем мы провели тренировочные стрельбы по ящикам.
– Так, – уже с нескрываемым раздражением проговорил Плужник. – А почему у тебя Кнудсен отказался стрелять?
Кирибеев сощурил глаза. Лицо Плужника налилось кровью и приобрело лиловый оттенок. На лбу и подбородке выступила липкая влага. Он тяжело дышал. В горле что–то заклокотало. Он попытался откашляться. Но ему не удалось этого сделать, в дыхание вплетался тонкий, раздражающий свист.
– Ну? – сказал он, задыхаясь.
– Этот вопрос, – сказал Кирибеев, – следует задать Кнудсену.
– Ах, так!.. – воскликнул Плужник. – Ты это брось!.. – Голос его перешел в какой–то свист. – Ты брось эту махаевщину!.. Ты на кого замахнулся? Партия не тебе, а мне доверила, с меня, а не с тебя будет спрашивать! Ты капитан–директор или я? А? Кто тебе разрешил замахиваться на политику партии и правительства? А? Кто приглашал специалистов, ты или правительство? Молчишь? Я из тебя эту махаевщину вышибу!
Каринцев сделал рукой знак Кирибееву: мол, не злите старика. Капитан сидел бледный, плотно сжав губы. Я догадывался, что он испытывал чувство стыда за Плужника.
Капитан–директор смотрел на Кирибеева, ожидая его ответа. Кирибеев молчал. Наконец Плужник не выдержал и снова закричал:
– Ты что молчишь? Что строишь из себя? Прекрати…
Он не договорил. Капитан Кирибеев встал и взялся за фуражку.
– Я зайду к вам, Сергей Александрович, когда вы будете лучше себя чувствовать; может быть, тогда вы спокойное будете разговаривать со мной. А у меня дел много: надо сдать паспорта на китов, взять топливо…
Плужник побледнел и отвалился на подушки, закрыв глаза.
– Говори сейчас, – сказал он тихим голосом.
Кирибеев положил фуражку и сел.
– Я, собственно, все сказал. Разве что не сказал вам о просьбах. У меня их две.
– Говори.
– Прошу перевести с «Тайфуна» штурмана Небылицына…
– Еще, – тихо барабаня пальцами по столику, сказал Плужник.
– Вторая просьба о Кнудсене. Он нам не нужен. На «Тайфуне» есть уже два человека, которые могут быть гарпунерами. Они доказали это сегодня.
– Кто такие?
– Помощник гарпунера, парторг корабля Чубенко и марсовый матрос комсомолец Жилин.
– А больше нет?
– Я могу, сам.
– Нет! Я спрашиваю, – снова раздражаясь, сказал Плужник, – больше просьб нет?
– Нет, – четко и резко ответил Кирибеев.
– Каринцев! – позвал Плужник помполита. – Ты слышал?
Кирибеев посмотрел на Каринцева. Я тоже ждал, что скажет помполит.
– Сергей Александрович, – начал Каринцев, – я не знаю насчет Небылицына… но что касается Кнудсена, Степан Петрович прав.
– Прав? – сказал Плужник. – Вот тебе и Галапагосские острова! – Он приподнялся. – А контракт? А что скажут за границей? Скажут, что с Советами нельзя дело иметь! А решение партии и правительства есть по этому вопросу? Отвечать вам или мне?..
– Я думаю, – сказал Каринцев, – что отвечать, если нужно будет, нам всем придется. Но сейчас речь идет не об этом. Кнудсен действительно отказался после вашего приглашения идти к пушке? – обратился он к Кирибееву.
– Да, – сказал Кирибеев, – он был пьян и послал нас всех к черту.
– Так! И после этого вы поставили к пушке…
– Жилина.
– Ну и как?
– Жилин тремя гарпунами добыл двух китов.
– Молодец! – воскликнул Каринцев. – А кто убил еще двух?
– Одного боцман Чубенко, одного я.
– Вы?
– Да.
– Отлично! Отлично! – Каринцев встал и потер руки. – Сергей Александрович, – сказал он, – я думаю, мы попросим Степана Петровича дать нам об этом рапорт. Мы проконсультируемся с крайкомом и трестом. А теперь, конечно, нужно Кнудсена снять с «Тайфуна» и пока поместить на «Аяне». Вы как, – обратился он к Кирибееву, – уверены в том, что сегодняшний день – не просто счастливая удача?
– Уверен, товарищ Каринцев, и даже скажу вам больше: по–моему, из Жилина и Чубенко выйдут, и, пожалуй, в скором времени, гарпунеры с мировым именем. Я очень прошу снять Кнудсена с «Тайфуна»! И уж разрешите мне докончить: прошу списать и штурмана Небылицына. Просьба моя настолько серьезна, что я вынужден ставить ее в категорической форме: либо штурман Небылицын уходит, либо я.
– Кому ты грозишь, капитан Кирибеев, – сказал Плужник, – и с кем ты так говоришь?
– Я, товарищ капитан–директор, всегда говорил прямо все, что думал и что считал нужным сказать. У меня к вам просьб больше нет. Но эти прошу решить сейчас. Я не выйду в море, пока у меня на борту будут Небылицын и Кнудсен.
– Так! Ультиматум? Мне? Да ты знаешь…
– Сергей Александрович! – сказал Каринцев. – Мы не можем не считаться с требованиями капитана Кирибеева. Сделаем так: отпустим его, а через два часа все с вами спокойно решим. Вам нельзя волноваться. Да и они небось не спали, да и, наверное, не ели толком. Есть хотите, товарищи? Зайдите в кают–компанию, вас там накормят, а мы тем временем обсудим ваши вопросы.
– Добро, – с трудом, после паузы, сказал Плужник. – Плохо что–то мне. Пусть идут.
Каринцев подмигнул Кирибееву:
– Идите! Идите! Сергей Александрович – человек больной, ему трудно решать вопросы на ходу.
Мы взяли фуражки. Плужник вдруг привстал и сказал примирительным тоном:
– Ты, Степан, не обижайся! Подумай, какую ответственность наложила на меня партия, а я не молод. Здоровьишко в тайге в борьбе с японскими да американскими интервентами растерял. Вас много, и вопросов много. Одному то, другому се… А я один у вас капитан–директор! Иди! А мы тут обдумаем. Ох! Голова раскалывается!
Когда мы вышли, капитан Кирибеев сказал:
– Слышали? И это командир флотилии? А ведь был хорошим парнем. Вот что бывает с людьми, когда они теряют курс, когда не берут в руки секстан, чтобы по солнцу жизни определить свое место.
Выло еще темно, когда на «Тайфуне» заканчивалась приборка. Капитан Кирибеев стоял на мостике и торопил боцмана. После ухода Олафа Кнудсена и штурмана Небылицына капитану хотелось скорее в море. Совещание, которое Плужник собирался провести с капитанами китобойцев, не состоялось. Здоровье его ухудшилось. На мостике рядом с Кирибеевым стоял Каринцев и негромко говорил капитану:
– О вашем начинании я сообщил в крайком партии, в трест и в цека. Действуйте смелее, но не горячитесь. Имейте в виду, что от этого рейса многое зависит. Ведь первый ваш промысел, если вы сейчас сорветесь, недоброжелатели, бюрократы – а их немало – расценят как счастливую случайность. Вы начали большое дело. Вы пошли в наступление и одержали первый успех. Так развивайте его! Не стесняйтесь: понадобится помощь – обращайтесь; что будет зависеть от меня, всегда поддержу. Штурмана Ворожейкина вы не знаете. Оп молод, но, как я успел заметить, человек вашего склада – рвется в бой. У нас на базе он скучал и все просился на китобоец. Какое у вас первое впечатление о нем?
– Парень горячий. Я таких люблю, – сказал Кирибеев.
– А вы, товарищ Воронцов, – обратился ко мне Каринцев, – решили опять пойти с Кирибеевым?
– Да, – ответил я.
– Правильно! – сказал Каринцев. – На базе еще успеете поработать. Ну что ж, как говорят: «ни пуха»!
– Надо бы послать к черту, – сказал Кирибеев, – да субординация не позволяет.
– А вы тихонечко, – сказал Каринцев и рассмеялся. – Ну, до скорой встречи.
Как только Каринцев поднялся на «Аян», Кирибеев скомандовал отдать швартовы, затем перевел ручку телеграфа на «малый ход», и «Тайфун» медленно отошел от китобазы…
– Ну вот, мы и одержали победу, – сказал Кирибеев. – Теперь все зависит от нас самих.
– Не боязно?
– Нет! – решительно сказал он. – Я уверен в своих людях. Да и потом, профессор, я никогда не жалею о том, что уже сделано. Жалость, профессор, это дрожжи слабости. Жалость – плохой советчик.
– Верно, – ответил я.
– Я, профессор, уже испытал в своей личной жизни, что жалость и нерешительность ведут к потере воли, к подчинению обстоятельствам, иногда очень тяжелым. Но хватит об этом… Посмотрите, какая ночь!
Ночь была действительно хороша. Небо можно было читать, как книгу, – звезды сверкали, словно крупные жемчужины. И так отчетливо отражались в бухте, что их можно было бы черпать планктонной сеткой. Казалось, мы находимся не в северной части Тихого океана, не на краю света, а где–нибудь у берегов Черного моря.
Мы долго молча любовались и чудесным небом, и спокойным морем.
– Хорошо? – спросил капитан Кирибеев.
– Очень!
30
Когда это случилось, я стоял рядом с капитаном Кирибеевым. Я первый раз в своей жизни видел, как человек от несчастья может осунуться и постареть.
…«Тайфун» начал охоту на заре, встретив вскоре после выхода из бухты Моржовой, у мыса Шипунского, в районе маяка–автомата, стадо кашалотов, насчитывавшее двенадцать голов.
У пушки стоял сначала капитан Кирибеев. Он очень удачно пристроился в хвост стаду и после недолгих маневров взял одного крупного кашалота. Киты, как говорят, шли «генеральным курсом», то есть совершали какой–то переход (они шли в сторону мыса Кронье), поэтому убитого кашалота решили не швартовать, а оставили на флаге.
Погода стояла отличная, и ни у кого не было опасения, что кашалот может потеряться.
После постановки кита на флаг капитан Кирибеев поднялся на мостик, чтобы сменить штурмана Ворожейкина, а к пушке встал Чубенко. Он тоже удачно, двумя гарпунами, уложил большого кашалота. И этот трофей был оставлен на флаге.
Стадо между тем, не меняя курса, все шло и шло почти без остановок на северо–запад. Китобоев охватил азарт, и «Тайфун» продолжал преследование.
Каринцев несколько раз запрашивал с «Аяна», как идут дела. И когда капитан Кирибеев сообщил, что оставлены на флаге два кашалота и он продолжает преследование китов, с «Аяна» пришла радиограмма, подписанная Плужником. Он поздравлял весь экипаж с успехом. Капитан Кирибеев показал мне радиограмму и сказал:
– Вот тебе и Галапагосские острова! Признал старик. Додумался все–таки… Хитер, как муха.
Пряча радиограмму в нагрудный карман, Кирибеев весь сиял.
Через полчаса после этого удалось подойти к кашалоту, замыкавшему стадо. Но Чубенко долго не мог занять убойную дистанцию. Наконец случай такой наступил, и он выстрелил. Гарпун попал не в сердце, как метил Чубенко, а в хвостовой стебель. Кашалот на миг замер, потом рванулся вперед, и, пока пушка заряжалась добойным гарпуном, раненый зверь выпрыгнул из воды, перевернулся и молниеносно нырнул под китобоец. Вскоре последовал огромной силы удар в корму, «Тайфун» встряхнуло так, словно он с полного хода налетел на подводную скалу. Чубенко дал знак на мостик «полный назад», зазвенел машинный телеграф, и тотчас же китобоец затрясло, в бортах раздался треск, а из раскрытых люков машинного кожуха донесся гул, словно под нами началось землетрясение, – машина заработала на полных оборотах, но китобоец не двигался.
С прикушенной губой капитан Кирибеев вынул пробку из переговорной трубки и закричал:
– В машине-е! Я просил «полный назад»! В чем дело? Чем заняты?.. Что случилось? Что-о?! У вас все в порядке? А какого же черта корабль ни с места? Не знаете? Вы никогда ничего не знаете! Вахтенный! – крикнул он, перегибаясь через обводы мостика. – Боцмана ко мне!
Через минуту боцман бежал уже с мостика к корме. Стуча коваными сапогами, за ним спешили матросы. Я направился туда же. Пока я дошел до кормы, матросы успели спустить штормтрап. Боцман перешагнул через борт и быстро скрылся за кормой. Вскоре он вернулся. По его лицу было видно, что случилась большая беда. Кто–то из матросов спросил его:
– Что, намотали на винт?
Он отмахнулся и поспешил на мостик.
Вскоре на корме появился сам капитан. Матросы расступились. Кирибеев спустился за борт. Когда он снова ступил на палубу, на нем лица не было. Он оглядел нас, хотел что–то сказать, но, видимо, раздумал и крупными шагами удалился на мостик.
Что же произошло с кораблем?
Когда капитан ушел, один из матросов спустился за корму и, возвратясь, доложил, что кашалот сломал гребной винт. Если к этому добавить, что было смято и перо руля, то нетрудно понять, в каком тяжелом положении оказались китобоец «Тайфун» и его капитан.
К счастью, обалдевший от удара кашалот вынырнул близко от носа китобойца, и нерастерявшийся Чубенко уложил его насмерть добойным гарпуном.
Дальше события развивались так. К месту аварии прибыли китобойцы «Вихрь» и «Гарпун». «Вихрь» пошел собирать добытых нами кашалотов, а «Гарпун» задержался, – на его борту прибыла комиссия в составе капитан–директора Плужника, замполита Каринцева и главного механика флотилии, бывшего боксера, Свентицкого.
– Ну что, доигрался? – сказал Плужник Кирибееву вместо приветствия.
Капитан не ответил и пригласил прибывших и нас с механиком Порядиным в кают–компанию.
Плужник сел в центре.
– Ну, докладывай, – сказал он, оглядывая кают–компанию.
Капитан Кирибеев кратко рассказал, как произошла авария.
– Так, – сказал Плужник. – А вы что скажете, механик? – обратился он к Порядину.
После рассказа Порядина Плужник обратился к Каринцеву:
– Что ж, замполит, картина ясная! И я ставлю вопрос прямо… Можем ли мы дальше доверять корабль капитану Кирибееву?
– А почему же не можем? – ответил Каринцев. – До сих пор доверяли… Мне кажется странной такая постановка вопроса!
– Вот тебе и Галапагосские острова!.. Чего ж тут странного? Кто выжил с «Тайфуна» Кнудсена и Небылицына? Капитан Кирибеев… Кто нанес сейчас удар по плану? Капитан Кирибеев. Да с его характером он еще судно утопит! А? Ты как думаешь, главный? – спросил он, резко повернувшись к Свентицкому.
– Я? – спросил Свентицкий, бросая бумажный шарик в пепельницу. – Я, товарищ капитан–директор, думаю, что наказывать надо не капитана Кирибеева, а кашалота – за запрещенный прием бить по гребному валу…
Все, кто был в кают–компании, расхохотались. Только Плужник нахмурился. Воцарилось неловкое молчание.
– Сергей Александрович, – сказал Каринцев, – нам нет смысла задерживать «Тайфун»: чем скорее он встанет на ремонт, тем раньше вернется в строй.
Плужник, посверкивая красноватыми глазками, оглядел всех нас по очереди, затем спросил:
– А еще никто не хочет сказать?
Каринцев, чуть скосив голову, посмотрел в сторону капитана Кирибеева, моргнув ему, затем встал и сказал:
– Я думаю, пора в путь.
– Нет, подожди, – сказал, вставая, Плужник. – Капитан Кирибеев, у тебя много защитников, но я предупреждаю: в другой раз не посмотрю на них, разгильдяйства не потерплю и сделаю свои выводы… У меня, брат, рука рабочая, твердая, и я умею крепко бить… Погоди, не возражай!.. Ты Кнудсена списал, а мы ему валюту платим до конца сезона. Валюту! Ты понимаешь? Кнудсен сказал, что он тогда вышел на палубу, и Небылицын подтвердил. Понятно тебе? Как это назвать, а? Я спрашиваю.
– Сергей Александрович!.. – сказал Каринцев.
– Погоди, дай сказать! Ну?
– Сергей Александрович, – перебил Плужника Каринцев, – зачем вы… Мы же больше выиграем от того, что теперь у нас свои гарпунеры будут. Что вы нападаете на капитана Кирибеева?
– Может, его к ордену представить? – сказал Плужник.
– Придет время, и представим… Пошли, Сергей Александрович. Тебе вредно волноваться. Когда «Тайфун» выйдет из ремонта, мы пригласим капитана Кирибеева и поговорим.
– Видишь, капитан Кирибеев, – сказал Плужник, – какая у тебя защита. Валяй действуй!.. А объяснение мне напишешь. Да смотри, чтоб ремонт был до срока! Понятно?
Я был удивлен тем, что капитан Кирибеев не вспылил и, как говорится, «не взорвался». Очевидно, он понял знаки, которые ему делал Каринцев, и решил промолчать.
После ухода комиссии «Гарпун» взял нас на буксир и повел в Петропавловск.
Как только мы тронулись, капитан Кирибеев ушел в каюту и не выходил оттуда, пока «Гарпун» не ошвартовал нас в петропавловской гавани.
Капитан «Гарпуна» приглашал меня к себе на борт, но я решил остаться на «Тайфуне»: не мог я в такой момент уйти от Кирибеева.
Авария и разговор с Плужником так подействовали на него, что он заперся в каюте и не выходил до Петропавловска. Он появился на палубе после того, как мы прибыли к месту, где должен был ремонтироваться «Тайфун». Но, боже, как же он осунулся! Его трудно было узнать. Нос заострился, глаза впали, губы спеклись, словно после тяжелой болезни. Из–под фуражки торчали нечесаные седые кудерьки. Я пытался заговорить с ним, но он, буркнув что–то, направился к механику.
В Петропавловске я получил письма и телеграммы от жены; дома было все в порядке. Большая телеграмма пришла от Вериго—Катковского – он благодарил меня за присланный ему материал и сообщал, что в институте ждут меня с докладом об опыте работы первых советских гарпунеров.
Ремонт длился около двух недель. Это были изумительные дни! Ободренный телеграммой Вериго—Катковского, я вставал чуть свет и до обеда работал не покладая рук над отчетом о промысле. После обеда складывал бумаги в стол и шел на корму. Она была высоко поднята на специальных лесах, на которых круглые сутки работали китобои во главе с механиком Порядиным. Тут была вся гвардия «Тайфуна»: Жилин, Чубенко, Макаров, Жора Остренко и новый штурман Ворожейкин.
Новый штурман был полной противоположностью Небылицыну. Среднего роста, коренастый блондин, с руками настоящего мастерового. С полуслова понимал он любое намерение механика Порядина, всегда оказывался в нужном и трудном месте, угадывал, когда следует взять кувалду, или огромный разводной ключ, либо вагу, которой требовалось что–то поднять или поддержать. В его движениях не было ни суетливости, ни стремления показать свою сноровистость. Комбинезон и темно–синий берет выглядели на нем, как на истом штурмане, – элегантно и подчеркнуто чисто, хотя он и был всегда рядом с красками и маслом. Делал все Ворожейкин обстоятельно и крепко – после него не нужно было ничего проверять.
Ему не обязательно было участвовать в этих работах, его хозяйство – палуба, трюм, промысловое снаряжение и штурманская рубка. Но штурман, подобно капитану Кирибееву, чувствовал себя больным, если не было дела. К тому же он, как и капитан, спешил скорее закончить ремонт – и в море, на промысел!
С морем Ворожейкин был связан с детства. Он родился на пароходе «Граф Муравьев—Амурский» во время его возвращения из Петропавловска–на–Камчатке во Владивосток в 1913 году. Находившийся среди пассажиров священник окрестил его, а вахтенный штурман записал в шканечный журнал.
Мне очень нравился штурман Ворожейкин, и я искренне радовался, что у капитана такой добрый помощник.
В эти дни неузнаваемо изменился механик Порядин. Куда делись его молчаливая сосредоточенность и неторопливость! Он целыми днями и ночами пропадал под кормой «Тайфуна», откуда то и дело слышался его бас: «Нажмем, орёлики!», «А ну, орёлики, еще раз!», «Еще немного!»
Работа шла дружно, потому что каждый действовал за двоих. Ни Жилин, ни Чубенко, ни Макаров не отставали от механика и штурмана. Даже Жора Остренко успевал и на камбузе поработать и под кормой, не забывая в подходящий момент ввернуть какую–нибудь остренькую прибаутку.
К концу ремонта повеселел и капитан Кирибеев – он стал чаще заговаривать с китобоями. Я обрадовался. Значит, капитан наш начал приходить в себя.
Почти перед самым окончанием ремонта капитан Кирибеев снова впал в мрачное состояние. Произошло это так. Примерно за три дня до выхода в море в Петропавловск пришел из Приморска пароход срочной линии «Ильич». Он привез пассажиров и почту.
Посланный за почтой Макаров принес большую связку писем. Китобои атаковали его тут же, на палубе. Макаров стал выкрикивать фамилии. Кирибеев стоял в сторонке и покуривал трубку. Когда письма кончились, Макаров с наивной непосредственностью сказал:
– Товарищ капитан, а вам ничего нет.
Кирибеев насупился, круто повернулся и быстро ушел к себе.
Перед сном я долго гулял по палубе. Вечер стоял на редкость теплый. Город медленно отходил ко сну, огни в домах один за другим гасли, стояла изумительная тишина. Лишь кое–где на сопках слышались лай собак и поздние песни загулявших рыбаков.
Когда я собрался спать, вспыхнул огонь в каюте капитана Кирибеева. Вслед за этим открылась дверь, и капитан появился на палубе. Увидев меня, он спросил:
– Скучаете, профессор?
– Да, – ответил я, – надоело, скорее бы в море.
– Ага, – сказал он, – значит, уже оморячились. Это хорошо. Ну что ж, теперь недолго ждать.
Помолчали.
– Что ж мы стоим? – промолвил он наконец. – Может быть, зайдете ко мне?
Я помедлил с ответом. Он взял меня за рукав и ласково сказал:
– Заходите. А то я совсем скис один.
Он открыл дверь и пропустил меня вперед.
31
Я не был в каюте капитана довольно давно. Как тут все изменилось! Со стен исчезли раскрашенные виды Неаполя, Лондона, Сингапура, цветная олеография «Извержение Везувия», стилизованные рисунки тушью, на которых были изображены гейши, гора Фудзияма, цветущие вишни и тонкие, почти невесомые, будто сотканные из паутины, мостики, перекинутые через ревущие потоки… Теперь под книжными полочками висели старинные навигационные инструменты. Коллекция их могла бы вызвать восхищение у любого видавшего виды морехода. Чего только не было тут! Настоящие сокровища! Рядом со старинным угломером – секстан, затем компас и барометр. А дальше великолепная, оправленная красным деревом (настоящим «махагони») подзорная труба и старинные корабельные часы «склянки».
Под стеклом висел высушенный круглый лист расамал – гигантского дерева Индии. На листе было что–то написано, а что именно, я разобрать не мог. Я читал где–то, что в древности листья расамала служили в Индии не только почтовой бумагой, но на них писались даже сочинения. Говорят, что в библиотеках этой страны и сейчас хранятся рукописи из листьев расамала…
На самом видном месте на кронштейне стояла дивная бригантина. Она как бы плыла – так искусно поставил мастер на ее точеном рангоуте шелковые паруса. На полочке, которая висела в изголовье постели, стояли зубы кашалота. Это были старые, стертые зубы, эмаль на них облилась желтизной, как у заядлого дымоеда. Остаток полочки занимали изделия из китового уса. Ни одна модница, ни один модник XVII, XVIII и даже XIX века не могли обойтись без китового уса. Корсажи и кринолины, создававшие женщинам тонкие и гибкие, как тростинка, талии, держались на пластинах китового уса. Дамам невдомек было, что гибкий китовый ус, ужимавший их полноту, добывается тяжелым и опасным трудом бородатых, пропахших ворванью людей, что руки у этих людей в кровавых трещинах от лютого холода и соленой морской воды, а глаза воспалены от ослепительного блеска льдов…
А что знали о китобоях рыцари, на шлемах которых красовались плюмажи, искусно сделанные мастерами Байоны, Бордо, Гарлема из тонко нарезанного китового уса?
В девяностых годах прошлого столетия китовый ус продавался на рынках в Бремене, Сан—Франциско, Гонолулу по четыре доллара за фунт! В XVII веке из–за китового уса и ворвани шли сражения. Сколько крови было пролито у берегов Шпицбергена! Голландские и английские китобои за обладание лучшими участками промысла палили друг в друга из пушек. Голландцы построили в XVII веке на Шпицбергене, на острове Амстердам, целый город китобоев, который назывался Смеренбург. Это был Клондайк XVII века. По улицам Смеренбурга сновали ватаги бородатых людей с глиняными трубочками в зубах. Они добывали ворвань и китовый ус. В других бухтах стояли корабли англичан, датчан, басков. В течение ста лет на островах Шпицбергенского архипелага стоял шум, как в крупных портах Европы. И только с полным истреблением гладких китов, примерно в середине XIX века, на Шпицбергене наступила первозданная тишина – китобои устремились в пролив Дэвиса, а затем дальше, в Берингово и Охотское моря. Сейчас китовый ус стоит копейки. Теперь парижские мебельщики набивают им матрасы и диваны, а из более грубых сортов уса делаются половые щетки.
Где собрал все эти сувениры капитан Кирибеев? Тоскует ли он по женщине, у которой, как он говорил мне, поразительная, почти точеная фигура, поддерживаемая молодостью и красотой, а не гибкими пластинками китового уса?
Осматривая каюту капитана Кирибеева, я искал портрет Ларисы, но не нашел его. Зато над полочкой, где были выставлены изделия из китового уса, я увидел две трости. Я не сразу обратил на них внимание. Они были почти незаметны, потому что и стена и трости имели один цвет – слоновой кости.
Но когда я подошел к тому месту, где они висели, то увидел, что трости разные, и цвет их разный, и сделаны они не из слоновой кости, хотя та, что висела повыше, по цвету и массивности могла бы сойти за слоновую кость. Я снял трость и осмотрел ее внимательно, постучал по ней ногтем. Тяжелая, словно литая, трость слегка зазвенела.
– Бивень нарвала? – спросил я капитана Кирибеева.
Он молча кивнул головой.
В средние века зуб арктического зверя – единорога называли «перстом божиим». Монахи и лекари того времени приписывали ему волшебное действие: они превращали окостеневший «перст божий» в порошок и лечили им от многих болезней. Порошки, приготовленные из «перста божиего», были одним из самых дорогих лекарств, продававшихся в аптеках того времени.
В сокровищницах королей и епископов бивни нарвала хранились рядом с алмазами и золотом. Искусные косторезы делали из них посохи для монархов. Коронационный посох Ивана Грозного был тоже сделан из бивня единорога.
Разглядывая эту редкую вещь, я спросил, откуда она. Из книг о морских млекопитающих я знал, что нарвал, или единорог, – один из редчайших морских зверей, ныне встречается только в высоких широтах Арктики, вдали от материковых земель. На него охотятся лишь эскимосы Гренландии, живущие у пролива Скоресби, да охотники с мыса Барроу.
– Это память об отце, – сказал капитан Кирибеев, – ему эту трость подарили чукчи за спасение охотников где–то в районе Мечимгенской губы… Отец плавал в тех местах шкипером на шхуне «Аляска».
Когда я снял вторую трость, капитан Кирибеев сказал:
– Подарок Ларисы… Вещичка грошовая, из позвонков голубой акулы. На Кубе их делают, так же как на Кавказе палки из самшита, сотнями. Но она дорога мне…
Сказав это, он сделал вид, что именно сейчас ему крайне необходимо вычистить трубку. Я догадался, что на душе у него кипит, что он взбудоражен переживаниями последних дней. Тут и разговор с Плужником, и авария во время охоты на кашалотов, и томительные минуты ожидания, когда Макаров при раздаче почты выкрикивал фамилии китобоев…
Я догадывался, что ему сейчас, как и тогда, когда мы встретились впервые, нужен собеседник, что он должен выговориться, облегчить свою душу. И я не ошибся.
– Знаете, профессор, – начал он, глядя на меня прищуренными глазами, – многие считают меня сильным человеком, называют даже «железным». Это чепуха! Я такой же, как и все.
Вот вы смотрите на все эти вещи и, я вижу, вздыхаете. Ах, мол, какой счастливый капитан Кирибеев, сколько у него диковинных сувениров, как он много видел, чуть ли не везде побывал!.. Не так ли? Я действительно много видел, – продолжал он, – исколесил почти весь свет. Немногим выпало такое счастье. А счастлив ли я? Сегодня все получили письма. А я? Вот вы держите в руках эту трость из акульих позвонков. Ее, может быть, давно стоило выбросить за борт. Но я не могу. Почему? – спрашиваю я себя. Потому, профессор, что держат меня воспоминания. Вам, вероятно, трудно понять мое положение. У вас хорошая семья. А я…
Он задумался и тяжело вздохнул.
– В молодости, профессор, я исповедовал такую, с позволения сказать, философию, что личная жизнь – то есть семья там, дети – может помешать мне как моряку. Я мечтал о больших плаваниях. И вот когда мне надо было решать этот вопрос – я просто ушел от его решения. Я думал тогда: «Что же, одни играют на флейте, другие строят пирамиды». Я думал, что я действительно буду строить пирамиды и что семья помешает мне.
Но что же, однако, получилось у меня?
Я не построил ни одной пирамиды, а на флейте заиграл слишком поздно.
Вы – молодой человек и не знаете, что среди молодежи в первые годы после революции проповедовался аскетизм: комсомольцы не носили галстуков, а поцеловать руку, даже у любимой, считалось грубым нарушением морали. Теперь все это похоже на старый анекдот – скорее грустно, чем смешно. Время многое пересмотрело и поставило на свои места. Но и сейчас есть люди, которые утверждают, да и печать об этом часто твердит, – что подвиги можно свершать только во имя дела… А любовь? Разве ради любви подвиги были возможны только в старом обществе? Наша литература да и газеты – чаще всего говорят о строительстве, о заводах, о земле. И меньше о нравственности, морали, быте, любви. А если говорят, то все как–то гладенько получается. А что заводы, что земля без красоты и любви? Ведь землю пашут не одну тысячу лет… И римский водопровод был, и пирамиды были, и катапульты, и Икар крылья строил… А во имя чего? Во имя радости и счастья? Да? Но счастье в чем? В работе? Да? Да! Но есть еще счастье в тайном свидании, в первом поцелуе, в пожатии руки любимой, в браке, рождении ребенка, воспитании его… Счастье, профессор, очень широко. Оно как океан. В нем могут быть и туманы, и штормы, и ослепительная красота палевого неба…






