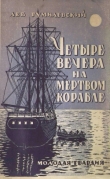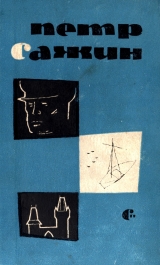
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 41 страниц)
Азовское море почти не имеет островов. Правда, есть кое–где небольшие, плоские островишки. Ну, там, группа песчаных островков у Ейска, затем у вершины Федотовской косы заповедный остров–коса Бирючий – пристанище пернатых, остров Ляпина и еще возле Таганрога остров Черепаха. Этот островок «незаконнорожденный»: он насыпан по приказу Петра Первого для возведения на нем батареи. А вот косы азовские – это очень интересные и богатые выступы суши, далеко выдающиеся в море и образующие заливы и лиманы. Наиболее из них известные на кубанской стороне: Долгая, Сизальнинская, Еленина, Камышеватская, Бейсугская; на украинской стороне: Федотовская, Обиточная, Бердянская, Таласская, Белосарайская и Кривая.
Таласская коса тянется на двадцать с лишним километров в море. В начале ее стоит большой промышленный город и порт. На его окраине Слободка. За Слободкой курорт с грязелечением и солеными рапными водами, лиманы, виноградники, рыбозавод, рыбацкая станичка и, наконец, маяк.
Около Таласской косы, образующей ряд мелких бухточек, заливов и лиманов, вьются тучи морских птиц. Они жируют здесь на отмелях, заросших морской травой: зостерой, руппией, камышом и осокой.
Тут настоящие подводные луга, кишащие веслоногими ракообразными коловратками и ветвистоусыми ракообразными. Встречаются и реликтовые понтические ракообразные, и нереисы, и еще бог знает сколько добра, именуемого биомассой, которую в неисчислимых количествах пожирают и рыбы и птицы. Среди птиц больше всего уток. Можно часами наблюдать за их деятельностью: одни, беспокойно хлопая крыльями и отчаянно работая ногами, отрывались от воды и, описав невысокую кривую, то и дело переселялись в новое место; другие, как по команде, окунали головы в воду, вскидывали вверх гузки и вытянутые красные лапки, с аппетитом глотали зазевавшихся брахинотусов (крошечных крабиков) или сочных и вкусных моллюсков; третьи спали, спрятав шелковистую головку под крыло; четвертые о чем–то оживленно спорили; пятые вели брачные игры.
Среди уток с гвалтом носились чайки, которых Данилыч презрительно называл одним словом «мартын». У него и для уток были свои названия: «крежень», «расейка», «морячка», «куличок», «огарь», «лыска», «швыга». Самыми заметными были крежень и огарь. Первая – крупная, степенная, словно сбежавшая домашняя утка. А огарь – беленькая, поминутно обирающая и очищающая себя, тоже нехуденькая, с пером, переливающимся перламутровым блеском.
По песку прыгали брызгалки и трясогузки. И все это галдящее, красиво поблескивающее разномастным оперением беспокойное птичье царство жило постоянно под страхом. Если бы у птиц была своя служба противовоздушной обороны, то птицы – бойцы этой службы – то и дело кричали бы: «Воздух!»
Над косой непрерывно крутились, вытаращив круглые, наполненные голодной тоской и злобой глаза, горбоклювые, с подвыпущенными сухими, узловатыми окогченными ногами пыльно–коричневые орлы – разбойники приазовских степей.
Вот тут, среди зарослей зостсры, в лиманах и маленьких заливчиках, в кутах бухт, мы и бродим с Данилычем. Мы уже изрядно пропахли водорослями, рыбой, донной фауной, которую я сверх, так сказать, плана неустанно препарирую, – словом, теми непередаваемыми запахами моря, которые неотступны, как запахи осеннего сада или горячего ржаного хлеба.
Обеды и ужины мы собираем на вольном воздухе. Нас кормит Азовское море. Данилыч взял из дому котелок, две алюминиевые тарелки, ложки, банку с солью, лук, чеснок, стручковый перец, лавровый лист, бутылочку постного масла, картошку, помидоры и каждый день, как он говорит, «запузыривает» такую юшку, что, когда мы садимся есть, у нас «аж за ушами» пищит».
Рыбу для «стола», пока я занимался записью наблюдений, он ловил сам либо брал у местных рыбаков. Он садился в моторку и «подскакивал» к рыбозаводу. Но разживиться чем–то особенным ему не удавалось: шла путина на бычка.
Правда, нам много и не нужно – десяток рыбин на целый день. Данилыч всегда их добывал и делал уху «на миллион».
Уха действительно была вкусна, хорошо наперчена, но ей не хватало мерной, мясистой рыбы, которая дала бы не только сок, но и крупный «развал» белого мяса. Для ухи прежде здесь, на Азовье, обычно шел среднего размера судак, с его отличным белым мясом. Этот судак зовется по–местному «бокивня». Энергичная, смышленая рыбина длиной до полуметра, с мясом нежным и сладким. Вот бокивни–то и не было сейчас, – шел лишь один бычок – головастый, цвета грязного песка, дурачок истый. Мясо его нежно и хорошо для консервирования, рыбных котлет и для жарки, а в ухе он – вата.
Попадались судачки, но очень маленькие. Рыбаки называют их «секрет», а чуть побольше судачок – «чопик». Но это все равно что зеленые яблоки.
Селява (шемая), чулара (кефаль) и «гостронос» – превосходнейшие для ухи рыбешки – попадались нам редко.
И все равно Данилыч делал юшку «на миллион»!
Выражение «на миллион» было на языке Данилыча высшей аттестацией всему хорошему и плохому – и людям и предметам. «На миллион» шли и красный, сочный арбуз, и саженный осетр, и отлично бьющее ружье, и шлюпка. «На миллион» светило солнце, «зыбало» море и стлался туман. «На миллион» была и сеголетка тюльки – рыбка с ноготок.
«Ай да рыбка, – говорил Данилыч, – жуй–плюй на миллион!»
«На миллион» была и красивая женщина. Если он говорил: «Надя – баба на миллион!», то это была действительно редкая женщина, за нее, как говорится, можно было и в огонь и в воду. Это была уже идеальная женщина во всех своих статях.
Про людей, которых он не любил, иронически говорил: «Эх, герой Метута, один в Таганроге, другой тута!»
Это адресовалось в первую очередь все тому же Скибе, затем работникам тех учреждений, в деятельности которых были заметны непростительные изъяны, отрицательно сказывавшиеся на жизненном уровне населения Ветрянска и Слободки. А если же где обнаруживалось мошенничество и преступление по должности, Данилыч страшно ругался, не стесняясь в выражениях: тут были и «идиеты» и «профосты» «на миллион».
Когда Данилыч начинал рассказывать о тех или иных недостатках, он быстро «закипал» и, с трудом сдерживая себя, говорил: «Это надо пресекти!»
А когда остывал немного, спрашивал: «Ну, шо вы скажете?»
Что я мог сказать? Нужно знать экономические и организационные связи, существующие между различными сторонами практической деятельности учреждений, которым поручено соблюдать интересы и обслуживать потребности советских людей, чтобы отвечать на многочисленные вопросы Данилыча. Я, конечно, их не знал. Среди вопросов Данилыча были крупные и некрупные, важные и неважные. По некоторым из них, по–видимому, нужно решение правительства, другие могли быть улажены на месте. А Данилыч налетал на меня со своими вопросами, как ураганный северо–восточный ветер. Да, это не человек, а действительно ураганный ветер – трамонтана! Его волнует все: и почему до сих пор нет дороги на косу, из–за этого люди там плохо живут? Почему на рыбозаводе есть свет, а рядом, в рыбачьей станичке, нет? Почему гортоп не дает угля и жители Слободки вынуждены по спекулятивным ценам нанимать машины и гонять их в Донбасс и там «хитро», слева, покупать уголь? Шо, угля нет? Иль его нельзя подвезти водой, скажем, из Ростова либо железной дорогой?
Почему директор курорта, «этот профост», истратил сто тысяч рублей, отпущенных на ремонт курорта, на танцплощадку и на паршивые гипсовые, выкрашенные серебрянкой скульптуры, а спальные корпуса, разбитые немцами, не восстанавливает? Больные ютятся в тесноте. А курорт тут «на миллион»! Больных с поезда на носилках несут, а через три недели они бегают, как молодые. Писали министру, приезжали комиссии, ну и шо? Та ничого: сто тысяч на фигурки, на танцплощадку для ревматиков. Тьфу! «Герой Метута, один в Таганроге, другой тута». – Данилыч выразительным жестом показывал на голову.
Монологи Данилыча иногда длились до тех пор, пока я не засыпал, но и тогда сквозь сон я смутно слышал: «Лексаныч, ты спишь?»
31
Уже несколько дней после того, как отсвистел свой срок «тримунтан», стоит тихая, ясная погода.
Особенно хорошо на море по утрам.
Вода в лиманах и в кутах бухты лоснится, как дорогой тяжелый шелк. Море, еще сонное, чуть–чуть дымясь розоватым туманом, лениво всплескивается и словно бы потягивается. От воды исходит тонкий аромат, в нем чувствуется что–то знакомое и с трудом угадываемое. Тут и запах йода, и морской соли, и степного ветра. Наша лодка словно на мертвых якорях стоит. Ее отражение в воде настолько ярко и четко, что, когда лежишь на песке, трудно отгадать, какая лодка настоящая: та, что на воде, или ее отражение?
На косе ни души. Мы одни с Данилычем. Перед нами теплое, еще сонное море, а влево и вправо тянутся бесконечные золотистые пески. Если не знать, что за спиной примерно в четырех километрах Слободка, а за нею город, железная дорога, заводы, порт, то можно подумать, что находишься на одном из необитаемых островов Океании.
Тишина такая, что слышно, как пересыпается песок под цепкими лапками испуганной ящерицы. Горизонт играет красными сполохами. Скоро покажется солнце. Хорошо!
Но Данилыч как будто не разделяет моего восторга: подложив под себя костыли, он сидит, выкинув вперед ногу и мурлыча под нос какую–то унылую, незнакомую мне песню, медленно помешивает в котелке. Тянет чуть–чуть горьковатым запахом пшена. Я думаю: «Опять, наверное, мой спутник пожалел пресную воду и плохо промыл пшено». Я вижу его широкую спину и кофейного цвета шею. Человек он еще не старый и, я бы сказал, далеко не старый, но морщин у него на шее уймища! Действительно, жизнь, как он любит говорить, «здорово его обхандакала».
Когда Данилыч подкладывает в костер сухое будылье, он чуть сгибается, и его сильные лопатки играют под выцветшей гимнастеркой, словно говорят: «Данилыч хотя и не молод, а все еще силен – на миллион».
Я сбрасываю с себя влажное одеяло и встаю, предчувствуя, что Данилыч вот–вот обернется и скажет: «Вставай, Лексаныч, скоро подъем флага!»
Он слышит, как я встаю, оборачивается:
– Ага, встал? Ну давай, брат, полный вперед!
Босым ногам холодно на песке, остывшем за ночь. Всюду обильная роса, даже волосы у меня волглые.
Я делаю несколько гимнастических упражнений, затем бросаюсь в воду, словно в зеркало, разбиваю ее полированную поверхность и ныряю. Когда я выхожу из воды, то чувствую, что тело горит все и от него пахнет морем. На холодном песке, под ногами, у самой воды подпрыгивают тысячи крошечных ракообразных существ. Это понтагаммарис. Они щекочут ноги, подпрыгивают, как акробаты, и затем быстро зарываются в песок. Понтагаммарис – небольшое ракообразное существо, представляющее частицу животного мира Азовского моря. Несмотря на свое замысловатое название и древнейшее происхождение, с удовольствием пожирается рыбами.
Я говорю об этом, конечно, к слову, и притом крайне примитивно, да простят мне ученые коллеги! Но что делать? Я еще молод, и во мне борются два человека: один стремится стать ученым и неотступно думает об овладении высотами науки, другой же хочет купаться, играть в волейбол, прыгать через горящий костер, греться на солнце, ловить рыбу и просто кататься на лодке. Этот другой помогает мне не стать русским Паганелем – добродушным ученым чудаком, путающим жука с изюминой.
Может быть, поэтому я не говорю Данилычу по выходе из моря, что в воде много органических веществ, как растворенных, так и в виде детрита, что море сильно пахнет питательными солями (фосфатами и нитратами), нет! Я говорю ему, что вода хотя и мутноватая, но чудесная. Для Данилыча море пахло обыкновенно.
Он знал его с детских лет и никогда не интересовался, как оно пахнет, его волновало другое: есть в нем риба чи нет?
– А чо его нюхать? – сказал он в ответ на мои восторженные слова. – Чи воно духи или вино? Море як море! Пахнет немного рибой, ну там соленой водой и травой. А вот у рыбозавода пахнет дохлым бичком. Да так, шо нос зажмешь, а воно через уши шибает… Бичка там четвертого дня вылили (выбросили из сетей) на миллион! Шо делают, головотяпы! Завод не справляется с приемкой, так воны рибу в море списывают! А? Это шо? Так партия хочет или, быть может, правительство так хочет? Или, быть может, мы с вами, тоись народ, так хочет?.. Народ хочет зъисть того бичка. Так? Так. Почему же его выливают в море? Шо, нельзя было того бичка продать на базаре? Оказывается, нельзя! Заборонено! Но сгубить бичка и составить акт – не заборонено. По акту, оказывается, все можно. Выходит, акт – охранная грамота для головотяпов. Вот Скиба любит теи акты страсть как! Бильше, чем жинку свою. Ему лишь бы бумага. Она для него сильнее самого высшего на свете – разума!..
Вот тут, Лексаныч, не понимаю я министра… Я думаю, он человек уважаемый: какого–нибудь там вроде нашего Скибы не поставят? Не поставят. Почему же министру не обратиться до правительства и не сказать: мол, так и так, рыбаки стараются, соревнуются между собой, шоб бильше було рибы, а рыбозаводы не управляются… Нельзя ли, мол, построить новые заводы со льдом, ну, какие надо, а лишек рибы – на базар. Проданное тоже под акт, только умно так: мол, завод не мог принять; вызбижание порчи продукции или просто бичка – а когда сула, так сулу помянуть или там чебака – принято решение продать на базаре по сложившейся цене. Бояться тут нечего: базар цену скажет. А кто сейчас на базаре рибой торгует? Моя Машка да ее подружки… У рыбаков под пьяну лавочку задарма скупают свежую рибу, вялят ее или коптят – и на базар. Правильно я говорю?
– Правильно.
– Ну, – сказал он, заметно приободрившись, – ежели и вы, человек ученый, говорите «правильно», так почему же нельзя это пресекти? Наши рыбаки были на Севере и на Дальнем Востоке, и там, как у нас. Интересно, шо вы, ученые, себе там думаете? Видели вы, шо делается в степу? После сентябрьского Плену;´ма (Данилыч произносил слово «пленум» с ударением на букве «у») люди песни спивают. Зимой был хлопец с Казахстана… Машиниста нашего, с дороги, Скворченки сын. Добровольцем туда, на целину, уехал. Да их много, комсомольцев, поихало на новые земли в Казахстан, на Алтай, в Сибирь. Дела там!.. Хлеба такие, шо в десять лет ни зъисть! Здорово, а?! А шо, Лексаныч, резюме того Плену;´ма до рибы не касается? Если б меня спросили: «Скажи, Данилыч, как ты думаешь, решения сентябрьского Пленума могут быть полезными для рыбного дела?..» – я бы сказал так: «Прямо, по всем пунктам то решение к морю не приложишь… Да, не приложишь. Но душа того решения для всего нашего дела общая». Понимаешь, Лексаныч, душа!
Данилыч выразительно качнул головой, перевел дух, затем свернул цигарку и, прилаживая ее для раскурки, заключил:
– А вот кое–кто не понимает этого… Ну давай, Лексаныч, снидать! Пока ты спал, я ось какую добыл бокивню!
Он, как истый рыбак, хвастливо развел руки на длину матерого осетра. Пыхнув папироской, Данилыч снял с треноги котелок, пахнувший пригоревшей кашей, и, щурясь от огня и дымка, быстро поставил его на песок. Затем взял сковородку с белыми, чисто вымытыми кусками хорошо выпотрошенного судака и поставил ее на кирпичи, между которыми жарко дышала зола. Подбросив суховины, он отвалился, сторонясь пламени, а на сковороде затрещало, заскворчало, и в нос ударил аппетитный запах жарящейся рыбной свежатины.
32
Прошло уже больше недели с того времени, когда мы покинули Слободку. Где только не носило нас в эти дни! Ориентируясь по карте капитана Белова, мы побывали у Обиточной, излазили Бердянскую, затем Таласскую косы, а после этого перешли к Белосарайской.
Наиболее интересными оказались Обиточная, Бердянская и Таласская. В прибрежных водах этих кос огромные луга, поросшие морскими цветковыми растениями. Больше всего тут матрасной и диванной травы – зостеры. На Азовском море ее добывается около пяти тысяч тонн, в сухом виде. Добыча ведется крайне примитивными способами. Здесь не увидишь косцов с острыми как бритва косами–литовками, в мокрых от пота рубахах. Нет тут и женщин, которые «с граблями рядами ходят, сено шевеля». Отсутствует на промысле «диванного» сырья и техника… Морское сено косят силы моря: прибойная волна да ветер. Человек лишь подбирает за ними, расстилает для просушки на жарком солнце, копнит, затем грузит в транспортные машины.
Отмели Таласской косы тянутся на многие километры. На ее светлых песках вместе с солнцем появляются пожилые босоногие мужчины с выжаренными до черноты южным солнцем лицами; седоусые, оморщиненные, они бродят по берегу с вилами или граблями. У колхоза «Красный рыбак» – две камковые бригады. Это в прошлом люди боевые: в штормы, в стужу они бороздили море, сыпали сетки, опускали ставники, били темляками белугу, брали оханами красную рыбу, а кое–кто из них метал сандоль в дельфина–пыхтуна около Обиточной косы. Ревматизмы и радикулиты выжили их с моря. Теперь горячий песок да шуршащее морское сено – их стихия. На отмелях я взял несколько проб на лабиринтулу. Последующие анализы покажут, удалось ли этому опасному паразиту проникнуть в Азовское море. Внешний вид травы под водой и на выбросах пока не дает оснований к беспокойству. Я осмотрел и корневища зостеры, которые лабиринтула поражает так же, как и лист.
Работа эта не захватила меня. Зато жизнь в лиманах оказалась потрясающе интересной.
На всех трех косах, Обиточной, Бердянской и Таласской, имеются большие, постоянные, и небольшие, временные, лиманы. Постоянные существуют уже много–много лет, когда–то они были частью моря, затем в результате различных процессов «отшнуровались», то есть отделились от моря, и стали существовать самостоятельно со своим круговоротом жизни. А временные образуются в дни весеннего повышения уровня моря, кстати совпадающего с нерестом рыб. Азовское, как и Черное – безливные моря, то есть они не знают ни приливов, ни отливов. Но во время поднятия уровня воды (либо за счет паводковых вод, либо в результате нагонных ветров) в низинах или промоинах образуются временные лиманы. С наступлением лета и устойчивой тихой погоды и они «отшнуровываются» небольшими пересыпями, и, если нет сильных штормов, которые бы забрасывали туда воду, они осолоняются и обычно пересыхают. С испарением воды в них погибают миллионы живых существ.
На этих лиманах мне советовал побывать капитан Белов. Я воспользовался его советом, и у одного из них на Таласской косе мы прожили три дня. Лиман кишел мальками и различными червями, веслоногими ракообразными, крохотными моллюсками – митилястерой и синдесмией. Мне даже удалось добыть крохотного крабика – брахинотуса.
Лиман медленно умирал. Это было видно по белым кругам солевых отложений на берегах, показывавшим его прежний уровень. Я решил «расшнуровать» лиман, то есть соединить его с морем.
Работа была очень тяжелой и одно время казалась бессмысленной: прокопать канал длиной около двенадцати метров и глубиной не меньше метра – занятие не легкое.
Данилыч прыгал вокруг меня, жалел, что сам не может копать, злился, глядя на мою работу, несколько раз требовал у меня лопату, ставил ее как–то по–своему и говорил:
– Вот как, Лексаныч, надо: чтобы не лопата вами, а вы ею командовали.
Советы его сослужили свою службу: я не скажу, что легко, но все же прорыл траншею; морская вода хлынула в лиман, все замутилось, завертелось.
Не мешкая, я взял несколько проб воды и планктона. Затем уселся с водоскопом (обыкновенной банкой со стеклянным дном) у самого начала траншеи не со стороны моря, а со стороны лимана и терпеливо наблюдал. Сначала плыла просто муть, ну самая что ни на есть мутная вода, – так сказал бы человек, не знающий моря, и, если бы я ему объявил, что это не муть, а золото плывет, он, пожалуй, поглядев на меня, многозначительно постучал бы себя по лбу….. Но что бы ни подумали обо мне в этот момент, а я подпрыгнул от радости: по вырытому мною канальчику плыло настоящее золото – фитопланктон – одно из первых звеньев пищевой цепи моря. Чем мутнее вода в море, тем больше в ней так называемых «взвешенных частиц», то есть питательных веществ. В иные годы Азовское море выглядит как миска с зелеными щами: так много в нем микроскопических водорослей, таких, как диатомии и перединии. Это растения–малютки – простым глазом их и не отличишь друг от друга. В их компании крутится множество различных мелких рачков, медуз, червей и таких одноклеточных животных, как глобигерины и радиолярии. Им несть числа. Они носятся по морю «без руля и без ветрил», пока не попадут «на зубы» рыбам.
Итак, с моря в лиман шла пища. Следом за ней (в водоскоп это хорошо было видно) прошмыгнули рыбки – хамса, тарань и даже бойко проследовало несколько «секретиков» – мелких судачков. Что их влекло? Любопытство? Или извечный закон миграции – самый верный побудитель движения морских обитателей?
Примерно часа через три, когда, почувствовав усталость, я хотел было пойти в шлюпку отдохнуть, я вдруг увидел изумившую меня картину: из лимана в море ринулись полчища сеголеток. Выросшие в маленьком водоеме лимана, они пустились в отважный путь на просторы великой стихии. Храбрецы!
В лимане им, кроме солнца, ничто не угрожало, а тут плыви да оглядывайся! Судаки смирны на столе, а в море это тигры!
Что ж, какая–то часть мальков и сеголеток погибнет. А те, что избегнут острых зубов, отгуляют свою буйную молодость и станут большими, гибкими, сильными рыбами. Это будет. Как было и при греках, когда Азовское море называлось Меотийским болотом: сильные рыбы истребляли слабых и до изобретения чернил, и до того, как каменотесы Древнего Египта начали вырубать первые камни для первых пирамид. Не это в данный момент занимало мой ум.
Разогнув ноющую спину, я шел к шлюпке, возле которой Данилыч «собирал сниданок», то есть завтрак, и думал: вот где «собака зарыта».
По сути дела, за чудесным Азовским морем, сколько я мог судить по тому, что видел, никто не следит. А ведь море, как и сад, как хорошая молочная ферма или там завод орловских скакунов, нуждается во внимательном и заботливом уходе. Особенно такое море, как Азовское. Сколько тут еще предвидится благородной работы! Когда я за завтраком рассказал Данилычу, какую уйму мы с ним спасли рыб тем, что «расшнуровали» лиман, он весь загорелся, вздернул густые брови, энергично провел по медным усам и спросил:
– А ты, Лексаныч, не был в Таганрогском заливе и на той, на кубанской стороне?
Я сказал, что не был.
– У-у! – воскликнул он. – Да знаешь ли ты, сколько там лиманов и гирл?! Тыща! Ну не тыща – я их, признаться, не считал, но скажу тебе: туча. А мальков и сеголеток этих видимо–невидимо! Пойдем на ту сторону, а? Давно я там не бывал, а страсть как хочется. Все тебе буду делать… Решай, Лексаныч! Для твоей науки это прямо клад там! А ты не бойся, не пропадем!.. Продовольствия наберем недели на две – много ли нам с тобой надо: пшенца, луку, соли, перцу, – а остальное море даст. Море, оно сколько людей кормит!.. Ты не раздумывай, Лексаныч, в пустыне человек может с голоду околеть, а в море не было случая: ракушками и то можно жить. Как говорится, в поле и жук – мясо!
Когда Данилыч загорится каким–нибудь делом или идеей, он весь преображается. Убеждая меня, он быстро собрал все инструменты в лодку и, хотя я и не сказал еще ничего в ответ на его предложение, готов был отчаливать.
– Пойдем, а? – повторил он. – Какие места тебе покажу!.. Если захочешь, в Гривенской побываем… И мне там очень нужно побывать – на могилку к тетке Наталке сходить, а то бис его знает, когда я туда попаду!
Я задумался.
– Да ты, Лексаныч, не бойся, дойдем в лучшем виде! Я столько рибы переловил, шо мог бы всю Слободку неделю кормить юшкой. А ты, я вижу, в сомнение вошел. Может, думаешь, знаю ли я море? Знаю. Спроси кого хочешь – ну хоть Мыколу, он тебе не соврет. Да ты не думай… Не только знаю я море–то, а несколько раз хотел бросать его. Один раз, когда «восток», ну, «левант» по–нашему, дул, а другой раз, когда «тримунтан» настиг… И недалеко тут было–то это… Может быть, мили три от Слободки я отошел. Сетки у меня там стояли. Черт, што ли, дернул меня, не знаю, а только раньше сетки ставил «бережней», а тут пошел и высыпал глыбоко.
И ведь как было–то? В море в тот год все лето болталась «грязнуха» – землечерпалка, фарватер чистила. А в то утро, когда я садился в подчалок, гляжу, «грязнуха» снялась с якорей и почапала в порт. Ну, мне было ни к чему подумать, чего это она ни с того ни с сего в порт топает. Доси не могу простить себе, что я море тогда вниманием обошел,
– Как же так?
33
– А так! – сказал он после того, как сделал паузу, чтобы закурить. – Море в тот день было ровно как старое серебро, смутное какое–то и будто блестит и нет. И ветер какой–то дурной: знаешь, дует в одно место, а трава перед ним ложится во все стороны, словно не дует он, а ходит по ней. И солнце хотя и светит, а только тусклое, похожее на лампу с нечищеным стеклом. И знойно так, парит, аж дышать нечем. Кажется, море вот–вот закипит.
Сел я в подчалок и пошел сетки искать. Мы хотя сетки–то ставим по олиентиру, ну, там по трубе или по коньку крыши, а все же без буйков: ходишь эдак зигзагом, якорек–кошку за борт спустишь и делаешь «вверх–вниз».
Только я вышел на место, где, мне казалось, надо искать сетки, ветер ка–ак треханет, будто за грудки взял меня да и тянет к Исусу… Тут сердце у меня и подупало. Поглядел кругом: все суда, какие были в море, словно тараканы, – к берегу вдарились во все тяжкие. Только от этой картины я догадался, почему «грязнуха» в порт махнула – на ней, конечно, баромет был. Не успел я повернуть лодку, как волна взялась такая… И черт ее знает, откуда она взялась! Куда ни гляну, стена!.. И если бы я первый раз был в море, ей–богу, сказал бы, шо чертей видал… Да! Тут не до смеха было, Лексаныч, когда волны кидают твою шлюпку, как мячик, да еще возьмут, словно руками, да потрясут, как бы проверяют, боисся ты или нет. А перед глазами глыбы лохматые орут и все с гиком да со свистом хотят накрыть тебя и в требуху разделать. Жутко было… На грех стемнело не по времени, тучи откуда–то навалились. Над морем, как поземка, метет и метет. А ветер разошелся – удержу нет – и все орет, будто грозится: «Убью–у–у-у! Убью–у–у-у!» Что тебе сказать, Лексаныч, простился я тогда с морем.
– Как же так?
– А очень даже просто… Вижу, что лодкой–то не я, а «тримунтан» управляет, бросил весла и говорю: «Ну, делай со мной что хочешь! Хочешь – бери, хочешь – отпусти, но живой останусь – больше моей ноги не будет на море». И лег на слани – будь шо будет. А у самого–то руки в кровище, тело, как мороженая белуга, не сгибается…
– Как же вы спаслись?
– Море само спасло…
– Не понимаю.
– Выбросило меня… на косе, против маяка. Не–ет, из шлюпки меня выкинуло, наверно, не сразу; я думаю, боролся до потери сил и сознания: не в моем характере, чуть чего, и «руки вверх!». Не–ет, Лексаныч! Почему же я тогда весла бросил? Ну, это может быть с каждым, когда отчаянность наступает и человек на миг равновесие теряет, как в верховой езде. Конечно, есть которые сразу всё теряют… Но и не из таких. Шо? Лодка? Потонула… А черт ее знает где! Песком, наверное, затянуло. В нашем море шо в песок попадет – морево имущество. Меня смотритель подобрал. Оттер спиртом. У него этого добра было много: казна для шпирт–бакенов давала. Когда я отошел, рассказал ему, как было, конечно, что помнил. Он послушал меня, покачал головой и сразу ничего не сказал, повернулся и пошел в сарайчик – у него там для угля и дров есть такое помещение. Выносит оттуда костыли и спрашивает: «Твои, герой?» – «Мои, говорю». – «На, получай».
Легко мне стало с костылями.
«Где же, – спрашиваю, – добыл их?»
«А тут, – говорит, – Посимдон принес». Я‑то сначала не понял, кто энтот Посимдон–то. Смотритель жил один. Ну, он мне и рассказал, шо Посимдон–то – бог морской; посмеялись мы вволю. Отдохнул я быстро. Понравилось на маяке и уходить не хотелось. «Тримунтан» к тому времени кончился, и смотритель говорит: «Давай тебя отправлю на шлюпке прямо в Слободку – по песку–то путь долгой». Я отказался. «Больше, – говорю, – в море ни ногой». – «Отчего?» – спрашивает он. «Зарок сделал во время «тримунтана».
А он, смотритель–то, мне вопрос: «Сколько, – говорит, – раз тонул?» – «Один. А это, – говорю, – второй…»
Смотритель посмотрел–посмотрел на меня и говорит:
«И-и, милай (он старенький был, той смотритель–то), все, – говорит, – мы зарок давали. А от моря, – говорит, – никуда не денешься… Нет. Это уже навсегда, такой закон жизни!.. Служить, – говорит, – нам морю до «деревянного бушлата». Каждый, – говорит, – настоящий моряк к морю якорь–цепью намертво пристебан. Будешь, – говорит, – и ты ходить по морю до «третьего случая». В третьем случае, – говорит, – либо море тебя совсем возьмет, либо помрешь на берегу, как старый грыб, – немощь тебя задавит. Ну, не задавит, а загасит в тебе жизнь. Но помирать будешь в этом случае в большой тоске по морю и будешь просить, шоб тебя к морю вынесли. А тебя могут и не вынести, и умрешь ты с вечной тоской по морю…» Ну, я с ним не согласился, то есть с его мыслью: больно она старая какая–то, не по нашему времю, – не согласился и с его предложением на лодке идти в Слободку.
Попрощался со смотрителем, встал на костыли и пошел до рыбозавода. Шел эдак, сначала весело, даже песенки водил, а потом уставать стал… Хорошо, что у рыбозавода случилась лошадь! На ней я доехал до Слободки. Тогда же установилась теплая погода, и тело мое согрелось, отдохнуло, и я словно забыл, что было со мною.
– А был ли «третий случай»?
– Нет… Намечался, но я его отвел. Может, не настоящий, черт его знает! Да он, смотритель–то, не говорил, как скоро такой случай будет. Но говорил, что беспременно будет. Ну что ж, будет так будет. А пока видишь, хожу. Ничего. А смотритель в войну потонул. На лодке плыл, бомба недалеко упала, перевернула его; он старенький был и, видно, не выбрался, захлебнулся, как мышонок, и ушел на дно. Между прочим, и со мной тогда чуть и не случился энтот самый «третий случай». Да вот видишь… Так как же, Лексаныч, пойдем на кубанску–то сторону? Не бойся, я теперь с тобой на «третий случай» не попру. А?
– Ладно, – сказал я, – пойдем.
Данилыч от радости чуть не опрокинул лодку.
– А я думал, – сказал он, – мы на этих косах тут и присохнем… Теперь давай, Лексаныч, сходим в Слободку: белье сменим, бакалеи наберем и того–сего. А тебе, наверно, на почту сходить надо?
Я понял, что Данилыча меньше всего интересовала бакалея: этого добра и на кубанской стороне, в рыбацких селениях сколько угодно. Его интересовало больше всего «того–сего». Конечно, это злополучное «того–сего» тоже есть и на Кубани, но ему–то оно, как видно, «до зарезу» требовалось сейчас! Я согласился не потому, что решился уступить Данилычу, а потому, что мне нужно было побывать на почте: десять дней без газет, без радио – это, конечно, не трагедия, но все же и не развлечение. Хотелось мне, не скрою, увидеть и Галинку.