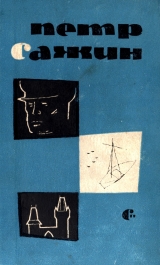
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
Я был знаком с Наташей с детства. Родители наши дружили домами; меня и Наташу называли в те времена женихом и невестой. И вот, когда мы подросли, я встретился с этим чистоплюем, и тут черт меня дернул познакомить его с Наташей.
Ей он не понравился, зато ее родители были просто в восторге от него. Они уже не говорили, что я жених, а она невеста, а все чаще стали твердить, что я для Наташи не пара. Отец мой был шкипером, то есть человеком небогатым. То ли дело главный бухгалтер солидного торгового дома! Вы знаете бывший магазин «Хорста и Ангальта» на Камчатской?.. Там, где был Торгсин? Ах, да! Вы же совсем не знаете Приморска! Ну, да ладно, не в том дело. Наташу выдали за этого хлыща.
На свадьбе, когда все много выпили, Наташа увлекла меня в другую комнату, взяла за руки и зашептала:
– Не сердись и не страдай, Степан; ты видишь, я не сама иду на это… Все равно я с ним жить не буду. Ты умеешь ждать?
Я молчу, а она дрожит вся и говорит:
– Степа, милый! Хочешь, я уйду сейчас с тобой?
Мне бы сказать ей… Да что там сказать! Взять бы за руку – и айда! А я, дурак, отстранил ее от себя и говорю:
– Нет, Наташа! Поздно!.. Об этом нужно было раньше думать. Иди туда, иди…
Она отступила от меня на шаг и спросила:
– Значит, ты не любишь меня, Степан?
– Нет, зачем же?.. Люблю.
– А ты будешь ждать меня?
– Хорошо, – сказал я, – попробую.
– Смотри же, жди! – сказала она. Поцеловала и убежала.
В тот же год я нанялся на пароход и отправился в кругосветное плавание, а они уехали в Ленинград.
Стороной я узнал, что Наташа поступила в медицинский институт, а он стал писать стихи. Прошло лет десять. Однажды, возвратись из дальнего плавания, я нашел дома толстый конверт. И сразу же узнал Наташин почерк. Письмо было горькое. Да что там – не письмо, а крик женщины, одинокой как шлюпка в океане! Понимаете, хлюст ее после неудач со стихами брался за все, что, казалось, даст ему славу и деньги, но, ничего не добившись, спился.
Жили они в тесной каморке на окраине Ленинграда, где–то на Охте.
Я ответил ей. Она мне! И завязалась у нас переписка. Она не скрывала радости от того, что я еще не женат. В одном из писем она писала, что все идет к разводу и, стало быть, к скорому выезду ее из Ленинграда. Но вдруг письма прекратились. Я подумал, что у нее все наладилось, вот она и не пишет. И в самом деле, отчего ой могло быть плохо? Кончила медицинский институт, стала независимой и, быть может, встретила кого, полюбила… В общем, я перестал о ней думать. А тут еще дома несчастье за несчастьем: в один месяц умерли сначала мать, потом отец. Остался я один как перст. Я попросил в пароходстве послать меня куда–нибудь подальше в плавание. Тут–то и пришла мысль отправить меня в Севастополь за «Сучаном». За день до моего отъезда от Наташи пришло сразу несколько писем и затем телеграмма. Оказалось, она участвовала в какой–то эпидемиологической экспедиции, заболела и почти год пролежала в больнице. Муж ее окончательно спился, бросил ее. Она писала, что выезжает в Приморск. Я тотчас же отправил телеграмму, что отбываю на долгий срок.
Из Севастополя после женитьбы на Ларисе я написал Наташе обо всем как есть. Терпеть не могу обмана или игры. Я считаю, когда дело идет о любви или разводе, люди, как и корабли, должны разойтись с отличительными огнями, с гудками, чтобы не задеть друг друга. Когда человек счастлив и понимает, что своим счастьем он другому приносит несчастье, то об этом уж лучше прямо сказать, чтобы обрубить концы. Откровенность в таких случаях дороже, лучше жалости. Я так и сделал. Конечно, мне было жаль Наташу. Но что же было делать?.. А впрочем, знаете, профессор, я тогда был как компас, попавший в магнитное поле. Понимаете, о чем я говорю? За девяносто дней плавания из Севастополя я, конечно, ни разу не вспомнил о ней. Лишь только когда «Сучан» вошел в Даурский залив, а затем в Олений Рог и открылся Приморск, я вспомнил о Наташе. Мне стало так грустно, так тяжело, что я не знал, куда деть себя.
В бухте было светло как днем от огней стоявших на рейде и у причалов кораблей.
Огни раздражали меня. В тот момент мне хотелось, чтобы шел дождь или выл тайфун. Я так взвинтился, что зазря обругал рулевого. Досталось бы, наверное, и помощнику, но в это время рука Ларисы легла мне на плечо. Я круто повернулся и чуть–чуть не выругался, – не заметил, как она подошла. Она улыбнулась мне и запела.
И снова я обо всем забыл. Обнял Ларису и, не обращая внимания на присутствие рулевого, крепко поцеловал.
10
Ночь мы провели на «Сучане», а утром собрали наши пожитки и отправились в мой дом на Тигровую сопку.
В Приморске, если бы я даже и захотел, никогда не мог бы скрыть своей женитьбы. Степку Кирибеева весь город знает. В юности я переплывал Даурский залив у Амбобозы, прыгал с корабельных рей и с рюкзаком за плечами бродил по тайге. Искал женьшень, нырял за трепангами. Пока мы с Ларисой добрались до моего дома, мне пришлось раз двадцать приложить руку к козырьку форменной фуражки.
Домик понравился Ларисе, обстановка – нет. Она прошлась по комнатам и сказала:
– Здесь должны быть ковры, цветы, книги и… хорошенькая хозяйка. Что же у нас есть и чего нет? Хорошенькая хозяйка? – Она лукаво сощурила глаза. – Ну что ж ты молчишь, Степан?
– Есть, – сказал я.
– Книг же слишком мало. Ковры должны прикрыть убогость стен и создать уют и тепло. Что вы скажете, дорогой капитан?
Что я мог сказать? Мне нравилась ее болтовня и та манера, с которой она говорила все это. Я шагнул к ней и, по обыкновению, хотел обнять, но она порхнула от меня в сторону и защебетала:
– Нет, не сейчас! Сначала займемся нашим гнездом. Итак, что же у нас есть? Чахлая библиотека морской династии Кирибеевых, несколько стульев, стол, этажерка, шкаф времен осады Порт—Артура, никаких ковров, никаких цветов. Нет, мой милый капитан! В моем лице вы приобрели смертельного врага вашей трубки, вашего мягкого кресла и вашей меланхолии старого холостяка. Защищайтесь! Объявляю войну паукам, которые свили прочные гнезда в углах, вековой пыли и старому, почтенному хламу. С сего числа я открываю двери для добрых друзей человека: для солнца, для свежего воздуха, для новых книг, для мягких ковров, для неспокойных людей. Только старые совы, филины да медведи прячутся подальше от света.
Я молча с восхищением смотрел па нее. Она насупила брови, сделала сердитое лицо и, засучив рукава, двинулась ко мне.
– А, вы молчите? Значит, соглашаетесь. Тогда полный вперед! Снимайте заглушки с иллюминаторов!
Она тут же начала открывать окна, выносить «лишние вещи», которые стояли в доме годами, поснимала со стен различные отцовы и мои сувениры. Мне показалось очень забавным ее хозяйничанье, а вкус в расстановке мебели оригинальным. Я с увлечением помогал ей.
Мы легли спать в два часа ночи. Я так устал, как будто две вахты отстоял. Хотя от нашего кирибеевского гнезда не осталось и пушинки, но все выглядело замечательно…
Капитан неожиданно замолчал. По его лицу было заметно, что в нем в эту минуту происходит какая–то внутренняя борьба. Мне снова показалось, что Кирибеев сожалел о том, что разоткровенничался со мной. Я испугался, что он прекратит свой рассказ. Меня охватило такое чувство, которое бывает, когда читаешь книгу и вдруг замечаешь, что на самом интересном месте не хватает нескольких страниц.
Но Кирибеев продолжал:
– Через неделю я сдал «Сучан» и пошел капитаном на старенький, крохотный транспортишко «Сахалин». Он стоял на линии Приморск – Хакодате – Кобе.
Это была первая разлука с женой. До женитьбы я не любил подолгу засиживаться на берегу. Я считал, что на берегу могут жить члены всех профсоюзов, кроме профсоюза водников. Массовки, митинги, собрания, каждый день под ногами земля – это не по мне. Я люблю горячее дело: чтобы не только в душе, но и под ногами трепетало. Но на этот раз, профессор, я был прихвачен к берегу двухтоповым узлом: куда ни двинусь, а все на Тигровую сопку оглядываюсь. Теперь я думаю, что моряку не надо жениться. Море ревниво. Оно не терпит, чтобы моряк делил свою привязанность, и строго наказывает тех, кто на море идет как в гости. Есть такая поговорка: «Если ты казак – сиди на коне, а коль моряк – то на корабле».
Простился я с Ларисой. Не скрою, тяжеловато мне было в то утро покидать дом, тем более что у нас стало чертовски уютно.
Возвратись из рейса, я с трудом дождался окончания всех портовых формальностей и почти рысью взбежал на Тигровую сопку, ворвался в дом как ураган и чуть–чуть не задушил Ларису в объятиях.
И так было каждый раз. Я шел вниз медленнее, чем наверх. Я все время думал о ней. Стою на мостике и вдруг перестаю слышать даже всплеск волн, шум корабельной машины; в моем воображении возникает она, да так ясно, будто рядом стоит.
И я думал тогда, что моя жизнь без Ларисы все равно что корабль без машины, так… железная коробка.
Мы условились с ней, что когда я вхожу в порт, то даю сигнал «прошу причал», а она, если это было вечером или ночью, гасит огонь, потом зажигает его снова. И я уж знал: «Ага, меня ждут».
В первые месяцы все шло хорошо. Но кончилось лето, начались тайфуны, дожди, и Лариса вдруг стала жаловаться, что ей скучно, что она не хочет сидеть дома.
И почему, мол, мы все время вдвоем? Я заговорил о ребенке, но она и слышать не хотела. Она сказала, что сначала нам надо самим пожить, а если появится ребенок, мы не сможем так, как теперь, любить друг друга, что ребенок обязательно отнимет чью–нибудь любовь.
А мне очень хотелось иметь ребенка! Знаете, профессор, когда человек проживет полжизни одиноко, как березка при дороге, ему хочется кому–нибудь сказать: «А ведь так жить, братцы, нельзя, надо по–другому». Каждый человек думает, что если бы ему довелось начинать жизнь сначала, то многое он сделал бы не так, как было, а умнее и, может быть, веселее. Вот и мне хотелось иметь человечка, которому я мог бы все эго внушать с пеленок.
Возможно, из этого ничего бы и не вышло. Однако кто не мечтает произвести на свет гения?
Когда я настаивал, она плакала, говорила, что я эгоист, только о себе и думаю. А почему о себе?.. Ну что на свете может быть лучше детей?.. Брак без детей, профессор, не брак, а так… сожительство.
Иногда она не возражала мне: молча выслушает, вздохнет, отойдет в сторону, прищурит один глаз, сделает разнесчастное лицо и скажет:
– Ну?!
Я ничего не понимал, а она этак притворно заплачет:
– Степан! Ну же!
А сама пальчиком показывает на щеку, куда мне, дескать, следует ее поцеловать. А когда я подходил, она бросалась мне на грудь:
– Эх и злючкин ты!
Ну, я ей уступил. Уступил сначала в этом, а потом начал уступать и в другом.
– Вы, наверное, подумали – зачем я это делал? А черт меня знает! – сказал Кирибеев и, словно спохватившись, быстро проговорил: – Хотя нет, почему черт?.. Вот если бы теперь это было, я не сделал бы, а тогда на все был готов. Так и искал, что бы еще сделать для нее! Купил рояль, ковры, привез из Японии разные безделушки, картины на шелку, лак, слоновую кость. Но к вещам она была в общем равнодушна. Ее мучило одиночество. Позвал гостей, чтобы ей не было скучно. Потом мы сами стали ходить в гости. Вскоре завязались знакомства, появились друзья. Среди них оказались люди интересные, серьезные, но и пустельги было немало.
Приморск – город небольшой, но шумный. В те годы всякий народ туда стекался: артисты, художники, музыканты, географы, мореплаватели. Как же, два океана окружают его: с одной стороны – Тихий, с другой – тайга. Киты, тигры, женьшень, удэгейцы – сплошная экзотика. Как–то среди гостей оказались два столичных артиста. Наслушавшись их, Лариса на следующий день помчалась в Приморский театр, но ее не приняли – мест не было. Пыталась устроиться на другую работу – тоже не вышло, тогда была безработица.
Что я мог поделать? Бросить плавать? Или опять взять ее к себе на пароход буфетчицей?
Итак, жизнь наша шла с тревогами и волнениями. И радости в ней становилось все меньше. Лариса делалась раздражительной, иногда вдруг злилась без причины. Однако до ссор не доходило. Но однажды и это пришло.
Было так: наш пароход встал на ремонт, и я, желая скорее ввести его в строй, торчал там целые дни. Приходил поздно. Лариса оставалась одна. Я, конечно, замечал, что она сердится, но не придавал этому значения. Ведь я не гулял!.. Однажды, только я сел к столу, она вдруг сказала:
– Степан, ты думаешь о том, как у нас дальше будет?
Я спросил ее:
– Ты о чем, Лара?
Она покраснела и, задыхаясь, проговорила:
– Ты хочешь, чтобы я всю жизнь сидела дома, как наседка?! Чтобы я была сторожем и кухаркой в твоем доме? Мне надоело все… Мне опротивел этот дом, твои дела. Я молода. Я жить хочу. Понимаешь, жить! Одеваться, бывать на людях, ходить в театры. А ты запер меня в этой гробнице и доволен. Да знаешь, кто ты?..
Тут она потеряла над собой контроль и стала кричать на меня.
Я слушал молча. Я знаю, что в море во время шторма нельзя терять голову. Но и бездействовать тоже нельзя, иначе вода зальет корабль. Она высказала все. Наступила пауза. Она, видимо, ждала моих возражений, чтобы снова наброситься на меня. Ничего не говоря, я подошел к ней, взял за руки, посмотрел в глаза. Она вдруг заплакала, упала на постель и затряслась вся.
– Слушай, Лара, – сказал я, – давай поговорим.
Она вскочила, глаза ее мгновенно стали сухими, злыми.
– С тобой говорить?! Мне не о чем с тобой говорить!.. – И опять упала на постель и захныкала.
Я очень устал и, очевидно, глупо сделал, что не подошел к ней еще раз. Постелил себе на диванчике. Было уже поздно. Город спал. Тишина стояла кругом. Я уснул, но ненадолго. На диванчике мне было неудобно, ноги затекли. Встал, набил трубку, отдернул занавеску и поглядел в окно. Было раннее утро. Корабли сонно покачивались на рейде. Одинокая сампанька пересекала тихую бухту. На кораблях горели уже ненужные огни, которые, вероятно, забыли погасить вахтенные, за что своих я всегда грею. Разглядывая бухту, я заметил у причалов Туркина мыса четыре судна: один огромный транспорт и три совершенно одинаковых по типу, вроде сторожевиков. Я скорее догадался, чем понял, что это были китобойцы «Тайфун», «Гарпун» и «Вихрь» со своей маткой «Аяном», о них много писалось в наших газетах, их ждали в Приморск со дня на день. Но когда же они вошли в порт?.. Очевидно, пока я спал. Вид этих кораблей вызвал у меня необъяснимую тревогу; сердце налилось тяжестью, в ногах появилась слабость. Я закрыл окно и зашагал по комнате. Очевидно, я увлекся, шагал без осторожности и разбудил Ларису.
– Кто там? – донесся ее голос.
– Я.
– Пожалуйста, дай мне попить.
Я принес. Она пригубила, поморщилась и скорчила такую рожицу, что, как я ни был на нее сердит, в тот момент ни в чем бы не отказал. Она была как ребенок, который хочет, но не может проснуться: щечки розовые, губы припухлые, глаза ленивые. Подала мне чашку и говорит:
– Хочу с вареньем.
Когда я принес и она выпила, то спросила меня так, словно между нами ничего не произошло:
– Ты что не ложишься? Ну, иди же сюда, бедный мой Степочка. Замерз совсем.
Она обвила мою шею и скоро уснула.
На железной дороге просвистел первый маневровый паровоз. Пора было вставать – идти на корабль. Я хотел осторожно вытащить руку. Лариса, не открывая глаз, придвинулась и прошептала:
– Не уходи!
Я повиновался.
11
Мы проголодались, но на китобоец идти не хотелось. Я предложил Кирибееву разогреть на костре мясные консервы. Он с удовольствием принял мое предложение. Мы набрали сухого валежника и толстые стебли прошлогодних трав и подбросили в еле тлевший огонек. Я вытащил из рюкзака банку и хотел было открыть ее. Кирибеев остановил меня.
– Не нужно, – сказал он, – я еще ни разу не выходил в рейс без груза. – С этими словами он вытащил из своей сумки жареную утку – трофей вчерашней охоты, банку крабовых консервов, хлеб, соль и бутылку коньяку.
Через пять минут мы, взбодренные коньяком, усердно уничтожали жареную утку. Насытившись, растянулись у костра. Было приятно смотреть, как огонь жадно пожирал сухие сучья. Кирибеев наслаждался трубкой и как будто не спешил продолжать свой рассказ.
Меня все время подмывало спросить его: что же было дальше? Но я боялся испортить дело. Капитан Кирибеев – человек сложного характера. Уже тем, что он доверил мне свою тайну, он как бы поставил меня в зависимость от себя. Не первый раз я спрашивал себя: почему он доверился именно мне? Меня очень беспокоило это. Вдруг наступит момент, когда он ощутит стыд или сожаление, а затем и досаду на себя за откровенность… Вот тогда он будет искать повода избавиться от меня.
Сознавая все это, я чувствовал себя с ним не то что неловко, а как–то несвободно.
Раскуривая трубку, Кирибеев о чем–то напряженно думал. Наконец он постучал трубкой о каблук, поднял на меня серые задумчивые глаза.
– Вы верите в предчувствия, профессор? – неожиданно спросил он.
– Нет.
– Я тоже. Но, – сказал он и сделал небольшую паузу, – но, очевидно, человек так ничтожно мало изучен, что многого еще о себе не знает.
Вот сейчас я чувствую непонятную тревогу от ожидания какого–то события, которое может кончиться дли меня плохо…
Он взял из костра головешку и, прикуривая, продолжал:
– Помните, я вам давеча говорил, как у меня произошел первый разлад с Ларисой? Я провел тогда почти всю ночь без сна… Помните?
Ну вот, когда я встал с дивана, отдернул занавеску и посмотрел в бухту, увидел у Туркина мыса китобойную флотилию, у меня сердце сжалось от предчувствия чего–то дурного. Хотя я и помирился тогда с женой, но тревога не исчезала. Я так и не заснул.
На следующий день утром, простившись с Ларисой, я ушел в море. Весь путь до Японии был в чудесном настроении, так взволнованно и радостно переживал наше примирение, что ног под собой не чувствовал, и мне хотелось одного – поскорее закончить рейс. Обратный путь был трудным. На море разыгралась свежая погода. Волны, взлохмаченные, словно псы, кидались на «Сахалин». Корабль дрожал от затрещин, но держался на удивление здорово. Правда, были минуты, когда я думал, что волны разорвут нас. Пароход весь поседел от соли, когда последняя миля осталась за кормой.
Промокшие до нитки, мы входили в Олений Рог. Но я не чувствовал холода, весь горел от ощущения близкого счастья. А когда наш «старичок», тяжело ворча своими винтами, шлепал по Оленьему Рогу, где вода всегда как кисель, я не мог спокойно стоять на мостике.
Наконец открылся сияющий огнями Приморск. Я дал мощный гудок «прошу причал», а сам – глазами на Тигровую сопку, где стоял мой замок. В окнах горели огни, но Лариса сигнала не подавала.
Пока «Сахалин» описывал дугу в бухте, чтобы подойти к причалу, я не сводил глаз с Тигровой сопки. Лишь на короткое время я оторвался от нее, когда «Сахалин» проходил на расстоянии двух кабельтовых от китобойной флотилии, по–прежнему стоявшей у Туркина мыса. Что–то оборвалось у меня внутри, когда я глядел на флотилию. Но это скоро прошло: меня больше всего в ту минуту беспокоила Лариса. Что за чертовщина! Почему на мой сигнал не последовало условленного ответа? Не иначе, стряслась какая–то беда. Для проверки я еще раз потянул за ручку сигнала. Может быть, Лариса не слыхала?
Помощник посмотрел на меня так, будто ему на ногу якорь бросили.
– Степан Петрович, – сказал он, – мы уже просили один раз причал, он свободен.
Не помню, что я ему ответил, и ответил ли. В тот момент я не мог оторвать глаз от своего дома. Но напрасно я силился что–нибудь увидеть: и на второй сигнал Лариса не ответила. Черт знает что творилось со мной. Как только хватило у меня сил дождаться, пока таможенные и портовые представители выполняли обычные формальности! Когда все было закончено, я передал управление «Сахалином» старпому, забежал в каюту, минуту потратил на размышление, стоит ли брать с собой подарок, что я купил для Ларисы в Японии, – кимоно из тяжелого шелка: при дневном свете оно отливало настоящим индиго, а вечером сверкало, как самый дорогой рубин. Не шелк, а пламя!
Не успел я сойти с корабля, как ноги мои сами дали «полный вперед», и через двадцать минут я уже был у своего дома.
Из окон лился яркий свет. Сквозь занавески мелькали тени. До ушей долетали обрывки фраз, раскатистый смех, звон посуды, стук сдвигаемых стульев.
«По какому поводу гости?» – подумал я. Несколько минут, стараясь отдышаться, я стоял у калитки, прислушиваясь к тому, что делалось в доме. Когда немного успокоился, вошел. В доме было душно. Под потолком плавал табачный дым.
Лариса – раскрасневшаяся, с горящими глазами, веселая, красивая, такой я ее давно уже не видел, – сидела в центре стола ко мне лицом. Рядом с ней – незнакомый мне молодой, чернявый, щеголеватый моряк в новеньком костюме английского покроя. Щурясь от дыма сигаретки, он, смеясь, то и дело наклонялся к ней и что– то рассказывал.
Тут же сидели две женщины – наши соседки по Тигровой сопке. Разомлевшие от вина и духоты, они обмахивались бумажными японскими веерами и о чем–то оживленно говорили.
Два моряка сосредоточенно сосали трубки и потягивали вино. Одного из них я сразу узнал по розовому лицу и белым, как у альбиноса, бровям – таких в Америке называют «белыми неграми». Это был Плужник. Ну да, – продолжал Кирибеев, – он, старый хрыч, морской бродяга! Это он приперся с китобойной флотилией, за которой уходил год тому назад. Плужник был моим товарищем по мореходке. После выпуска плавал, затем, когда вспыхнула гражданская война, подался к Лазо. Был комиссаром одного из партизанских отрядов. Кончилась война, на корабль он не вернулся, а пошел по административной линии – был начальником Дальзверпрома. Потом его назначили на китобойную флотилию, которая строилась в Ленинграде. У него было прозвище «Галапагосские острова». Когда что–нибудь казалось ему необычайным, он говорил: «Вот тебе и Галапагосские острова!»
Плужник был одинок. В юности, как полагается всякому человеку, он женился, но прожил с женой всего лишь год. Она ему изменяла. Однажды, возвратись из рейса и застав дома мужчину, он снял фуражку и спокойно сказал: «Вот тебе и Галапагосские острова!.. До сих пор я считал, что по штатам моего дома мне старшего помощника не полагается… А оказывается…»
Он не договорил, надел фуражку и, не прощаясь с женой, ушел из дома. Так и не женился – жил бобылем…
Я никак не ожидал встретить его у себя. С тех пор как он стал ходить в начальниках, мы не дружили.
Вот тебе, говорю, и «Галапагосские острова»! Зачем это он пожаловал ко мне?
Чернявого моряка я не знал. Был в доме и еще один незнакомый мне мужчина – в модном костюме, с гривой вьющихся волос. Он стоял у рояля и рылся в нотах.
Лариса увидела меня и кинулась навстречу:
– Степан! Дорогой! А у нас гости!
Я незаметно для всех погрозил ей пальцем.
– За что? – спросила она.
– Потом, потом! – сказал я шепотом, передал ей сверток и вошел в столовую.
– Это мой муж, – сказала Лариса.
Дальше все пошло как по писаному: я называл себя, отвешивал поклоны, жал руки. Гости делали то же самое.
Лариса не утерпела, раскрыла сверток – и вся зарделась от восторга. При виде кимоно у женщин глаза разгорелись. Началось ощупывание материала, взвешивание на руках. Потом ахи да охи. Кто–то из женщин предложил Ларисе примерить кимоно. Предложение было принято. Ну, все они юркнули в спальню.
Пока там шла примерка и раздавались восторженные возгласы, я закурил трубку и подсел к Плужнику. Моряки, пришедшие с ним, оказались тоже с китобойной флотилии. Это были Каринцев и штурман Небылицын. Мужчина, стоявший у рояля, был музыкантом, соседка затащила его послушать Ларису и, может быть, помочь ей устроиться на работу. Вот все, что я успел узнать.
Скоро все сели к столу. Я делал вид, что для меня в жизни нет большей радости, чем принимать гостей. Кто–то спросил меня, как прошел рейс, я не успел ответить: Лариса предложила выпить за тех, кто в море. Все встали. Зазвенели бокалы, потом застучали вилки и ножи, и пошло как во всех домах, где на столе водка и обильная еда.
Воспользовавшись тем, что разгоряченные вином гости уже не нуждались в руководстве и особенном внимании хозяина, я стал расспрашивать Плужника о китобойной флотилии. Но нам все время мешали.
Ларису попросили спеть. Пела она очень хорошо. Даже Плужник, который, кажется, в своей жизни ничем не увлекался, и тот хлопал ладонями так, что всех оглушил. Когда она кончила, Каринцев сказал:
– На сцену ей надо, нечего соловья в клетке держать. Преступно.
Тут все загалдели: мол, нельзя губить талант – и так далее в том же духе. А музыкант, который ей аккомпанировал, пожал плечами и сказал:
– Нет слов! Это поразительно! И, главное, без школы. Да, надо учиться.
От его похвал Лариса вся сияла. Он же не спускал с нее глаз и тоже краснел, как мальчишка. Мне не нравилось это. До женитьбы я не предполагал, чтобы взгляд мужчины на мою жену мог заставить меня потерять спокойствие. Я считал ревность дикостью. Да!.. А сейчас я не мог спокойно смотреть на Ларису и музыканта.
Разошлись гости поздно. Только я успел закрыть дверь, как Лариса кинулась ко мне:
– Ты что?.. Почему такой кислый? Почему молчишь?
От нее пахло вином. Этот запах и какая–то противоестественная оживленность не нравились мне, и в этом диком порыве и в поцелуях было что–то фальшивое. Я молчал. Она вдруг расплакалась, но слезы оказались притворными – они быстро высохли, и вместо них разразился настоящий ливень слов. Я удержался и ничего не сказал ей. Я никак не реагировал ни на хлопанье дверями, ни на всхлипывание, ни на угрозы. Пошумев, она наконец умолкла, надулась и ушла в спальню. Вскоре оттуда донесся плач, такой горький и искренний, что мне стоило большого труда удержаться – не войти к ней. Долго я ходил по столовой, затем разделся и лег тут же на диване. Я не мог уснуть. Все думалось: прав ли я?
Подремав часа два, я встал с тяжелой головой. Пора было идти на корабль. Умывшись, я заглянул в спальню. Крепко обняв подушку, Лариса лежала лицом к стене, поджав ноги, ма–аленькая такая… У меня на сердце заскулила жалость, но я не поддался ей; как говорится, решил курса не менять – не вошел в спальню.
Пошарил на кухне – там еды не оказалось. Со стола ничего не хотелось брать. Надвинув фуражку, я шагнул к двери, но тут же вернулся, подошел к спальне и говорю:
– Я ухожу на корабль.
Тихо затворил за собой дверь и минутку постоял. Слышу, она встала с постели и пробежала в гостиную, к окну. Я быстро вышел из калитки. Когда у нас все было ладно, она так же, стоя у окна в халатике, провожала меня, я в ответ махал ей рукой; а теперь сразу затопал вниз, даже не оглянулся.
12
– Человек – существо сложное, профессор, – сказал Кирибеев и вдруг замолчал. У него погасла трубка. Он зачмокал губами и, когда табак разгорелся, пустил толстое колечко дыма и продолжал: – Вот возьмите такой факт. Корабли, курсирующие на короткие дистанциях, моряки называют «трамваями» и обычно не любят их. Я тоже избегал службы на них. Но когда женился, командовать «трамваем» для меня показалось самым подходящим делом. И Лариса была в восторге. Как же, это давало нам возможность часто видеться! Но после того вечера мне нестерпимо захотелось перейти на такую линию, как Приморск – Одесса, чтобы на четыре месяца из дому вон!
Ведь что же у нас получилось? Мы и не поссорились и не разошлись, а как–то оттолкнулись друг от друга. И как я ни крепился, а на сердце – двулапый якорь… Все думаю: как встречусь с ней после рейса? Как в глаза буду смотреть? Что скажу?
Нехорошо было мне. Сейчас все это, вероятно, выглядит смешно, а тогда я мучился, терзался, пока шел на корабль. Но стоило мне ступить на сходню и услышать шепот: «Кэп идет», – все мои волнения как рукой сняты.
Корабль был надраен. Все блестело, даже красную полоску на трубе подновили. Боцман у меня – поискать такого!
Я объявил морские вахты и прошел к себе. Я не знал, что через час мне придется распрощаться с моим «трамваем» и с командой, к которой успел уже привыкнуть,
В салоне меня ждали Плужник и начальник отдела кадров Морфлота, мой дружок по мореходке, тоже капитан дальнего плавания, Костюк. Слыхали, может быть? Нет? Мировой капитан! Он славился здесь раньше. Долго плавал на сторожевиках и здорово с браконьерами управлялся. Американцы и японцы хорошо помнят его! Из–за острого ревматизма списался на берег. Словом, сидят эти хрычи, трубки сосут и, как старые бабы, судачат.
Ну-с, когда я вошел, встали и начали разводить бодягу, как самые опытные сваты. А мы, дескать, к тебе в гости да посмотреть, как ты тут живешь. Одним словом, знали, бродяги, когда прийти, попали под настроение.
Пришлось достать бутылочку. Чокнулись. Плужник прищурился и говорит:
– Выпьем за блаженной памяти капитана Кирибеева…
Я чуть рюмку не выронил.
– Вы что, – говорю, – с ума сошли?!
А Костюк в тон Плужнику:
– Да, хороший был капитан. Так уходят от нас лучшие люди.
Я не выдержал, схватил за плечи Костюка:
– А ну, брось ломать комедию! Говори, зачем пришли?
Костюк залился смехом, а Плужник и глазом не повел.
– В истории, – говорит, – бывали уже такие случаи, когда человек из–за личного счастья переставал служить идее, забывал о народе, и в конечном счете это вело его к гибели.
Я рассвирепел.
– Да говорите же наконец, в чем дело?
Костюк подмигнул Плужнику:
– Разъясни ему, Сергей Александрович.
Плужник покачал головой:
– Эх, Степан, Степан, до чего же ты опустился…
Я встал из–за стола и говорю:
– Вот что, друзья! Вы можете оставаться в салоне и продолжать беседу, а мне некогда, я объявил морские вахты, пора на мостик.
Костюк быстро вскочил и загородил мне дорогу.
– Стоп, Степан! – сказал он. – Садись… Мы тоже к тебе по делу, а не затем, чтобы воздух языками драить.
Я сел.
– Слушай, Степан. Сергей Александрович заходил к тебе домой поговорить по делу, но не удалось…
Я не утерпел:
– К чему ты клонишь, Александр Остапыч?
– К чему клоню?.. А вот к чему: хватит тебе, Степан, воду толочь между Приморском и Хакодате. Ты не старик. Ты молодой, полный сил. Тебе ли каждую неделю дома ночевать? Помнишь мореходку? Помнишь, как мы клялись жизнь отдать на служение родине, пронести ее морской флаг по всем широтам, не успокаиваться до тех пор, пока не будут открыты все фарватеры… Помнишь? Или ты отступил от клятвы?
Мне живо вспомнились те годы, когда после окончания мореходки мы вышли на шверботе в Даурский залив и там, у Амбобозы, принесли торжественную клятву.
Я кивнул. Плужник и Костюк переглянулись.
Плужник сказал:
– Мы другого и не ждали от тебя, Степан.
Костюк наполнил бокалы.
– Выпьем за дружбу, за нашу клятву, за молодость в зрелом возрасте!






