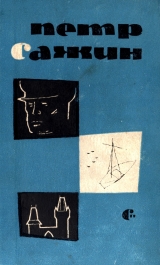
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
– Марошька!
– Морошка здесь!
– Слушай, Марошька! Вот тебе пакэт, сбегай, пожалуста, ики начальнику штаба!
Морошка поворачивался на каблуках одновременно со словами «…шите идти?» и тут же исчезал, как человек–невидимка. Со стуком захлопнувшейся за ним двери ревел мотор «виллиса», и полковник не успевал подойти к окну, как «виллиса» и Морошки уже не было.
Когда Бекмурадов был в хорошем настроении, он любил поговорить с Морошкой. И при этом, хотя и не без известного напряжения, но говорил почти без акцента. Лишь отдельные слова, да само имя Морошки не давалось ему.
– Марошька! – веселым покриком звал он водителя.
Морошка вытягивался перед столом.
– Не нада тянуться, – морщился полковник, – опусти рука «вольно», смотри сюда, на карта. Вот здесь зилейшие наши враги. Так? А здесь мы стаим. Так? Задача: выбить врага из его позиций. Патом гнать, чтобы… Что? Не слышу. Так, правильно, чтобы дать вазможность пэхоте занять эта гасподствующая висота. Так?
Морошка выкрикивал:
– Так точно, товарищ гвардии полковник!
Бекмурадов сердито сдвигал брови, опускал карандаш на карту и говорил:
– Ты, Марошька, сколько мне известно, служишь в Советской Армии, а не у австрийского императора Франца—Иосифа. Зачем же ты играешь роль бравого солдата Швейка? А?
Морошка потуплял глаза.
– Я, – продолжал полковник, – у тебя совета спрашиваю не потому, что не знаю, как быть. Нет! Я у тебя спрашиваю совета потому, что знаю, как быть! Я хочу, чтобы не только я знал, но и каждый танкист понимал свою задачу. Ясно? Ну, посмотри на карта и скажи, как бы ты решил эту задачку.
Иногда Морошка отлично решал «задачку», и полковник, забыв о том, что надо следить за своей речью, невольно восклицал:
– Маладец! Ты мог быть настоящим афисэром! Талантливым афисэром!.. Пагади немного, кончится война – пашлем тебя в афисэрскую школу! Если ты, канэчно, сам захочешь.
Обладавший природным тактом, Морошка помалкивал, потому что ему не хотелось быть военным, его мечтой было вернуться к себе в Ново—Алексеевский район Воронежской области на завод эфирных масел, на старую должность дежурного механика. Завод, как ему писали, уже встал на ноги, а в цехи вернулось много старых рабочих и работниц, в том числе Симка Бубекина.
У Морошки затекла правая рука и ныло под ложечкой, а подполковник и Гаврилов не появлялись.
Он хотел уже выругаться, как в доме Яна Паничека открылась дверь и в ней показались подполковник Скурат, лейтенант Гаврилов, два пожилых чеха и Либуше.
Морошка обо всем забыл! Привалившись к спинке и прищурив глаза так, что осталась лишь щелочка не шире острия ножа, он старался отгадать: едет или остается Гаврилов и с чем уезжает подполковник.
Ни Гаврилов, ни Скурат, ни чехи – никто не обратил внимания на Морошку. И он использовал это благоприятное обстоятельство: по словам, по выражению их лиц он узнал больше того, что они могли бы рассказать сами. Правда, без подробностей, которые больше всего интересуют слушателей. А они, кстати говоря, были очень интересными! Но Морошка не водил бы машину полковника Бекмурадова, если бы был заурядным человеком! Морошка хорошо знал, что новости, подобно яблокам, растут не только на нижних ветках. Самые вкусные качаются на ветру у самой вершины яблони. Были бы терпение и ловкость. А Морошке не надо было занимать ни того, ни другого…
Всю дорогу до Праги ехали молча. «Виллис» несся «с ветерком» – так любил ездить Бекмурадов. На подъезде к Кладно были два опасных момента, но Морошка вышел из них с честью, хотя у Скурата сердце защемило, когда встречные машины прошли так близко, что, казалось, только от трения воздуха с машин сползет краска.
Хитрец Морошка немедленно скинул газ и в ожидании замечания от подполковника держал скорость в шестьдесят километров. Замечания не поступило: подполковник Скурат задремал, а лейтенант Гаврилов мыслями был все еще в Травнице.
Зато лихорадочно работал мозг Морошки: путем различных догадок и сопоставлений свежих наблюдений с уже известными он пытался создать картину того, что произошло в доме Яна Паничека.
Со слов медсестры он знал, что не только Гаврилов «попал в кювет», но и подполковнику Скурату бес вкатил в ребро кое–что, и он глаз не сводил с Либуше. А сама Либуше? Александра Яковлевна уверяла Морошку, что «там подполковнику не отколется».
«Но ведь подполковник – это тебе не лейтенант! – рассуждал Морошка. – И к тому же Скурат – врач. И она врач. А лейтенант Гаврилов, вроде нашего брата, мастер баранки!»
Вот тут и начиналась для Морошки сплошная алгебра. Он хорошо помнил, что, когда в доме Паничеков открылась дверь и на ступенях появились подполковник Скурат, лейтенант Гаврилов, Либуше, ее отец и дядя, – подполковник был более, чем обычно, бледен и как будто чем–то подавлен: плечи у него словно бы подупали. И доктор Паничек с заметным беспокойством поглядывал на дочку. Морошка сразу сообразил, что отцу не по сердцу роман дочери с русским. А Либуше и Гаврилов? У них душа нараспашку. Все это Морошка собрал, как трудолюбивая пчела. Есть о чем рассказать в полку.
Глава шестая
Прага! Злата Прага! Гаврилов столько наслышался о ней еще во время штурма Дрездена. Она была у всех на устах, когда полк Бекмурадова пересекал границу Германии, о ней говорили и во время марша от немецкой границы, когда гвардейские экипажи Бекмурадова, не зная отдыха, не вылезая из перегретых машин, задыхаясь от жары и от тонкой, едучей, всюду проникающей пыли, стремительно продвигались к чехословацкой столице.
А сколько рассказывала о ней Либуше!
Гаврилову Прага представлялась не как реальный современный город. Воображение рисовало ему Прагу, как город древних храмов, узких улочек, толстых замшелых стен цитаделей, затейливых решеток кованого металла; Прагу башен и златоглавых шпилей, величественных памятников и роскошных палаццо, где в садах, за чугунными кружевами оград, вскидываются хрустальные султаны фонтанов, а на лепных карнизах крыш воркуют голуби; Прагу с толстокаменными подошвами улиц… Одна за другой перед ним проходили картины города, созданные неугомонным воображением: старые вывески и эмблемы древних мастеров; застывшие в металле на высоких шпилях башен вещие птицы и золотые кресты на вершинах католических соборов… Такая ли она на самом деле?
С каждым оборотом колес «виллиса» Прага, открывшаяся коттеджами, опушенными маленькими садочками, наплывала на Гаврилова то строгим камнем древности, то металлом и стеклом современности… Она была такая и не такая, старая и новая, величественная и обыкновенная. Прага Градчан, Карлова моста, Малой Страны и Старого Места. Во многих местах гордая красота ее была оскорблена и унижена бессмысленными разрушениями. Но город держался, как раненый олень, – дерзко и величественно.
Гаврилов успевал только поворачиваться да ахать.
Он пришел в себя от голоса Морошки:
– Товарищ гвардии лейтенант, приехали!
Несколько шагов по мрамору ступеней, несколько дверей, и Гаврилов и Скурат очутились в просторном кабинете. Из–за стола навстречу им поднялся полковник Бекмурадов:
– А-а, да–анской казак! Вирвался наконец! Здравствуйте, товарищ подполковник Скурат. Садитесь.
Гаврилов с дороги выглядел усталым.
– Тебе плохо? – озабоченно спросил Бекмурадов.
Гаврилов решительно покачал головой.
– Нет? Тогда давайте поговорим.
Сколько Гаврилов ни пытался заставить себя понять, о чем говорит полковник, ничего не получалось, он не мог уловить его мыслей. Он слышал лишь слова: «Москва», «парад Победы», «санаторий», «поверженные знамена»…
Перед глазами – Либуше. Губы тянутся к нему. В голосе страсть и слезы: «Слунко [23] мое! Зачем оставляешь меня одну?»
Бекмурадов предлагал Гаврилову ехать в Москву, на парад в честь окончательного разгрома фашистской Германии. Парад будет на Красной площади, Гаврилов должен бросить к подножию Мавзолея Ленина немецкий штандарт, взятый полком под Дрезденом.
И Либуше «говорила», но так тихо, что бас полковника заглушал ее.
– Ты, канэчно, падумай, – снова с акцентом говорил полковник. – Если нэхарашо себя чувствуешь, – скажи. Мы найдем другого… Да ты что такой биледный?
Гаврилов, все еще находившийся во власти видения, не сразу ответил.
– Падпалковник Скурат, – понизив голос, сказал Бекмурадов, – не наравится мне, как смотрит лейтенант Гаврилов. Можэт быть, нэ будэм посилать его, а? Пусть адахнет. А?
После этих слов Гаврилов как будто ото сна очнулся, в одно мгновение с его лица сбежала бледность, взгляд сделался сосредоточенным, и он четко, будто рапортуя, сказал:
– Я готов, товарищ гвардии полковник!
Когда «виллис», на котором уехал в Прагу Гаврилов, скрылся из виду, Либуше сразу не могла уйти в дом: в ее душе теплилась странная надежда, что машина еще вернется. Ведь они всегда так прощались: целуются–целуются, потом разойдутся, но тут же возвращаются и опять целуются.
Целуя, Гаврилов говорил ей: «Голчичка моя мила!» [24] (она научила его чешским словам), а Либуше: «Мое миле слуничко», что значит – «солнышко мое».
Они прощались до тех пор, пока на востоке не зажигалась утренняя заря и старики Паничеки не начинали, покряхтывая, щелкать выключателями, чтобы посмотреть на часы – не пора ли вставать. Тогда Либуше и Гаврилов, крадучись, быстро расходились по своим комнатам.
Вот и теперь она ждала… Ждала, хотя и знала, что он не вернется, не может вернуться. Последнее, что она видела, – это его широкую спину и затылок с мелкими кудряшками. И ей вспомнилась последняя ночь. Вспомнился его страстный шепот. Его железные руки… Но какой же он ласковый и вместе наивный. Как же он стыдливо улыбался, когда брал в свою огромную, сильную ладонь – ладонь кузнеца – маленькую грудь Либуше и говорил: «Смотри не видно!..»
Либуше было стыдно. Пусть они любят друг друга, пусть стали близкими, но нельзя же лишать их любовь тайн и таинств. Ей даже и теперь, когда она вспоминает об этом, неловко. Она даже оглянулась, как будто кто–то мог «подсмотреть» ее мысли. Но редкие прохожие не обращали на нее никакого внимания.
Отбросив за спину золотую лаву волос, она опустила глаза и пошла быстрой, слегка танцующей, похожей на восточный ритуальный танец, походкой, но не домой, где ей все будет напоминать о Василе, а в противоположную сторону – к холмам, у подножия которых черной рекой текла дорога к Праге.
На укатанном асфальте местами еще виден был след «виллиса» – елочка резиновых шин, след Василя, все, что осталось от него. Все? А его любовь? Она ведь с ней… Либуше подарила ему свою фотографию, и он обещал прислать из Праги свою, если она задержится здесь больше, чем на неделю.
Либуше глубоко вздохнула, вспомнив о том, что до отъезда в Прагу нужно еще как–то решить с отцом. Оставить его в Травнице нельзя: дядя привык к одинокой жизни, а отец – нет! Два старика без нее, как дубки при дороге: все ветры и ливни на них. И все же, как быть? Отцу нравится работа в Травницкой поликлинике…
Утро разыгрывалось тихо, как проснувшееся дитя, которому в кроватку кинули любимые игрушки: туман поднялся, тени укоротились, и в блеске солнечных лучей, уже успевших налиться теплом, алмазно сверкала роса на крутых крышах.
Либуше не заметила, как свернула с шоссе на тропу и очутилась на холмах. С их высоты открываются такие дали, будто перед вашим взором бегут бесконечной чередой океанские волны!
А если прийти на холмы под вечер, то можно увидеть, как стайки облаков плывут по этому океану. Не нужно большого воображения, чтобы заметить, что это вовсе не облака, а корабли. И чудится, что путь этих кораблей далек – туда, за горизонт, к невидимым брегам чужедальних стран.
Сколько раз этот океан и плывущие по его волнам корабли с неудержимой силой влекли к себе Либуше! А потом явился Василь…
На вершине холма Либуше остановилась. Сердце колотилось, как после бега. Она посмотрела в ту сторону, куда укатил «виллис».
Черная лента дороги стремительно катилась к горизонту, подпрыгивая на холмах, среди веселой зелени. Либуше посмотрела на Травнице, затем дальше – за город. И что же? Она увидела палевую дымку да ситцевое небо – никакого океана, никаких кораблей, никакой романтики– пустота. И на сердце пустота.
Ей хотелось заплакать. Но, вспомнив подполковника Скурата, как он объяснялся ей в любви, она засмеялась.
Интересно, о чем думает сейчас Василь? Он уже, наверно, подъезжает к Праге… Ах, Прага! Там Енда… Как же быть с ним? Очень просто. Скажу, как и подполковнику Скурату. А все–таки, что же я скажу ему? Что люблю русского? Ну да! Я же действительно люблю его!..
А на подполковника было больно смотреть: после объяснения он вдруг стал как бы меньше, согнулся. Не станет ли он вредить Василю?.. Ах, скорей бы в Прагу!
Эта мысль так захватила ее, что она не могла уже оставаться на холмах. Либуше выбралась на тропу и сбежала вниз, на шоссе.
Дома она прежде всего решила принять ванну. Раздевшись, оглядела себя в зеркало, поворачиваясь то боком, то спиной. А что, собственно, изменилось? Грудь и живот совсем не увеличились. И ноги не потолстели. Тело твердое, как мрамор…
Лежа в ванне, она подумала: «Ох и дура же я! Ведь я врач и все знаю о себе!.. Но почему же с испугом разглядываю себя и то, что передо мной – врачом все ясно, все как на ладони, передо мной – человеком все полно тайн, страха и ожиданий… Все просто: я люблю его, он любит меня. Боже мой, как же я хочу его видеть именно сейчас! В эту минуту! Пусть придет он, и я прижмусь к нему!»
Она вздохнула, и что–то радостное и одновременно горькое подкатило к горлу и остановилось. «Что же будет со мною? – подумала она. – Папа не хочет, чтобы я выходила замуж за русского. Он, конечно, прямо не говорит об этом, но я – то ведь знаю его лучше, чем он меня. Он все еще считает меня девочкой. Боже, какая чепуха! Двое взрослых людей любят друг друга, а им, как детям, говорят… Ах, пусть что угодно говорят! Мы уже давно не дети, а муж и жена, и у нас будет дитко. Господи, неужели в самом деле у нас будет дитко?! Конечно, будет, раз я этого хочу!»
Она провела рукой по животу – пока никаких признаков. Провела еще раз – пузырьки воздуха оторвались от тела и побежали вверх. Окинув себя взглядом, Либуше вдруг густо покраснела, вскочила, взяла губку и с усердием стала намыливать ее.
После ванны Либуше не стала нежиться в постели, как любила, быстро оделась, выпила кофе и пошла в поликлинику с решением сказать отцу, что больше она не может, что завтра, в крайнем случае послезавтра, уедет в Прагу.
Поезд, в котором Либуше ехала в Прагу, еле тащился. Либуше очень устала. Конечно, можно было бы в дороге подремать, но за два с лишним часа пути она глаз не сомкнула, хотя тысячу раз видела и эти маленькие селения с придорожными кофейнями и шпилями костелов, и пыльные кусты, и щиты реклам… Русские – вот что привлекало ее внимание. Их было много вокруг. Одни стояли биваками, другие куда–то ехали. И от всех веяло каким–то изумительным спокойствием. Стоя у окна вагона, Либуше все глаза проглядела: в каждом офицере она видела то знакомую спину, то плечи, то затылок. Господи! Сколько же раз ей казалось, что вон тот офицер – ее милачек, ее Василь!
Глава седьмая
В апреле чешская весна пьет из чаши жизни первый глоток. А в мае пирует уже во всю свою силу. Боже! До чего же хороша в эти дни Матка мест! [25] С самого раннего утра, когда тонкий, как струна, первый лучик солнца начинает мазать лимонный край неба малиной, оживают сады Белой горы, Вышеграда, сады под королевским замком и на Кампе, дворцовые сады – Валдштейна, Лобковиц и Вртба… Птичий гомон и гудение пчел стоят в них.
Весна кружится в веселом вальсе даже у Пороховой башни, где земля сплошь одета в камень и опоясана сталью рельсов, где с озабоченным перезвоном проносятся трамваи и бурно течет неистощимая человеческая река. И здесь поет рожок весны! Всюду очаровательна пражская весна!
В один из таких дней хмельной пражской весны Гаврилов отправился на вокзал Вильсона. Хотя Либуше объяснила ему, как проехать на трамвае из Малой Страны, где квартировал штаб полковника Бекмурадова, Гаврилов пошел пешком.
По узенькой средневековой Мостецкой улице Гаврилов добрался до Малостранской башни. Затем вышел на Карлов мост и онемел от восторга: перед ним открылся стобашенный город, который чехи скромно называют Старым Местом. Внизу – шумная, вертлявая, как выдра, Чертовка – рукав державной Влтавы…
В мире не так уж много городов, где под ногами у тебя лежат тысячелетние каменные плиты, а по сторонам на фоне серебристого муара игривой речной волны, тридцать статуй известных святых, среди которых и старый женофоб, святой Августин. Строители моста, очевидно, посчитали слова святого Августина – «женщина есть сосуд дьявольский» – старческой ворчней. Иначе чем объяснить то, что среди статуй, установленных на Карловом мосту, столько женских фигур? Правда, это все не простые женщины, а святые. Но все–таки! Здесь и святая Анна, и Людмила, и Луитгарда, и Варвара, и Маркета, и Елизавета. А статуя мадонны установлена в двух местах: в обществе святого Бернарда и в обществе двух святых – Доминика и Фомы Аквинского.
Поворачивая голову то влево, то вправо, Гаврилов миновал мост, затем нырнул под арку Старогородской мостовой башни и вошел в лабиринт улочек Старого Места, где все – и кружева металлических решеток, и тонкий рисунок кронштейнов под фонарями, и каменное плетение – захватило его настолько, что он лишь спустя долгое время спохватился, глянул на часы и сразу пришел в себя. Теперь, чтобы вовремя поспеть на вокзал, куда в одиннадцать ноль–ноль приходит поезд из Травнице, нужно бежать.
Гаврилов долго клял себя, не забывая, однако, «поддавать пару». Как он не наскочил на детскую колясочку – одному богу известно. Разминувшись с колясочкой, Гаврилов не заметил архитектурного шедевра чешского Возрождения – Клементинума, хотя и подумал в это время о том, что увлечение архитектурой подведет его когда–нибудь, как говорит Бекмурадов, «под минастыр»… Архитектура– его давняя мечта, осенью 1941 года Гаврилов собирался поступать в архитектурный институт, но пришлось отправиться на строительство оборонных рубежей в район Яхромы, куда уже двигалась гитлеровская танковая армия генерала фон Гота, стремившаяся с марша «накинуть аркан на шею Москвы».
На Рогачевском шоссе, на одном из рубежей, где взвод Гаврилова ставил тяжелые надолбы, прорвались через линию фронта шесть немецких танков. Они смяли две пушки, пулеметное гнездо и намеревались с ходу разделаться со взводом Гаврилова. Но он не растерялся, сумел залечь со своей «армией» в ров. Укрыв взвод, Гаврилов с двумя бойцами поднялся наверх, подполз к танкам и бутылками горючей смеси зажег две машины. Остальные танки заметались – их нащупала наша артиллерия. Когда «тигры», поджав хвосты, стали уползать восвояси, Гаврилов вывел взвод из зоны огня.
Встреча с немецкими танками имела для него решающее значение – он стал курсантом танкового училища в Ульяновске.
…Часы на башне пробили без четверти одиннадцать, когда Гаврилов подходил к Вацлавской площади, – он безнадежно опаздывал.
Беспокойно поглядывая по сторонам, Гаврилов подумал: «Эх, хорошо бы сейчас появился Морошка на «виллисе»!» И вдруг из–за угла действительно выскочил «виллис», но за его рулем сидел не всемогущий Морошка, а какой–то офицер. Поравнявшись с Гавриловым, он притормозил машину и спросил, как проехать в Смихов. Гаврилов, боясь задержаться, хотел отговориться, что он–де, мол, сам не знает, но тут же подумал: а вдруг у лейтенанта срочное служебное дело? Он вытащил из планшета план Праги, вырвал листок из блокнота и начертил маршрут. Лейтенант поблагодарил и готов был уже отъехать, как Гаврилов, слегка заикаясь от охватившего его смущения, сказал:
– Слушай, дружок! Тут минуты четыре… Опаздываю. Подкинь!
Лейтенант кивнул:
– Садись!
Когда подъехали к вокзалу, Гаврилов тронул лейтенанта за погон.
– Спасибо! Выручил ты меня! Когда–нибудь и я…
– Ладно, – сказал лейтенант, нажимая на тормоз, – сочтемся.
Гаврилов выскочил на мостовую и так звонко стукнул подковками новеньких хромовых сапожек, что из–под каблуков брызнули искорки.
– А ты, парень, с искрой! – усмехнулся лейтенант.
Гаврилов прищурил левый глаз, улыбнулся и поспешил к перрону.
И обшарпанное здание вокзала Вильсона, и все перроны были забиты пестрой толпой. Слышалась французская, английская, голландская, чешская и польская речь: тут толпились освобожденные из лагерей, солдаты–чехи, вернувшиеся из СССР, и поляки–беженцы, русские, угнанные немцами, советские военные и масса чехов, разыскивавших родных и близких. Среди толпы немало было чехов, приехавших в Прагу из зоны, занятой американскими войсками, – им хотелось посмотреть на братьев русских.
Было одиннадцать, когда Гаврилов, пробираясь через толпу, выходил на перрон.
Поезд из Травнице еще не прибыл. Гаврилов воспользовался этим и купил букет темно–красных с золотистым отливом тюльпанов.
Посматривая в ту сторону, откуда должен был появиться поезд, Гаврилов вдруг почувствовал, что забыл лицо Либуше. Оставались считанные секунды, а он все никак не мог вспомнить образ той, для кого и эти цветы и его любовь! Гаврилов закрывал глаза, пытаясь представить себе облик Либуше. Но из этого ничего не получалось. Что же делать? Неужели он так и не узнает ее?
Паровоз с недовольным ворчанием остановился, отдуваясь и жалуясь: «Уф, как я устал!».
Когда стали открываться двери вагонов, Гаврилов облегченно вздохнул – именно в этот момент он и вспомнил Либуше, а вскоре, недалеко от того места, где он стоял, из вагона, вслед за усатым краснощеким чехом, выскочила и она сама.
Ни Гаврилов, ни Либуше не решились поцеловаться на людях, застеснялись. Но когда они пришли в Паничекову квартиру, Либуше не успела и дух перевести, как очутилась на руках Гаврилова.
– Не надо, – прошептала она, – не надо, Василь… Милый… Я же грязная с дороги. Дай хоть умыться…
Гаврилов не дал ей договорить, поймал ее губы, и она умолкла. По ее телу пробежала дрожь. Она обвила его шею горячими руками и зажмурила глаза. При этом на ее чуть вздернутом носике образовались смешные складочки. Не открывая глаз, мешая русские и чешские слова, она заговорила быстро и страстно:
– Слунко мое! Как же я измучилась! Думала, не доживу до этой минуты!..
Спустя время, когда они сидели, обнявшись, на диване, Гаврилов сказал:
– А ты знаешь… что я тебя еще больше люблю?
– Больше чи?
– Ты неправильно говоришь, – сказал Гаврилов. – Надо говорить не «чи», а «чем»…
– Ну ано, больше чим?
– Больше, чем там, в Травнице.
– Я тэбэ таки [26], – сказала она, опустив голову, и исподлобья посмотрела на Гаврилова. В синеве больших, чуть испуганных глаз мелькнула тревога, но ее место мгновенно заступила та великая любовь, на которую способны лишь натуры страстные, честные, прямые.
Они подошли к окну.
– Василь, – начала Либуше, – ты…
Гаврилов приложил палец к губам. Либуше умолкла. Кивком головы он показал на окно, за которым лежала Староместская площадь – сердце тысячелетнего города. Уже много дней пражане работали на восстановлении своей любимой столицы, а все еще были видны тяжелые раны и на Старой ратуше, и на стенах храма св. Николая, и на домах, окружавших площадь. И только памятник Яну Гусу да древние камни площади, которых касались ноги Тихо де Браге, Яна Гуса и Яна Жижки из Троцнова, были неколебимы, как дух самого народа, как его любовь к родине…
– Смотри, Либуше! – воскликнул Гаврилов. – Как люди работают! Вот что значит свобода!
– О Василь! – прошептала Либуше. – Я очень, очень тебя люблю…
– А я тебя больше жизни!
– Как ты хорошо говоришь, Василь!
Она поцеловала его и нырнула в коридорчик. Из–за двери сказала:
– Ты будешь курить, а я пойду в ванну…
Гаврилов выкурил вторую сигарету, а Либуше все еще плескалась в ванне и пела. У нее был хотя и не звонкий, но приятный голос. Наконец, вытирая на ходу мокрые пряди золотых волос, она вышла из ванны, розовая, сияющая, протянула губы для поцелуя. Гаврилов подхватил ее на руки. Краснея, она поспешно собрала разбежавшиеся полы халата:
– Отпусти, Василь! Мне стыдно…
Но Гаврилов, казалось, не слышал ее. Однако она выскользнула из его железных рук и, смеясь, отскочила в сторону. Гаврилов с добродушной улыбкой погрозил ей.
Либуше сделала вид, что она очень испугалась. Вид ее рассмешил Гаврилова. Либуше предложила выпить кофе, но, когда начала осматривать шкафы, в них ничего не оказалось – в квартире Паничеков кто–то успел побывать. Не воры, потому что хрусталь, серебро и одежда были на месте. Не было только сахара, кофе, чая, печенья, вина и консервов. Все это, по–видимому, понадобилось для защитников Праги, оборонявших Старое Место.
Либуше удивилась:
– Но как они могли попасть сюда? Замок цел…
– Фью-ю! – свистнул Гаврилов. – На баррикадах Праги, надо полагать, немало было слесарей и оружейников. Этот народ любой замок откроет куда более ловко, чем сам хозяин квартиры ключом!
Однако что же делать? Либуше так хотелось угостить своего милачка кофе. Гаврилов успокоил ее, сказав, что у него будет еще много случаев проверить, какая она хозяйка. Тогда Либуше предложила пойти в кафе. Пока она одевалась, Гаврилов осматривал квартиру. Он то и дело задерживался у висевших на стенах портретов и спрашивал:
– А это кто?
Либуше с гребнем в зубах отвечала:
– Мама. Дядя. Дедушка.
Но когда Гаврилов остановился у портрета юноши в студенческой каскетке и спросил: «А это кто?», она не сразу ответила.
– Это? – переспросила она, щурясь. – Это… Ян Витачек.
– Родственник?
– Н-нет…
– Знакомый?
– Ано… Студент Карлова университета. Очень меня любил…
– А ты?
– Я его тоже любила… А потом… Ну вот я и готова!
Она подошла к серванту, на котором стоял портрет Яна Витачека, и повернула его лицом к стене, взяла под руку Гаврилова и сказала:
– Пуйдэм, слунко мое.
Гаврилов вздохнул и сказал:
– Что ж, пуйдэм!
Попасть в кафе, в ресторан или в обыкновенный народный трактир оказалось делом не легким – такой большой наплыв гостей был в эти дни. Герои битвы, герои Сопротивления, друзья, родные, встретившиеся после долгой разлуки, праздновали победу. Рекой лились и русская водка, и армейский спирт, и славное чешское пиво. Его величество Гамбринус, единственный из вымирающего сословия королей, в эти дни вел себя беспечно среди простых воинов и их друзей, словно понимал, что ему не угрожает социальная революция: пивная бочка – крепкий трон, и никто не столкнет с этого трона его, законного, досточтимого и, можно сказать, обожаемого короля.
Внимание и почести пивному королю Гамбринусу воздавались в эти дни во всех знаменитых пражских кафе, ресторанах и трактирах. Особенно много народу было в трактире «У чаши», что находится на Боишти – улице в Новом городе. Этот трактир не был бы знаменит, но сюда, как известно, любил похаживать Иосиф Швейк, когда он не был бравым солдатом, а, как у нас говорят, «еще находился на гражданке» и вел канительную торговлю бродячими собаками. Именно в этой пивной Швейк, после одной из бесед с провокатором, был арестован. Именно здесь, в этом трактире «У чаши», он собирался встретиться с сапером Вόдичкой в шесть часов вечера после войны. С тех пор прошло почти полвека, а Швейка все нет и нет. Но его помнят здесь. Ждут… Говорят, в трактире хранится бокал, из которого Швейк потягивал свое любимое пиво. Многое говорят в трактире «У чаши», когда его величество Гамбринус хватает за чубы своих подданных!
Гамбринус – расторопный король, его можно встретить всюду. И в пивоварне «У флеков», что на Кржеменцовской улице, – трактирчике, в который пражане ходили еще пятьсот лет тому назад отведать восхитительного черного домашнего пива. Потчует жителей Стобашенного города и их гостей Гамбринус и в самом древнем трактире «У Томаша», который находится в Малой Стране. Если б пиво, которое было выпито здесь со времени Карла Четвертого, вылить во Влтаву, то сия державная река наверняка бы вышла из берегов. Да! Потому что пиво здесь поистине королевское! Недаром скульптор Киттэнер получал за свою работу одну четверть следуемой ему платы деньгами, а три четверти – пивом.
Пиво темное, как деготь, пиво светлое, как янтарь, пиво в шапке из светлых кудрей пены! Из тысяч бочек бьет оно в кружки, как Ниагарский водопад, и «У трех страусов», и «У золотого тигра», и в «Золотом колодце» – да всюду!
Ресторанов и трактиров в Праге чуть меньше, чем звезд на небе. И везде крепка власть Гамбринуса! Самый веселый из королей: лицо его кругло и краснощеко, а плутоватые глазки подмигивают каждому, кто хоть на минуту остановится у трактира. Как утверждают его биографы, это он, Гамбринус, открыл в хмеле душу пива и в ячменном солоде – такую силу, что если его умело сварить, он вырвет бочку из рук. Это Гамбринус соблазнил своих подданных пивом. Правда, первые пробы из первых бочек не пришлись по вкусу чехам. Но Гамбринус быстро нашелся. Однажды по всей стране вдруг зазвонили колокола. Никогда еще чехи не слыхали, чтобы стальные языки колоколов вызванивали плясовую. Да так ловко, что никто не удержался, все пошли в пляс. Да еще какой! Уже коленные чашечки звенели, как фарфоровые, уже во рту пересохло и язык не ворочался, уже кафтаны хоть выжимай, а колокола все перебирают один мотив веселее другого. Но вот смолкла медь, остывать стала языков кованая сталь, итак захотелось пить! Кинулись чехи к бочкам. Глотая комья горькой пены, танцоры старались добраться до жидкости.
И пошла с тех пор власть Гамбринуса над чехами. Стали чехи пиво пить и песни петь:
Коль болезнь согнула парня,
Медицина – в пивоварне…
Как грудное дитя нельзя представить себе без материнской груди, так и чеха без пивной кружки.
Чехи всегда рады случаю поднять кружку за здоровье Гамбринуса, за дело, которое мастерски делают, за добрых друзей. Но, пожалуй, никогда еще за всю свою тысячелетнюю историю Стобашенный город не оказывал такой чести, такого внимания его величеству Гамбринусу, как в эти майские дни. Надолго запомнит Прага 9 мая 1945 года! В этот день было покончено с поганой фашистской армией фельдмаршала Шернера, в этот день свершилось то, о чем повествует старинная чешская легенда: «И будет у нас, в Чехии, хорошо, когда на Староместской площади стукнет копытом казацкий конь и когда напьется он воды из Влтавы».
Девятого мая 1945 года, когда остывший за ночь воздух еще не успел нагреться и на крышах все еще лежала роса, в Прагу вошли русские. Они появились вовремя: Прага истекала кровью, фашистская погань перед своим издыханием жгла и рушила Стобашенный город. Русские войска шли нескончаемыми потоками: танки, пушки, автомобили, пехота. В небе плыли краснозвездные самолеты. На рысях мчалась конница. Сбылась старинная легенда – казацкий конь стукнул копытом о камень Староместской площади, спустился к Влтаве и напился из нее студеной воды. И зашумели пражские сады. И зазвенели кружки. Прага ликовала. Везде музыка и песни. Чехи, русские, словаки, сербы, вслед за казацким конем, отведавшим серебряной водицы из Влтавы, мочили усы в пиве. Пивовары Смихова, Нусле, Браника и Велке Поповиц не успевали за старательными подданными Гамбринуса. Во всех ресторанах, трактирах и кофейнях было так тесно, что еще не известно, нашлось ли бы местечко саперу Вόдичке и его другу Швейку, если бы они вздумали зайти в трактир «У чаши», как условились, в шесть часов вечера после войны…






