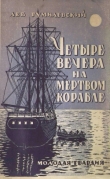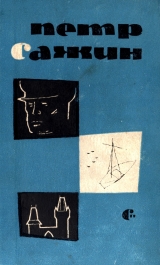
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
По воскресеньям ходил на этюды. Летом ездил в подмосковные оазисы архитектурной старины либо на Тростенское озеро щук ловить.
При таком образе жизни Гаврилов мало знал, что делалось в квартире. Люди жили, в общем милые и к нему относились с уважением. Но теперь Гаврилов увидел, что квартира, в которой он живет, не менее любопытна, чем «джунгли» Тростенского озера, где на зыбких торфяниках, в порослях ивы и березняка, рядом с соловьями, – поющими свои любовные песни, плачут пересмешники, доведенные до слез сорочьими сплетнями, где метровые щуки вскидываются вверх на высоту своего роста и лещи–трудяги выползают греться на песок.
Лежать было утомительно; тишина в квартире, казалось, заползала во все поры. Дом казался мертвым.
Лежа с закрытыми глазами, Гаврилов пытался заставить себя не думать ни о чем, но это не удавалось.
Лишь с наступлением сумерек хрипло взвизгивала входная дверь и затем скрипела все чаще. Из кухни тянулись запахи разогреваемой пищи. По коридору частили шаги: трудовое население квартиры возвращалось домой. Оно как бы нашептывало ему, что скоро и его жизнь опять потечет на работе, в светлых залах мастерской.
В дверь постучали. На голос Гаврилова появилась тетя Нюша с тарелкой щей.
– На, поешь! – с грубоватой нежностью сказала она, ставя тарелку. – Лежишь тут сам на сам. Эдак чумиться скоро зачнешь. Эх! Одинокой бабе трудно, но она хоть постирает ай иголкой время исколет. А мужик? Горе! Кланькин отец, бывалыча, заболеет – всех изведет! И сам терзается, как рыба на кукане… Поешь! Потом чайку принесу. Сахар на столе. Лимон, правда, усох маленько. Ну, да в чаю отойдет.
Тетя Нюша готова была говорить еще, но тут из коридора, вслед за телефонным звонком, раздался голос:
– Кланьку–миникюршу к телефону!
Тетя Нюша всплеснула руками:
– Покою нет от этих женщин! Скажи, какое дело – ногти отстрычь! А вот звонют и звонют.
Когда она вышла, Гаврилов принялся за щи.
Тетя Нюша вернулась в комнату со стаканом чаю.
– Хороши? – спросила она, видя, что Гаврилов подбирает последнюю ложку щей. – А я тебе чайку спроворила. Глянь, какой звонкой!
Она положила лимонный кружочек в стакан и, размешивая сахар, хмыкнула:
– Дурочка какая–то звонила. У почтамта живет. Я сразу–то не догадалась, кого ей надо: «Клавдию, говорит, Артемьевну…» Это, значит, Кланьку мою. А чего звонит? Ногти ей, кобыле, надо на ногах подстрычь… Ну, не чимер их берет, энтих баб! Волосы красют, губы красют, глаза подводют, ногти на руках стригут всякими ножничками «гляссе–массе», и все мало! Теперь ноги… А дальше чего придумают? И за все деньги шальные плотят: за миникюр не менее десятки, а за ноги–то самое малое двадцать пять рублей. А если Кланька покрасит ногти на ногах лиловым лаком, по тридцатке плотят! Налить чайку? Чай–то хорош!
Гаврилов кивнул.
– Покойный Артем любил чай черный как деготь. Бывало, сидит за столом, как младенчик, улыбается и губами из блюдцы эдак филюп, филюп – попивает… – Она вздохнула и как–то нерешительно спросила: – Василь Никитич, хочу спросить тебя…
– Да?
– Ходить тебе, наверно, рано?
– А вам, тетя Нюша, нужно что–нибудь?
– Радио у нас сломалось…
Гаврилов вопросительно посмотрел на тетю Нюшу.
– Кланька–то моя, – продолжала тетя Нюша, – прямо сохнет без радио. Как ты заболел, в эту радио будто кляп сунули. Глазок горит и так оно будто шумит, а играть не играет. Может, поправишь, Василь Никитич? Не сейчас, а когда легче станет.
– Хорошо, тетя Нюша.
– Тебе, может, еще чайку принесть?
– Да нет, тетя Нюша, спасибо!
– А с малинкой иль с медком? Легче станет!
– Спасибо. Идите к себе, вас, наверно, Клава заждалась.
– Ох, и вправду! А как она обрадовалась бы, если б ты, Василь Никитич, нашел охоту к нам зайти! Ну поправляйся. Чего надо будет – кликни!
…Кроме тети Нюши с дочкой, Гаврилова и одинокого пожилого мужчины, работавшего в охране на промышленном складе, жила еще одна семья: мать, домашняя хозяйка Анисья Петровна, и двое взрослых детей. В отличие от тети Нюши, Анисья Петровна входила в кухню, как мышь: неслышно и незаметно.
Маленькая, сухонькая, с высокой прической, она говорила мягким голоском. И говор ее был бы приятным, если б она не произносила букву «т» как «ц». Она говорила: «деци», «зяць», «цеця».
У Анисьи Петровны двое детей: Костя и Катя. Костя – старший, ему тридцать два. Кате двадцать семь. Костя работает в фотоателье «Художественный портрет». Работенка, как говорит тетя Нюша, «не пыльная, но денежная». Он поздно встает, пьет черный кофе с тостами, носит короткую стрижку ежиком и старается не отстать от моды: на нем свободный пиджак из твида с косыми, широкими, чуть висящими плечами и туфли на толстой каучуковой подошве.
Катя работает помощником директора кинотеатра где–то в районе Таганки.
Костя холостяк. Катя – «покинутая» шесть месяцев тому назад. Она переживает свое горе молча, с достоинством, хотя и страдает. Но Анисья Петровна нервничает, будто это ее бросили. Она кладет столько сил и энергии на то, чтобы вернуть «зяця» в дом!
Анисью Петровну за глаза называют графиней. Ее прозвали так в первый же день появления в квартире, когда она вошла в коридор и сказала игравшим ребятишкам: «Деци, не шилице! Надо прилично весци себя!»
Услышав это, тетя Нюша – среди играющих в коридоре детей была и ее Кланька – сказала: «А ты што указываешь? Подумаешь, какая графиня! «Деци, не шилице!» Ишь ты какая! Играли и будут играть! Это вам не старый режим!»
Это, конечно, было давно, но ведь и все когда–нибудь уходит в это «давно».
Пока жильцы были дома, пока хлопали дверями, гремели кастрюлями и подходили к телефону, Гаврилову было веселее. Но как только все расходились по делам, в квартире снова наступала тишина, и Гаврилов слышал, как сыплется песок в перегородке между его комнатой и комнатой тети Нюши, когда по оврагу к интендантским складам летел «товарняк». От хода поезда земля гудела.
Гаврилов с удовольствием слушал и гул, и свистки паровозов, и трамвайные сигналы у переезда: «тр–р–р-р… э–нз–з-з», и гудки автомобилей, и рокот моторов тяжелых грузовиков, и людские голоса. Жизнь! Она была там, за упрямой тишиной этого старого дома.
Подолгу Гаврилов слушал шумы города: отложит книгу и слушает. Вот тут незаметно и подкрадывался сон. Просыпался Гаврилов от стука в дверь.
– Василь Никитич! Это я! К тебе можно? – И, не дожидаясь ответа, тетя Нюша входила со словами: – Стучу, стучу, а от тебя ни слуху ни духу! Лежишь, чисто схороненный. Должно, уснул? Телефон прямо надрывается, все с твоей работы спрашивают… Чувствуешь себя ничего?
– Ничего.
– Пить хочешь?
Гаврилов качал головой.
– А я достала курицу. Три желтка в нутре у ей. Банку жиру натопила. Лапшу сварила – несказанную. Кастрюля аж поет! Принесть?
– Спасибо!
– Когда поешь, тогда и скажешь. Так я принесу?
Тетя Нюша выходила из комнаты и вскоре ставила тарелку на стул у постели. Гаврилов брал ложку в руку, пробовал.
– Ну как?
– Мечта!
– То–то! А то «спасибо, не хочу»! Ешь!
Когда Гаврилов начинал ходить ложкой по дну тарелки, лицо его горело и лоснилось.
– Здорово она тебя пропарила, – говорила тетя Нюша. – Скоро, гляди, не заметишь, как и на ноги встанешь. Ну, а теперь спи! Тебе сейчас еда да сон – самое лекарство.
Гаврилов пытался понять, почему эта женщина по–матерински заботится о кем.
«Но ведь тетя Нюша, – думал Гаврилов, – ко всем хорошо относится, даже к «графине». Нередко за всех убирает и на кухне, и в коридоре. Да и к ней, в общем, все хорошо относятся. Бывает, что она вспыхнет, как спичка, тогда в доме возникает «дисплёпорция», как говорит третий, ответственный съемщик Константин Егорович – человек мрачноватый и темный, по слухам, бежавший в 1929 году от раскулачивания из–под Шилова, что ли. «Ягорыч», как чаще всего он представляется новым знакомым, человек малограмотный, но питающий неистребимую любовь к ученым словам.
И вдруг Гаврилов понял: тетя Нюша, эта славная старушенция, смотрит на него, как на будущего зятя.
«Какая же я балда! – ругал он себя. – Неужели раньше не мог понять? Муж маникюрши? Смех… А чего смеяться–то? Сам–то кто? Сын казачьего ветеринара – не велик дворянин! Но разве в этом дело? Дело в том, что он не может больше так жить. Да, не может! Ну, а где выход?..»
В то время, когда Гаврилов, угнетаемый одиночеством, думал, как найти выход из создавшегося положения, на кухне возник разговор, который свидетельствовал о том, что судьба человека принадлежит не только ему.
Довольная тем, что лапша ее понравилась, тетя Нюша, напевая какую–то песенку времен своей молодости, вышла на кухню. Заметив Анисью Петровну, тетя Нюша, как бы невзначай, сказала:
– Поел…
– Что вы? – спросила Анисья Петровна.
– Я говорю, – поел лапшу–то и лежит, как ангелочек, и все на потрет смотрит.
– На чей портрет?
– Какая–то чешская зазнобушка… Красива, анчутка, и сказать нельзя, как!
– Это что ж, трофей его пражских походов?
– Ты, Петровна, больно мудрено говоришь: «троф–фэй»…
– Хорошо, Нюша! Так что же, это девица или дама?
– Девица она иль не девица – не знаю. Но хороша, анчутка! Волос у нее, как кудель льняная. Глазыньки, губки, бровочки – все на своем месте и такие благородные и наводные из себя. Да… – со вздохом продолжала тетя Нюша. – Я думаю, он и болеет оттого, что не женится.
– Ну что за глупости!
– Да какие же это глупости? – вспыхнула тетя Нюша. – Погляди на свою дочку!
Анисья Петровна поджала губы:
– Вы, Нюша, мою дочку не троньте.
– Это почему же? Ты мою можешь, а я, выходит, нет?
– А зачем же вы говорите о Кате какие–то гадости?
– Не была бы ты образованная, Петровна, я бы тебя дурой назвала. Какие же гадости говорю?
Анисья Петровна дрожащими руками мяла кухонное полотенце.
– Катя гордая. Она, верно, мучается. Уж я пыталась примирить их. Но она хочет, чтобы он сам пришел и извинился. И это при том, что она безумно любит его.
– Любит! – усмехнулась тетя Нюша. – Было бы кого любить. Конь гнед, да шерсти на нем нет. Может быть, еще скажешь: сохнет?
– Сохнет. А что ж тут удивительного?
– А то: не ветрела она мужика настоящего А этот что? Вертится, будто на ежика сел. Разве ей такого надо? Ей орел нужόн!
– Ну, это уж кого господь пошлет, – вздыхает Анисья Петровна.
– Это верно. Видно, сам господь и подослал тебе такого зятюшку, на лице у него будто черти горох молотили. А моей Кланюшке не шлет. – Тетя Нюша вздыхает. – А чем она не невеста? Фигурка любительская – ни тонка, ни тумбоватая, в самый нонешний вкус… Ножки не какие–нибудь тебе жердочки городские, а ступистые, крепенькие. Рожать будет легко. Девка…
– Нюша! Что вы говорите. Какая девка? Это же неприлично. Можно говорить девушка, ну там по имени, а девка – это же…
– Ничего, Петровна, про свою я могу… Девка она завидная.
– Нюша! Как можно о своей же дочери!
– Да ты что, Петровна? Думаешь, мужчины в нас ангелов ищут? Мужику нужно, чтобы баба сладка была, как медок, да заманчива, как планида!
– Нюша! Ну же…
– Что все – Нюша да Нюша?! Не была, что ли, молодой? Ай забыла, как тебе покойный в ухо шептал да как ласкал? А я вот все помню, за што мой любил меня. А как не любил бы – к другой бы лётал, как твой зятек…
Анисья Петровна вспыхнула:
– Если вы еще позволите себе такую бестактность, я перестану разговаривать с вами! Не трожьте ни меня, ни моих детей.
Тетя Нюша добродушно улыбнулась:
– Чего ты, Петровна? Я как на духу – откровенно, по–простому, а ты – на дыбки… Чего обижаться на меня? Я тоже мать, и меня горе точит. Кланька–то моя как переспелая малина, чернеть скоро начнет, а женихов нет. А ведь только камень без корня растет! Что же ей, вековухой, что ль, сидеть? Я вот думаю: отчего это у нас в квартире женихи–то зря плесневеют?
– Это кто же?
– Ну хоть твой Костя.
– Какой же он жених? Костя художник, он разборчив и капризен.
– Все они капризные до поры до времени. А найдет такую чучелу, втрескается и сразу же: «Жить без нее не могу!»
– Ну, это чепуха какая–то, Нюша! Зачем же ему, как вы говорите, втрескиваться, да еще в чучело? Вот Василь Никитичу, кажется, пора… Человек он серьезный. Архитектор. Герой Отечественной войны.
– Василь Никитич? – Тетя Нюша оглянулась и сказала со вздохом: – Была б я молодой, позови он, пошла бы за ним на край света. А скажи он: «Нюша, кидайся в омут» – кинулась бы!
– Ну, это уж слишком! Любить – я еще понимаю, а зачем же в омут? Человек он действительно хороший. От него светлее у нас в доме.
Тетя Нюша согласно кивнула:
– Верно, светлее…
– А почему он не женится? Может быть, раны не позволяют ему иметь семью?
– Да что ты! Один, что ли, он раненый с фронта пришел? Вон к Марей, – ну, ты знаешь кассиршу в аптеке, – муж приволокся без обеих ног, а она уж пятого носит от него, черта безногого. И как это он прилаживается? – Тетя Нюша рассмеялась.
Анисья Петровна нахмурилась. Тетя Нюша заметила это и, чтобы замять неловкость, нарочно стала шумно укладывать посуду на полочку, затем сделала вид, будто не было никакой неловкости, сказала:
– Память у тебя, Петровна, как у редьки! Я ж говорила, есть у него зазноба. Чешка. Красивая – прямо принцесса!
– Значит, он живет воспоминаниями…
– Какие там воспоминания? Любит он ее!
– Ну что вы, Нюша, разве можно это? Прошло столько лет, как он вернулся с войны.
– Люди, Петровна, разные бывают: одних через неделю забывают, а других всю жизнь в сердце носят! Одни живут, как рассохшаяся бочка: обручами не скрутишь, а другие так, что промеж них и нитки не проденешь. Любит он ее, да так, что ни на кого не смотрит. Ни Кланьку мою, ни твою Катю не видит: «Здрасьте и до свиданья!» – и только.
– А вы что же, хотели, чтобы он за вашей Клавдией ухаживал?
– А почему бы нет? Она девка – что спереди, что сзаду никому не уступит!
– Слушайте, Нюша! Но ему же интеллигентная женщина нужна…
– Ты что думаешь, он в кровать с собой образование будет класть? Ему баба нужна, живая, как белочка! А твоя хоть и ученая, а сухая, прости меня дуру, как вобла…
– Нюша! Нюша! Опомнитесь, что вы говорите!
– А чего мне опоминаться–то? Это тебе надо, ты и опоминайся! Ты все со своей Катей носишься. Подумаешь, образованная!
После этих слов Анисья Петровна, высоко держа маленькую, сухую голову, с разлившейся по лицу и шее краснотой, вышла из кухни. Тетя Нюша, уперев руки в бедра, глядя вслед Анисье Петровне, сказала:
– Подумаешь, графиня! Уж и правду сказать нельзя. Ну что ж, что мы необразованные, зато правды не боимся!
Гаврилов мог и не смотреть на часы: он уже знал, что тишина в Москве бывает от двух ночи до пяти утра. В этой тишине всегда особенно сильно обостряется тоска. Наступает ночь: полыхающее с вечера над городом зарево огней начинает блекнуть, миллионы рук стелют постели, миллионы рук тянутся к выключателям. И вот проходит немного времени, зарево над городом угасает, смолкает гул; миллионы людей ткут сновидения, – ткань снов рождается бесшумно.
Тишина везде и во всем: не шуршат колеса автомобилей, не трещат звонки трамваев и не бурлит человеческая река на улицах – все спит, только ты не можешь уснуть. В бессонной ночи счет секунд смертельно медленный. И ты лежишь и прямо умираешь от тоски и безделья, сон никак не идет.
Первые ночи и даже дни после возвращения из клиники профессора Скурата Гаврилов спал как убитый, и тете Нюше всякий раз приходилось подолгу стучать к нему. Теперь отоспался. Пробовал работать за столом – в спине будто кинжал торчит, долго что–то не заживает. Гимнастику начнет делать – в спине такая боль, что из глаз слезы горохом сыплются.
Лежа в постели, Гаврилов понял, что, в сущности, ничего не знал о доме, в котором жил, – пришел с занятий, лег, утром встал, ушел. Жизнь – якорь, а ты его цепь. Но когда ты заболел и лежишь дома, страница за страницей открывается перед тобой великая книга жизни человека, который, вопреки смелым утверждениям недоучек, живет не только там, где он варит сталь, а и там, где варит свой суп!
И вот там, где человек варит свой суп, более всего нужен шум строительства. Только живя в домах старой Москвы, и можно понять, до чего смешны и глупы эстеты типа Удмуртцева!
Скорей бы выздороветь!
Все проекты, в том числе и его жилой комплекс, потребовали «наверх». Зачем? Никто не знает. Уж не пожаловался ли академик Удмуртцев?
Ах, если б Гаврилову, дали возможность сразиться с почтенным академиком (академик, к сожалению, не одинок), он бы все сказал ему: и об архитектурной безвкусице мраморных балаганов с бронзовыми кренделями на карнизах, и о дворцах–вокзалах, и о дворцах для продажи овощей, для высиживания цыплят. Он спросил бы академика: закономерно ли первоочередное, и притом повсеместное, строительство грандиозных Дворцов Советов? Он предложил бы академику посчитать, во что обошлись Дворцы Советов в Минске, Ереване, Тбилиси – да всюду. Каждый республиканский, краевой и областной центр стремится строить такие здания. Даже в каком–нибудь районном городке, где ребятишки занимаются в три смены, где больные лежат в коридорах больниц… В городишке, где не знают канализации, водопровода, а электричество светит чуть ярче лучины, строят, правда, не дворцы, но Дома Советов. Причем дома с колоннами, с дубовыми дверями и с бронзовыми ручками – дома на века, такие, за которые вы так ратуете, уважаемый академик!
А может быть, Советам всех рангов стоило бы рекомендовать приступить к строительству таких дворцов после того, как будут построены школы, больницы, амбулатории, детские сады и ясли, бани, спортивные залы, библиотеки и дома для граждан?
Пусть потомки об эпохе социализма судят не по шпилям, не по колоннам и не по оградочкам на крышах, а по образу жизни. Чистая, удобная, светлая квартира для каждой семьи – вот это памятник на века!
Гаврилов хотел еще кое–что сказать академику, но тут его окликнула тетя Нюша:
– Спишь ай нет?
– Нет, – ответил Гаврилов.
– К телефону тебя, – доктор, который резал…
Давно бы надо было профессору Скурату позвонить: одеваясь, Гаврилов понял, что тишине пришел конец, что теперь он и часу не усидит дома.
Причесываясь перед небольшим зеркалом, Гаврилов невольно остановил взгляд на потускневшей фотографии военных времен: гавриловский танк в Берлине, около рейхстага, среди танкистов полковник Бекмурадов. В памяти Гаврилова возник знакомый голос: «Ты что же это, да–анской казак, нюни распустил? Или весь порох вышел? Забыл, чему партия нас учит? Пока есть хоть один снаряд – стреляй! Пушка заклинилась – дави гадов гусеницами. Танк остановился – бери шанцевый инструмент и бей врага лопаткой. Понимаешь, саперной лопаткой! Но бей, бей! Смертным боем бей!»
«Хорошо сказано, – мысленно одобрил полковника Гаврилов. – Но тут, товарищ полковник, война посложнее! Академик дряхл, но перед его фамилией столько званий, титулов! Он лауреат, вице–президент, член нескольких комитетов, академик, доктор… А у Гаврилова – только молодость да огромное желание принести людям пользу.
– Вы, товарищ гвардии полковник, сказали бы, что и этого не мало! Да я и сам так считаю. Поэтому и буду драться за свой проект до конца. До победного конца! Жаль только, что старца поддерживают в высоких сферах.
– Вот в чем гвоздь, товарищ гвардии полковник…»
Глава четвертая
Спускаясь по лестнице, Гаврилов почувствовал себя так, будто никакой операции и не было. Молодец профессор Скурат, ловко вынул из него весь японский металлолом!
Выйдя из дому, Гаврилов на миг оторопел от обильного резкого света, от бодрящего запаха весны. В глазах все мелькало, и все, что мелькало, выглядело удивительно милым, особенно ребятишки. Они уже успели понастроить и спустить на воду первых звонких ручейков грозные армады бумажных дредноутов.
Еще накануне казалось, что зима крепко стоит на ногах: мороз с купеческой удалью разгуливал по улицам и довольно нагло хватал прохожих за нос и за уши, и вдруг к вечеру небо очистилось от мглы и по небосклону разлился мягкий красный закат. В этой пурпурной купели и родился крепкий и веселый денек с синим, италийским небом и теплым солнцем. Уже часов с девяти утра тонко зазвенела капель. Шустрые лучи солнца облепили крыши, стены и окна домов. Они ухитрились даже распилить лед на Москве–реке!
И вместе с ними все заиграло: до слепоты блистали шатры на кремлевских соборах; голуби у Манежа артистически позировали перед фотоаппаратами туристов; галки вели хороводы вокруг кремлевских башен. У трещин и полыней Москвы–реки хозяйственно шагали грачи. А воробьи на тротуарах орали и толкались, как горькие пьяницы. Весна…
Из клиники Гаврилов поехал через Юго—Запад. Глаз радовало широко развернувшееся строительство. Гаврилов подумал, что краны и строительные леса могли бы стать гербом современной Москвы. В воздухе то тут, то там виснут контейнеры с кирпичами, оконные рамы, двери. А новенькие дома сверкают, как конфетки.
Город, словно вырвавшийся из тесного стойла конь, мчится вперед, на просторы.
Деревянные дома теперь уже никто не разбирает ломиком: подойдет бульдозер, нажмет – и дома нет.
Остальное довершают экскаваторы.
Незнакомому с Москвой человеку трудно понять, где теперь центр, а где окраина: то ли там, внизу, то ли здесь?
Гаврилов не мог не остановиться на самом высоком месте Москвы, у лыжного трамплина. За круглой ареной строящегося стадиона, за Новодевичьим монастырем открылась перед ним неоглядным табором столица.
Небо затучилось. Грязные, смешавшиеся с дымом заводских труб облака обложили все кругом. Набежавший туман жадно пожирал снег на склонах гор.
Гаврилов решил заехать в мастерскую, хотя должен был выйти на работу на следующий день.
Недалеко от входа в мастерскую, на тротуаре, две розовощекие девочки, носики пуговками, играли в классы. Гаврилов мысленно представил себя отцом таких же шустрых детишек, и сердце сразу сжалось до щемящей боли, он быстро, словно не болел совсем, побежал по лестнице на второй этаж.
Не успел Гаврилов «потолкаться» среди сослуживцев, как его попросили к Складневу – к шефу, так архитекторы называли между собой начальника мастерской.
У Складнева постное выражение лица: он, по–видимому, чем–то расстроен – даже не спросил, как Гаврилов чувствует себя. Это не похоже на него.
– Присаживайтесь, – сказал он.
Гаврилов сел. Складнев посмотрел в широкое окно, затем, медленно постукивая пальцем, сбил пепел с папиросы и, повернувшись к Гаврилову, неожиданно быстро сказал:
– Завалили ваш проект.
– Как?!
– На архитектурном совете. Вначале он большинству даже понравился, но тут выступил ваш «друг» академик Удмуртцев…
– И что же?
– Поворот на сто восемьдесят градусов – и ваш проект, как не «привязанный» к местности, зарезали!
– Но…
– Никаких «но»! Как только академик Удмуртцев сослался на мнение авторитетных товарищей, вы, голубчик, мгновенно погорели.
– А я слышал, что руководители партии и правительства запросили ряд новых проектов и что среди представленных и мой.
– Да. Но это уже после архитектурного совета.
– Что слышно оттуда?
– Проекты еще не рассматривались и когда будут рассматриваться – неизвестно. Но вы, Василий Никитич, голову не вешайте. Это не последнее огорчение. Их будет еще столько! Наше с вами дело – это баланс на проволоке. А внизу сеточки нет: упадешь – и в блин. Держитесь! Выходите завтра?.. Отлично! Начнете работать над новым проектом. Задание не для Москвы – для Липецкого тракторного завода. Придется поехать на место. Согласны? Ну и хорошо! До завтра!
– Мы еще посмотрим, товарищ академик, чья возьмет! – громко произнес Гаврилов, садясь на мотоцикл. – Будет буря, мы поспорим…
Гаврилов выехал на набережную и дал такой газ, что молнией пролетел мимо кремлевских стен, Зарядья, Дворца труда, Таганки и лишь около Краснохолмского моста немного пришел в себя и поехал тише.
Эпилог
Гаврилов уехал в Липецк.
Через три дня после его отъезда, ранним утром в проезд Рогачева прибыл мощный отряд техники: два бульдозера, шесть автомобилей–самосвалов с металлическими кузовами, на высоких, как мельничные жернова, шинах, канавокопатель, самоходный – на гусеницах – экскаватор и несколько легковых автомашин.
Они остановились напротив дома, в котором жил Гаврилов.
Было типично мартовское, типично московское утро с туманом–снегоедом, с легким морозцем и едва–едва ощутимым запахом свежевыпавшего весеннего снега. Желток тусклого солнца невысоко висел в сизоватом расплывчатом небе.
Из деревянных домов, как тараканы из запечных щелей, высыпали взрослые и ребятишки. Зачем это машины здесь? Для прокладки канализации? Газа?
Был час, когда люди спешили: одни – к станкам, другие – к школьным партам, третьи… да мало ли у людей забот! У кого была хоть одна минута в сбережении, останавливался и расспрашивал зевак, в которых в Москве никогда не бывает сколько–нибудь заметного убытка. Те же, кто торопился, быстро шагали к автобусу, трамваю или троллейбусу, оглядываясь на колонну машин.
Зачем пришла техника? Кто мог ответить на этот вопрос? Тетя Нюша вышла из дому за гольем на мясокомбинат затемно, когда проезд был еще забит туманом, как ватой, и под ногами щелкала крупа изморози. Костя спал. Катя – тоже. А выздоровевшая Кланька приближалась к Крестьянской заставе в тот самый момент, когда машины сворачивали в проезд Рогачева. Анисья Петровна? «Графиня», даже если бы ей сказали, что от любопытства молодеют, не побежала бы узнавать, зачем прибыла эта армада.
Но беды не было никакой. К десяти часам вернулась тетя Нюша. Она уложила голье в миску, поставила меж окон – и на улицу. С ходу пробилась к главному:
– Глянь, сынок! Народу–то! Одни говорят, газ будете проводить, другие – канализацию. А иные брешут, что дома сносить начнете. Верно ай нет? А ежели сносить, то с нами–то как же?
Липецк понравится Гаврилову. Было что–то притягательное в соединении тихой мастеровой провинции петровских времен с кипучей современной жизнью. В городе десятки крупных заводов: тракторный, ферросплавный, чугунолитейный, силикатный, радиаторный, цементный, известковый…
В Липецке Гаврилов впервые не в кино, а в жизни увидел, как варится металл.
Особенно большое впечатление произвела на Гаврилова разливка стали и трогательное отношение сталеваров к мартеновской печи, которую они ласково называли «мартыном».
Стоя на берегу реки Воронеж, любуясь игрой хрустальных изломов вздутого полыми водами льда, Гаврилов думал: а может быть, ему стоит занять должность городского архитектора и остаться здесь? Архитектор, как только увидел у Гаврилова фотографии его проекта, прямо вцепился в столичного гостя: старик давно просился на пенсию, молодой архитектор понравился ему.
Был момент, когда Гаврилов готов был согласиться. Но тут же перед глазами возникал знакомый облик: лохматые брови, сухонькое лицо, борода клинышком, реденький сивый волос – академик Удмуртцев. Остаться в Липецке – значит признать себя побежденным этим старичком. Нет! Он вернется в Москву.
Удмуртцев – вот кто тянул его в столицу. Больше, в сущности, никто и ничто.
Через месяц, возвращаясь в Москву, на станции Грязи Гаврилов вышел купить газету.
Стоя в очереди у киоска, он рассеянно слушал радио: передавались «Последние известия». Вдруг диктор объявил: «Прием руководителями партии и правительства группы архитекторов города Москвы…»
Гаврилов поспешил к репродуктору. В коротенькой информации было передано, что вчера в Кремле был прием группы видных архитекторов Москвы. Перечислялось несколько имен, среди них Складнев и академик Удмуртцев.
Руководители партии и правительства осмотрели выставку новых проектов. Несколько проектов получили одобрение. Среди авторов отмеченных проектов был упомянут и Гаврилов.
Такси пришлось остановить на Дубровской улице – широкой асфальтовой магистрали, которую дворники называли «улицей первой категории». Совсем недавно эта улица была тихим, одетым в булыжник закоулком, но пришли строители, возвели путепровод через овраг, по которому бегал «товарняк», и тихий переулок вышагнул к заводу шарикоподшипников, а там свернул вправо, к автомобильному заводу, и стал столичной магистралью.
Гаврилову пришлось идти к дому пешком – проезд Рогачева был весь изрыт.
Дома его встретила тетя Нюша:
– Василь Никитич! Как же хорошо, что ты явился! Сносют нас! Глянь, что деется, – она показала на окно. – Глянь!
За окном лежал огромный пустырь. Давно ли там бегали поезда, волоча за собой космы дыма и пара, а за железной дорогой рылись в кучах мусора куры, собаки? Теперь не было ни оврага, ни поездов. По ровному полю ползали бульдозеры.
– Новую улицу делают! А теперь глянь поближе. Ничего не видишь?
Гаврилов покачал головой:
– Нет!
– Да как же это… Тут же сирень была! Ай не помнишь?
– Помню. Ну и что?
– Пересадили ее. Сперва–то бульдозер расскакался и хотел с маху ее снять. Ну, а я на него: «Куда же, – говорю, – ты?». А он: «Как куда? Тебе ж, – говорит, – советская власть хочет новый дом строить, а ты – куда!» – «Ах ты, – говорю, – сокрушитель!» А он мне: «Бабушка! Послушай, что я тебе скажу. По этим домам, – говорит, – Красная Армия еще в семнадцатом году из орудий стреляла. Это же проклятое наследство! От капитализма осталось!» Еле уговорила. Сирень пересадили, а куда нас денут? Кассирша со своим безногим переехала в Черемушки. Вчера за справкой явилась. Бабы ее обступили – цельный час рассказывала… Ну, а ты–то как, Василь Никитич? Чаю или, может, исть хочешь?
– Спасибо, тетя Нюша, я ничего не хочу. Писем мне не было?
– Писем нет, а газеты вот тут сложены. – Она вздохнула и после короткой паузы сказала: – В воскресенье Кланька к университету возила меня. Ну и понастроено там! Есть там такое место, откуда Москва как новый гривенник на ладони блестит. Красиво! Жизнь такая открывается, а скоро умирать.
– Ну что вы! Какое там умирать!
Тетя Нюша повела плечами, улыбнулась и продолжала разматывать клубок новостей:
– У моей ухажер новый… Тебя месяц не было, а тут столько накрутилось! Вижу, устал ты… Ложись, отдыхай, тут все у тебя чисто: чуть ли не каждый день убирала.
Гаврилов поблагодарил и сказал, что он не устал и ложиться не будет, поедет сейчас на работу, только переоденется.
Тетя Нюша поняла, что ей нужно выйти. Проходя мимо комода, она задержала взгляд на портрете Либуше, покачала головой и вышла.
Гаврилов подошел к окну, долго глядел на красные корпуса домов шарикоподшипникового завода, на поле, созданное людьми на месте бывшего оврага, и в голове, как осенние облака, пронеслись мысли: «Вот нет еще одного болота, еще одной свалки, – скоро здесь подымутся светлые дома, молодые деревья, цветы, как же хорошо все это!»
Наскоро побрившись и переодевшись, он вышел из дому. Пешком дошел до Крестьянской заставы, там взял такси и поехал в мастерскую.