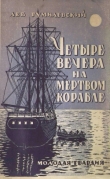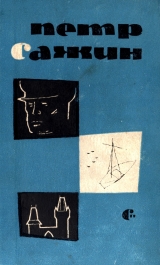
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
Не будь Гаврилов русским офицером, ему и Либуше тоже пришлось бы, прежде чем сесть за столик, постоять в очереди. Но русскому, да еще танкисту, с тремя нашивками за ранение, с усыпанной орденами грудью, везде находилось место.
И Гаврилов с Либуше весьма скоро приняли подданство Гамбринуса. Давно Прага не дарила таким вниманием своего самого веселого короля!
Полковник Бекмурадов дал Гаврилову отпуск на шесть дней, при этом заметил, что тот плохо выглядит и ему не недельный отпуск, а санаторий требуется. И подполковник Скурат так считает: почему бы Гаврилову не поехать? Возможность сейчас есть: правительство Чехословакии предоставило Советской Армии самый большой санаторий на курорте Карловы Вары.
Гаврилов поблагодарил, но от санатория отказался. Полковник вскипел, назвал Гаврилова «мальчишкой», который ничего не смыслит, если отказывается от «мирового» курорта. Гаврилов промолчал. Полковник успокоился, закурил и стал рассказывать, какой «замэчательный» курорт Карловы Вары! Он ездил туда с Морошкой, когда Гаврилов лежал в Травнице. На курорте есть дом, в котором жил «цар Петр I», кузница, где он работал, трактир на горе.
– Ну как, поедешь?
Гаврилов снова замотал головой. Полковник покраснел и с безбожным акцентом, раздраженно спросил:
– Слушай, Гаврилов, что ти за человек?! Ти как думаешь, Карл Маркс умнее нас с тобой? А?
– Безусловно.
– Да? Так вот: он тири раза ездил туда! Из Лондона! Через Ламанш переправлялся. Балной савсэм. Сколько в поезде трясился, да на лошадях… Э-э!.. – махнул рукой полковник. – По твоему физиономию вижу – не хочешь ехать. Твое дело. Гуляй. Прага – хороший город, правда, староватый. Но ты любишь архитектуру, тибе панравится.
Гаврилов готов был уже идти, но Бекмурадов остановил его.
Попросив Гаврилова не обижаться, полковник помолчал немного и начал говорить о том, что вот–де современные женщины в условиях войны одиноки и потому охотно откликаются на ласку. Этим пользуются разные хлюсты, а некоторые, как выразился полковник, «стали прямо автоматчиками в этом деле». Находятся и такие мерзавцы, которые обещают жениться.
Полковник встал из–за стола и, шагая по кабинету, сердито продолжал, что пора–де понять, что мы не в завоеванной стране. Чехи и словаки – наши братья.
Резко остановившись, полковник спросил Гаврилова – ясно ли ему?
Гаврилов слегка побледнел.
– Ясно, – глухо сказал он и после небольшой паузы спросил: – А если люди любят друг друга?
– Любят? – спросил полковник.
– Да!
– Слушай, Гаврилов! Ты умный парень, ты не знаешь правил уличного движения? Что надо делать, если над улицей висит «кирпич»? А? – Он неожиданно громко, фальцетом, прокричал: – Умный водитель, когда видит такой знак, жмет на тормоз! Понимаешь? Потом задний ход! Ясно?
Гаврилов помедлил с ответом.
«Разве любовь, – думал он, – подчиняется каким–то правилам? Разве признает она границы? Или ей визы нужны? Разве ее можно остановить, как автомобиль, нажатием на тормозную педаль?»
– Нет! – сказал Гаврилов после затянувшегося молчания. – Я не согласен с вами, товарищ полковник! Любовь не подчиняется правилам уличного движения. Нет, товарищ полковник, и тормоза тут не подходят.
– Ты, наверно, поэт, Гаврилов? А?
– Нет, товарищ полковник! К сожалению, нет.
Полковник закурил и, выпустив облако дыма, спокойно оказал, что Гаврилова интересно слушать. И он поговорил бы с ним еще на эту тему, но ему некогда, – он показал на лежавшие перед ним бумаги, – их ждет генерал, и если они через час не будут на столе генерала, то ему, Бекмурадову, секим башка будет.
Не присаживаясь, полковник уткнулся в бумаги и, протянув Гаврилову руку, закончил разговор одним словом:
– Жэлаю!
Получив отпускное удостоверение, Гаврилов вышел из штаба, рассуждая, что шесть дней, как их ни верти, это всего–навсего шесть дней. А что шесть дней, когда им с Либуше нужна вечность! Но что же делать? Ехать к Либуше – вот что! К черту все «тормоза», «кирпичи» и «задние хода»! Закатятся они сейчас в один из тихих уголков весенней Праги и, как говорится, ищи ветра в поле!
В Праге Гаврилов и Либуше чувствовали себя, как птицы в лесу, – лети куда хочешь. Не было к тому же ни настороженно–вопросительного взгляда «милого Иржика», ни грустного, сдобренного какой–то холодной фарфоровой улыбкой лица дяди Яна. И потом, Травнице – крохотный, как скворечня, городок. Жизнь в нем, несмотря на тщательные попытки травничан укрыть ее от посторонних глаз, проходит на виду. А здесь, в шумном Стобашенном городе, столько глухих, очаровательных уголков! Здесь, без оглядки на людей, они хорошо могут провести время. Провести время? А как же предупреждение полковника? Но ведь это к нему не относится. Он же не подлец, чтобы бросить Либуше после того, как она стала его женой! Нет, он не собирается давать «задний ход» или там нажимать на «тормоза». Полковник, как говорят сибиряки, сделал ему «намек». Ну и что же?
Всякий раз, когда они выходили из дому, возникал один и тот же вопрос: «Куда идти?»
Гаврилов говорил, что ему все равно, лишь бы не в Смихов, где стоял их полк, и не на Вацлавскую площадь, где сплошные ожерелья магазинов и отелей и где столько военного начальства, что правую руку надо привязывать к козырьку, а то еще пропустишь какого–нибудь ретивого службиста и получишь вместо удовольствия нагоняй. И все же – куда идти?
Они не могли осмотреть всего, куда там! За шесть дней это просто невозможно. Но Гаврилов все же хотел, хотя бы бегло, посмотреть наиболее интересные места и архитектурные памятники.
Либуше показала ему Градчаны, Страговский монастырь, Летну и Петржин. Гаврилов долго стоял у чуда «поющей готики» – собора св. Вита и перед порталом храма св. Иржи.
Он таскал с собой альбом для набросков. У него, как говорят художники, был «цепкий карандаш» – всего лишь несколькими штрихами он умел «схватить предмет».
Либуше нравились рисунки Гаврилова. Прага выглядела как настоящая. Но ее интересовало, какая Москва. Ее вопросы не мешали Гаврилову делать наброски. О Москве, о милой Москве, где ждет его мать, он мог говорить сколько угодно. Либуше понравилось имя матери Гаврилова. Несколько раз она повторяла:
– Екатерина! Очень хорошо! Ека–терина!..
Либуше была любопытна, как каждая женщина. Ее все интересовало: есть ли в Москве река и как она называется, есть ли Старо Место, как выглядит университет, сколько в Москве надражи – вокзалов, как выглядит метрополитен.
Гаврилов рассказывал о Москве с вдохновением. В воображении Либуше вставали сказочные картины в стиле Рериха…
Говоря о Москве, он порой забывал о рисунке, горящими глазами смотрел на восток, и ему виделось раннее московское утро, медленное течение в граните новых берегов Москвы–реки. Легкая кисея пара над водой. Золотой блеск куполов Ивана Великого. Коронное оторочье кремлевских стен и чудо–башен. А за рекой – широкая Красная площадь. Храм Василия Блаженного кажется нерукотворным. Над Красной площадью, над тихой рекой – малиновый звон курантов, будто дровосек–кудесник колет серебряные чурки… Либуше слушала его, чуть дыша.
Медленно текут воды Москвы–реки. Порой их движения не видно, и тогда кажется, что это не река, а боевой пояс русского богатыря, брошенный наземь после жаркого боя, и Кремль – не сход чудо–зданий, а златокольчужная грудь богатыря, прилегшего отдохнуть. И храм Василия Блаженного, отделанный дорогим узорочьем, вовсе не собор, а кованный из злата шлем, снятый богатырем. И мостовая Красной площади тоже вовсе не мостовая, а кудрявая борода богатыря.
Москва… Как красиво рассказывает о ней Василь! Скоро ль Либуше увидит ее?
А Гаврилов думает о своем – хорошо стоять с любимым человеком у стены Вышеградской крепости – древней цитадели князей чешских – и смотреть на раскинувшийся внизу Гуситский городок, на величественную Влтаву, на затянутые дымкой дали! Но время течет быстрее вод во Влтаве. Вот уже и прошло четыре дня отпуска, осталось два, и снова в часть. Эх! Либуше, Либуше! На радость иль на горе ты встретилась русскому парню – донскому казаку?
На Вышеграде, возле собора святых Петра и Павла, покоятся останки Бедржиха Сметаны, Карела Чапека, Яна Неруды, «первой скрипки мира» – Яна Кубелика, скульптора Вацлава Мысльбека, Божены Немцовой.
А на скале над Влтавой стоит небольшое, с виду неказистое здание – Либушина баня. Здание это – кладовая легенд и преданий о премудрой княгине Либуше. Одно из них гласит: владевшая даром пророчества юная супруга князя Пршемысла, красавица Либуше, глядя с высокой скалы Вышеграда на долины с полями зреющих хлебов, вдруг впала в экстаз, протянула вперед руки и, указывая на синеющие за рекой леса, заговорила пророческим языком: «Вижу огромный город, слава которого возвысится до небес».
В сказаниях народа и в его эпических преданиях, как известно, быстро исполняются все желания – чехи построили город в том месте, на которое указывала княгиня Либуше, и назвали его Прагой.
– А что ты мне скажешь, Либуше? – спросил Гаврилов, когда Либуше рассказала ему эту легенду.
Либуше протянула руки в сторону Москвы.
– Вижу, – начала она, – великий город, его слава звезд коснется. Все планеты склонятся перед ним. Этот священный город – тебе строить! Такова моя воля!
Она опустила руки и звонко засмеялась. Гаврилов хотел было обнять ее, но услышал шаги. Он оглянулся – к вышеградской стене поднимались полковник Бекмурадов и подполковник Скурат.
Глава восьмая
Через два дня после неожиданной встречи с полковником на Вышеграде Гаврилов трясся в вагоне – поезд покидал Прагу, держа курс на Берлин. За окном шагала весна, а у Гаврилова на душе хмуро, как в ненастный осенний день. Как же теперь Либуше будет без него? Но он же ненадолго – всего на месяц, говорил ему полковник… Ненадолго! Хорошо ему говорить, когда он уже двадцать лет женат и, похоже, не очень–то скучает; Гаврилова только дисциплина держит, а если бы дал волю чувствам, да–авно бы спрыгнул с подножки вагона и кинулся бы в Прагу, к Тынскому храму. Эх! Жизнь солдатская!..
Из Берлина Гаврилов отправится в Москву самолетом. Две недели в подмосковном армейском санатории, неделя на маршировку, и затем – парад.
Парад предстоит грандиозный. Его участники – Герои Советского Союза, герои десантов и штурмов, кавалеры боевых орденов всех степеней, прославленные герои Отечественной войны.
Конечно, Гаврилов мог бы отказаться от поездки по состоянию здоровья. Но такой парад бывает раз в сто, а может быть, и в двести лет!
Нет! Он, конечно, правильно и даже, более того, умно поступил, что согласился! Правда, он все еще чувствует слабость и еще не известно, способен ли вынести шагистику перед парадом. До сих пор еще ходят круги перед глазами и кажется, что небо и земля меняются местами, стоит лишь поднять голову. А сделаешь резкий поворот – такое ощущение, словно падаешь. Нарушен вестибулярный аппарат, – кажется, так говорила Либуше. Впрочем, у него впереди две недели отдыха.
Интересно, понравились ли Либуше фотографии, которые он сунул ей в руку перед отходом поезда? Достаточно было бы одной, той, где он снят в гимнастерке с орденскими планками и в пилотке. А те две, конечно, зря. Ну зачем было напяливать на себя парадную сбрую со всеми орденами и медалями? И еще с этими, ну, с английскими и польскими крестами. И фуражку с бархатным околышем… Но Либуше не осудит его.
И все же на сердце тяжело, как будто влез с танком в трясину, как тогда, когда штурмовали Зееловские высоты. Ох и хлебнули тогда горя! Легче, казалось, океан на бревне переплыть!
Монотонная качка вагона убаюкивает Гаврилова, он засыпает. Просыпается в Дрездене. Идет посадка. Пассажиры – тоже офицеры, тоже едут в Берлин, а оттуда в Москву.
До Берлина часа три, вероятно. Вошедшие в вагон шумно переговариваются, пристраивают свой багаж. А Гаврилова снова бросает в сон. И немудрено – две последние ночи прошли почти без сна. Сколько было переговорено, сколько исхожено за эти ночи! Над Прагой висела почти прозрачная серьга луны. Стобашенный город тонул в ее серебристо–молочном свете. И Влтава текла, как серебряная лава. Хорошо было стоять на Карловом мосту, в тени статуй, и шепотом, в который раз, спрашивать: «Ты меня любишь?» – «Очень!» – «А ты?» – «И я очень!» – «Очень, очень?» – «Да!» – «А ну покажи, как!» Потом, под утро, когда лимонное небо начинает краснеть, идти на непослушных, усталых ногах через Старый город к Тынскому храму.
…За окнами вагона Германия. Гаврилов первый раз смотрит на эту землю, не разыскивая на ней никакой цели. Смотрит, но ничего не видит – мыслями он в Праге. В Берлине ненадолго отвлекают загорелые – улыбка во все лицо – свои, советские, солдаты, кормящие немецких детей из походных кухонь прямо на улицах.
Лишь когда самолет пересек границу где–то в районе Бреста, – как будто властная рука потянула его к иллюминатору. Родина! Вот она наконец! Поля, леса, реки, селения, дымы из труб… Тракторы ползут, как трудолюбивые муравьи. По дорогам за машинами стелется пыль. Картины вроде и однообразные, а оторваться невозможно. Посадка в Минске. Боже, до чего же хорошо ступать по своей родной земле! Какая она теплая, ласковая!
А когда сели на подмосковный аэродром, хотелось побежать по полю. Цветов сколько! Вон колокольчики целуются с ромашками. А там незабудки забрызгали низинку нежно–голубой краской. Хорошо бы поваляться в траве! Но куда там, уже кричат:
– По маши–и–нам!
Глава девятая
Поезд Прага – Берлин скрылся из глаз, а Либуше все смотрела и смотрела туда, где уже ничего, кроме рваного, мятого дыма, не было. А когда и дым развеялся, пошла к выходу на Гибернскую улицу. У дверей она обернулась, посмотрела еще раз в ту сторону, где скрылся поезд, и со вздохом стала спускаться по ступенькам. Итак, он уехал. Уехал и увез с собой их счастье.
Либуше не любила этого слова, в нем она чувствовала какую–то зыбкость… Нет, Гаврилов увез не счастье, а часть жизни, которой они жили вместе и без которой она теперь уже не могла жить.
Не успела Либуше сделать и двух шагов по улице, как очутилась в объятиях смуглой толстушки, которая обрушила на нее град слов. Это была Ганка Новакова, сокурсница Либуше по Карлову университету.
После объятий посыпались вопросы:
– Почему тебя долго не было видно? Как отец? Откуда у тебя такое чудное платье?
Либуше не успела ответить и на один из вопросов Ганки Новиковой, как та вдруг спросила, почему Либуше не была на похоронах Яна Витачека. Либуше остановилась:
– Как? Значит, Енда…
– А ты не знала?
У Либуше побелели губы.
– Нет, – растерянно сказала она, – я жила у дяди в Травнице.
Ганка рассказывала ей, каким храбрецом погиб Витачек, но Либуше ничего не слышала – как же она могла дать себе волю полюбить русского, в то время когда Енда сражался в Праге?
Очевидно, Ганка поняла душевное состояние подруги и поэтому не требовала от нее ответа, а продолжала рассказывать о том, что было в Праге в дни восстания, как она пряталась от фрицев, как два раза встречалась с Витачеком.
Либуше слушала Ганку, а думала о Гаврилове, который сейчас едет в поезде. Но мысли ее ненадолго задержались на русском: в эти минуты у нее появилась досада на него – словно в гибели Витачека была какая–то доля и его вины. Хотя если разобраться, то при чем тут Гаврилов? Енда все равно был бы в Праге, независимо от того, проходила бы или не проходила танковая колонна полковника Бекмурадова через Травнице. Нет, она виновата в том, что полюбила русского. Виновата? Но почему? У нее не было никаких обязательств перед Витачеком…
У Старого Места Либуше хотела попрощаться, но Ганка сказала, что проводит ее до самого дома.
По дороге Ганка выложила еще столько новостей! Самой важной была та, что Карлов университет, закрытый немцами в 1939 году, снова открылся и старых студентов принимают без экзаменов. Ганка говорила быстро и сумбурно. Она рассказала о том, что после похорон Яна Витачека студенты и профессора университета в едином порыве двинулись к могиле, в которой покоится прах студента Карлова университета, смертельно раненного немцами в 1939 году. У могилы состоялся митинг, и холмик ее был засыпан цветами.
Под аркадой Тынского храма Либуше протянула руку подруге.
– Заходи, Гана.
Ганка остановила ее:
– Постой, Либуше! Чуть не забыла…
Пока Ганка, коря свою память, рылась в сумочке, Либуше с трудом стояла на месте – ей было невыносимо тяжко, и она боялась расплакаться тут же на улице. Всего лишь полчаса тому назад она совсем не думала о Витачеке, Василь – вот кто владел ее мыслями и чувствами. И надо же было появиться Ганке именно теперь! Ах, Витачек, Витачек!.. Какое–то предчувствие подсказывало ей, что сегодня она потеряла не только Витачека, но и Гаврилова…
– Вот, – сказала Ганка подавая Либуше вчетверо сложенный листок, – Енда просил извинить его – конверта у него не было…
Лишь взбежав на третий этаж, Либуше вспомнила, что она не попрощалась с Ганкой. «Енда! Милый Еничек! Он еще просит у нее извинения!»
Раскаяние сковало ее на миг. Овладев собой, она наконец прочла записку:
«Либуше, дорогая!
Днем и ночью думаю о тебе. Не грусти, скоро мы встретимся. Это особенно ясно стало теперь, когда гитлеровские свиньи, испугавшись идущей нам на помощь русской армии, пытаются похоронить нас под обломками Праги. Кишка тонка!
Люблю тебя. Всегда с тобой, твой Енда».
«Всегда с тобой… Твой Енда». Боже! Зачем же существуют такие непрочные слова, такие обманчивые?»
Долго Либуше не решалась войти в свою квартиру, словно боясь, что там ее ожидают еще худшие известия. Она загадала себе – как только Ганка пересечет площадь – сразу войти в дом. С лестницы через окно хорошо было видно Ганку. Та шла медленно и все оглядывалась на Либушин дом. Милая Ганка, смуглая толстушка, с крупными маслянистыми глазами венгерки, стройная, если б не толстоватые ноги, как она была влюблена в Витачека! Добрячка, она однажды привела его и познакомила с Либуше. Скоро Витачек увлекся Либуше. Либуше помнит, как это случилось. Сколько слез пролила тогда Ганка! А теперь очередь Либуше. К горлу комок подпирает, душит, а слез нет. Что же она наделала! Либуше торопливо сунула ключ в дверной замок – ничего другого она сейчас не хотела, как плюхнуться в кресло и забыться, оттолкнуть от себя мысли о Витачеке, о русском – освободиться от всех!
Когда Либуше вошла в гостиную, то увидела в кресле отца.
– Ты?!
Он ответил вопросом на вопрос:
– Не ждала?
Как ни старался Иржи Паничек скрыть истинную причину своего внезапного возвращения в Прагу, ему это не удалось: едва он увидел слезы на глазах своей баловницы, как все рассказал ей.
Конечно, если б он знал, какую бурю это вызовет и какие усилия нужны будут ему для того, чтобы успокоить разбушевавшееся море, может быть, он повременил бы с разговором или изменил бы тактику. Но «милый Иржик» не сделал этого.
Сколько же было крика, шума! Впервые «милый Иржик» услышал от дочери такие слова, как: «Кто тебе позволил?», «Какое ты имел право?»
Был момент, когда Иржи Паничек, вопреки принятому им в дороге из Травнице решению, чуть не отступил, чуть не согласился с тем, что он действительно не имеет никакого права поступить так, как поступил в данном случае. Но он удержал себя от капитуляции потому, что дело, которое заставило его без предупреждения приехать в Прагу, было слишком серьезное. Там, в Травнице, когда доктор Паничек узнал, что русский офицер сделал его дочери предложение, он отказался говорить с ним, а дочери весьма убедительно доказал, почему ей не следует связывать свою судьбу с чужаком. А что же получилось? На следующий же день после отъезда Либуше в Прагу от лейтенанта Гаврилова пришло в Травнице письмо. Оно было адресовано Либуше. Конечно, доктор не должен был вскрывать его. Но, подозревая, что в этом письме он найдет объяснение внезапному отъезду дочери в Прагу, он, после мучительнейших колебаний, вскрыл конверт и пришел в ужас. Ах, лучше бы Иржи Паничек не умел читать по–русски. В письме русский называл его дочь «милой и родной женушкой»… Значит, все уже свершилось? Вопреки его отцовской воли, она тайно стала женой русского офицера!
В первую минуту доктор хотел бежать на вокзал. Помешать, во что бы то ни стало помешать этому браку! Но когда он надевал пальто, неожиданно кольнуло в сердце – он едва успел добраться до кресла, где и остался до утра.
Утром он хотел посоветоваться с братом. Но Ян всю свою жизнь отличался тем, что никогда не умел дать дельного совета, он всегда уповал то на бога, то на время.
Иржи Паничек не находил себе покоя: что делать? Ехать или не ехать в Прагу? Иногда ему казалось, что ехать нужно непременно, но тут же перед его мысленным взором появлялась Либуше, и отцу становилось ясно: ехать не следует, нужно подождать. Он, как никто, знал характер своей дочери, унаследовавшей от матери и вспыльчивость и отчаянную решимость.
А как же быть с письмом Гаврилова? Отослать в Прагу? Нет! Это было бы по меньшей мере легкомысленно.
После долгого раздумья Иржи Паничек решился на очень тяжкий шаг: он сжег письмо! Какое он имел право? Конечно, он не имел никакого права, но он отец! А это большое право. Вот почему он приехал без предупреждения. Что?! Она все равно будет женой русского?
Иржи Паничек не успел и шага ступить к столу, о который хотел опереться, как пол вдруг полез вверх, а потолок стал стремительно падать на него…
Иржи Паничек пришел в себя на диване. Возле него хлопотал вызванный Либуше профессор Ярослав Смычек, светило чешской медицины. Старый доктор не сразу узнал друга, а когда узнал, хотел сказать что–то, даже шевельнул губами, но профессор Смычек заметил это и сердито покачал головой. Иржи Паничек понял, что положение его не намного лучше брошенного в кипяток рака. Однако умом он не хотел согласиться с этим. Нет, он все еще чувствовал себя молодцом. Да и что значат шестьдесят два года!
Правда, другие в этом возрасте разваливаются, но то другие… Его отец жил до восьмидесяти и все ел, пил вино и пиво и даже на женщин смотрел не отрешенным взглядом. Иржи хотел спросить Смычека, как его дела, – неужели полный табак, или он еще будет пить сливовицу? Смычек предупредил его.
– Придется тебе, старина, полежать, – сказал он ласково, как ребенку, и, заметив на лице друга выражение неудовлетворенного любопытства, добавил: – Вижу, ты хочешь спросить, что с тобой? Да? Ничего серьезного, вернее, ничего опасного, но сердчишко твое мне не нравится. Не нравится… Оно выглядит старше тебя. Понял? Слишком много ты заставлял его работать без нужды. Либуше рассказала мне, что тебя беспокоит. Слушай, Иржи, я не узнаю тебя. Заболеть из–за того, что твою дочь полюбил русский! Да ты знаешь, что теперь все чешские семьи хотели бы породниться с русскими? Куда ни придешь, только и разговору о русских….. Они везде желанные гости и лучшие друзья. Что? Она его любит? Тем лучше! Значит, полное соответствие интересов. Чего еще желать? Ах, Иржи! Ты забыл, как говорил наш «англичанин» в университете: «И булавке дана голова, чтобы она не заходила слишком далеко»! Забыл? Не думай, Иржи, ни о чем, не копайся в джунглях своей души. Помни, только спокойствие и время поставят тебя на ноги! Да ты и сам это знаешь. Ну, мне надо спешить! Меня ждет одна чертовски трудная консультация. Будь здоров! Завтра зайду.
Иржи Паничек устало улыбнулся. Смычек помахал рукой и вышел вместе с Либуше.
После его ухода Иржи Паничек сокрушенно вздохнул, думая о том, что сказал ему профессор.
– Да, – пробормотал он, – хорошо говорить: «спокойствие и время». Нет, дорогой профессор, бывают обстоятельства, когда ничего не подчиняется ни времени, ни спокойствию! Недаром говорится: «Когда счастье отвернется, то и от киселя ломаются зубы!»
Заметив Либуше, возвращающуюся из передней, доктор Паничек закрыл глаза: он не хотел видеть ее сейчас. Лежа с закрытыми глазами, он продолжал думать все о том же. Мысли злобили его. Боже! Неужели для того, чтобы его дочь стала счастливой, ему, ее отцу, нужно уйти из жизни? Ну разве он стоит на ее дороге? Какая ерунда! Может быть, он ей или она ему – враг?.. Ах, зачем русские танки остановились в Травнице? Зачем, наконец, его понесло из Праги к брату? Испугался за судьбу дочери? Испугался, в то время как другие не побоялись рискнуть всем… Ну что ж, теперь надо платить по счету. Но сколько же можно платить? И разве он не платил? Разве он забудет когда–нибудь звонок из Пльзеня и задыхающийся, хриплый голос: «Час тому назад произошла автомобильная катастрофа… Убита Марта Паничекова…»
Как он закричал тогда: «Вы с ума сошли! Марта Паничекова не может быть убитой!».
Оказалось, что может. В гробу она лежала, как живая. Только в уголках рта вечным упреком застыла горечь. Мамичка Марта! Как же тяжело ему сейчас! Неужели конец? Он–то знает, что значат слова Смычека: «Не нравится мне твое сердчишко…» Иржи Паничеку стало жалко себя: ведь в сущности он так и не успел пожить, как мечтал. Неужели жизнь должна состоять из уступок и потерь?.. Сначала мамичка Марта, а теперь Либуше. Как же получилось, что он недоглядел за дочерью? Но где же было доглядывать, когда этот русский попал к ним в дом еле живой! О боже! Смычек сказал, чтобы я не ломал себе голову. Но попробуй не ломать, когда мысли сами лавиной катятся на тебя… А что я могу в моем положении? Помешать Либуше уехать в Россию – вот что я должен сделать! Да, да! Помешать! А каким образом? Пока не знаю. Главное, чтобы Либуше осталась здесь… А лейтенант пусть отправляется в свою Россию! Спустя время любовь остынет, и Либуше выйдет замуж за чеха и будет жить рядом с отцом. А уж если они не смогут жить друг без друга, то пусть это произойдет после его смерти.
Придя к этой мысли, Иржи Паничек вскоре уснул.
Ночь Либуше провела тревожно. Отец хотя и спал, но сон его был непрочным, «милый Иржик» то бормотал что–то, то причмокивал губами, то вдруг начинал порывисто дышать, казалось, что вот–вот наступит момент, когда ему не хватит воздуха.
Отец был очень бледен. На впавших, чуть окинутых желтизной щеках, на тонком, с красноватой вмятиной от седельца очков носу и на морщинистой шее – да на всем обозначилась годами накопленная усталость.
Весь следующий день Иржи Паничек лежал молча, глубоко и тревожно вздыхая. Либуше была занята по дому, но часто заходила к отцу и спрашивала, не нужно ли ему чего–нибудь. Иржи Паничек даже не поворачивал головы в ее сторону, бурчал, что ему ничего не нужно, и продолжал смотреть на стену, на которой висели портреты мамички Марты, его отца, матери, бабки, деда, прадеда… Бритые, бородатые, в цивильном платье, в военных мундирах. Все они со времен князя Пжемысла, несмотря на посягательства мужчин других кровей, упорно отстаивали чистоту крови. Чех женился на чешке, чешка выходила замуж за чеха…
А что теперь будет? Если он допустит этот брак, то у Либуше родится ребенок от русского, и конец роду Паничеков! Не–ет, этого не должно быть! Иржи показалось, что самый славный и строгий в их роду – усатый, с выбритым до глянца подбородком, с кинжальным взглядом маленьких глаз, стриженный под ежика, – дядя Мирослав согласно кивнул ему, как бы говоря: «Ты прав, Иржи, ты настоящий чех. Чех еще может жениться на иностранке, но чешке уходить под кров другой нации нельзя, нет!» Рядом с дядей Мирославом – портрет дяди Карла в военной форме. И дядя Карл тоже согласно кивнул ему.
Вечером того же дня, когда Либуше, напоив чаем отца, стала собирать посуду, отец объявил ей:
– Я хочу поговорить с тобой.
Либуше хотела сказать, что ему нельзя разговаривать, но, встретив его взгляд, полный решимости, поняла, что возражать бесполезно, согласно кивнула:
– Хорошо, папа.
До болезни доктора Иржи Паничека хозяйкой в его доме была Либуше – что она хотела, то и делалось. Теперь, когда внезапная болезнь уложила отца в постель, все подчинилось ему.
Упрямая и стремительная, как горная река, капризная баловница Либуше неожиданно стала тише воды, ниже травы.
Прежде чем начать разговор, отец долго откашливался. Начало разговора было тоже осторожное, с многочисленными робкими «э-э» и «так сказать». Но когда Либуше стала возражать, «милый Иржик» сделался красным как рак. Он так кричал на свою дочь, что она, после нескольких попыток защитить себя, замолчала. Это оказалось лучшим успокоительным средством. Отец перестал кричать, но зато жестко потребовал, чтобы дочь забыла и думать о русском. Более того, он потребовал, чтобы она не писала ему сама и не отвечала на его письма.
Как не писать? Понимает ли он, что говорит? Да, понимает, он все понимает! Поэтому и требует не писать русскому.
Либуше, как загнанный соболь, металась в поисках выхода: ну что сказать отцу? Не подчиниться – значит убить его! Разве может она пойти на это? Согласиться с отцом – значит убить свое счастье. Что же делать?
Перед походом на Персию Александр Македонский роздал друзьям все свои богатства. Его изумленный полководец Пердикк спросил: «А что же ты оставляешь себе, государь?» Александр ответил: «Надежду!»
Надежда! Она мелькнула и в уме Либуше, когда, она сказала отцу:
– Хорошо.
Отец потребовал, чтобы она поклялась именем матери перед распятием. Либуше сняла со стены распятие и поклялась именем мамички Марты.
Придя в свою, комнату, Либуше упала на кровать. Она то плакала навзрыд, то безмолвно, словно окаменевшая, лежала без мыслей, без желания жить. К утру Либуше забылась. Проснувшись, она ужаснулась тому, что наделала. Исправить? Но как? На столике лежали конверт и бумага, приготовленные для письма Гаврилову. Либуше вложила белый лист бумаги в конверт с гавриловским адресом и разорвала его на части.
…Либуше крутилась как белка в колесе: университет, рынок, магазины, кухня, аптека. Ко всему этому прибавилась еще забота – скрывать от отца беременность. Но как скроешь ее? Тонкая, осиная талия неудержимо округлялась. Грудь набухала. Да и походка стала другой. Отец то ли в самом деле не замечал, то ли делал вид, что не замечает. Но наступил момент, когда дальше скрывать стало невозможно, и Либуше с трепетом, краснея и плача, рассказала обо всем профессору Ярославу Смычеку, умоляя его помочь ей. Старик долго хмыкал, протирая очки, затем забубнил какую–то песенку, шагая по передней. Либуше с волнением и страхом следила за своим учителем. После бесконечных томительных минут профессор Смычек подошел к Либуше и, похлопывая ее по плечу, сказал:
– Об аборте и речи быть не может. А с Иржи… Я плохой врач в таких делах. Но попробую.
Пока профессор находился у отца, Либуше была в передней. Конечно, ей, как и каждому, кто очутился бы на ее месте, показалось, что они говорят целую вечность. Но вот открылась дверь, и Смычек, красный, взъерошенный, сказал: