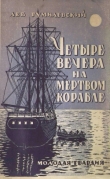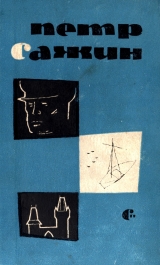
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
Или смотреть, как Данилыч таскает серебристых судачков с плотным брусковатым телом? Нет! Не выходит одно, надо пробовать другое! На дне моего походного мешка из нерпичьей шкуры, не раз сослужившего хорошую службу, лежат легкая водолазная маска и ласты. Это была пока еще новинка, вызывавшая зависть многих исследователей морской фауны и флоры, любителей подводной охоты. Мне дал их с собой мой научный руководитель профессор Сергейчук. Перед отъездом из Москвы я несколько раз ездил к нему на Николину гору и там, на Москве–реке, под руководством профессора научился пользоваться маской. Увидев меня в маске и ластах, Данилыч забыл про удочку, которую какой–то проворный судачок вырвал у него из рук.
Я опускаюсь в воду. Данилыч кричит мне, чтобы я достал удочку. На крючке оказался судачок, которого местные рыбаки называют «секретом». Он вертелся в воздухе как бешеный. Я лег на воду и поплыл, старательно вглядываясь в толщу воды. На моих губах, очевидно, еще держится улыбка, потому что я плохо сжимаю рожок для дыхания, а перед мысленным взором все еще торчит крохотный, с белым, нежным пузиком и стеклянными глазами судачок «секретик». «Как ловко он утащил у Данилыча удочку! А ведь маленький, не больше уклейки!» Секрет… «А не в нем ли секрет трех крестов?» – проносится у меня в голове еще робкая мысль.
46
Профессор Сергейчук не зря нахваливал свой легкий водолазный аппарат: через желтоватый, как фотографический светофильтр, иллюминатор маски было отлично видно все. Стекло, вероятно, обладало оптическим фокусом, который избавлял предметы, находящиеся в воде, от искажения. Перед моими глазами природа моря, или, как говорят биологи, «пищевая цепь», представала в натуральном виде. Как одно из многочисленных звеньев этой цепи попали в поле зрения бычки. Будто несчитанные отары овец, они едва приметно для глаз двигались то вперед, то назад. Они, очевидно, кормились; под ними на необозримых полях жирного илистого дна располагались огромнейшие колонии моллюсков, синдесмии и балянуса.
Я вздрогнул от этого открытия. «Ну, конечно, – подумал я, – вот где скрывается секрет трех крестов капитана Белова!»
Обозревая бычковую мель, я плыл дальше. Место было очень интересное: Белосарайская коса с северо–запада, а Долгая с востока образуют здесь переём в теле моря, похожий на горло бутылки. На север от этого переёма тянется Таганрогский залив. После обследования Темрюкского залива мне надо бы сходить через это горлышко к донским гирлам. Чует мое сердце: там столько интересного встретится! Но вот успею ли я? Придется еще побиться над разгадкой секрета трех крестов. Вряд ли капитан Белов обозначил тремя крестами только бычковую отмель! Я думаю, что тут скрывается что–то еще и, быть может, самое неожиданное! Иначе зачем было ему ставить возле трех крестов вопросительный знак?
Увлеченный этими мыслями, я продолжал плавание, забыв о времени. Неподалеку от меня шныряли судачки, поблескивая белыми брюшками, а тарань и селява словно резали воду своими серебристыми тельцами, похожими на лезвия. Несколько мелких севрюжек, остроносых и усатых, похожих на волжских стерлядок, сначала испуганно проскочили перед иллюминатором, но затем, словно убедившись в том, что я их не съем, зашли с другой стороны и долго глядели на меня, затем отвалили в сторонку, подержались немного там и шмыгнули куда–то в морскую серую муть. А бычковая отара, то шевелясь, то замирая, ползала по дну, и мне казалось, что ей нет конца.
«Почему же, – думаю я, – ловцы «Красного рыбака» пошли на юг, а не сюда? Неужели капитан Белов держит это место в секрете? А может быть, белосарайское скопище бычков – «личный резерв капитана Белова»?»
Пробежавший по телу озноб заставил меня подумать о возвращении на шлюпку. Я поднял голову и увидел метрах в двухстах от себя нашу славную калабуху. Данилыч махал мне кепчонкой и, по–видимому, кричал что–то, а что, я не мог расслышать: шлем наглухо закрывал уши.
Я энергично заработал руками и ногами, чтобы согреться. Данилыч продолжал что–то говорить, показывая на живот и рот. «Ага, – подумал я, – пора обедать!» Только с помощью Данилыча я взобрался на лодку.
– Ну шо? – спросил он.
Я с трудом отдышался, а потом рассказал о чудесах, какие увидел под водой.
Данилыч всплеснул руками.
– Ай да Мыкола!.. От орел! Скажу я тебе, Лексаныч, тут у него не простая захоронка, он шо–то богацкое задумал! Я ж говорил тебе, шо капитан Белов опыты на море ведет, и, видно, не простые. А чего он там робит, не говорит, ни–ни… Как ни спрошу: «Шо ты, Мыкола, там на море робишь?» – он плечи подыметь и меня спросить: «А шо ты, – говорит, – каждый год делаешь на винограднике?» Чего ему на это скажешь? Известно, шо люди делают на винограднике, а он давай байки заливать, шо «море – это як сад, как походишь за ним, так и уродит». Чудно!.. Я думал, шо он, как Скиба, смеется с меня. Ить Скиба, энтот жлоб, шо выкинул? Пустил байку, шо я книги вверх ногами читаю… Ну не жлоб? А с чего пустил такой слух? Манилом я его обозвал, вот с чего.
– А что значит Манил? – спросил я Данилыча.
– Как же, Лексаныч, задумал он тут в один год из Слободки сказку Эльдораду исделать. Начал он об этом на собрании говорить. Кое–кому это нравилось… Был тут у нас до Маркушенки секретарь горкома Цюпа, он любил, когда на собрании богацко говорили. Ну, а если кто скажеть, шо мы цей план будемо выполнять под руководством товарища Цюпы, он тильки шо на небо не возносился. А де она, сказка, когда после войны у хатах свету не було, по воду за версту ходи, за билым хлибом надо было с ночи в очереди стоять; керосину в лавках ни–ни… Уголь! Поймай машину, дай шоферу тысячу карбованцев в зубы, он тебе с Донбасса привезеть… В пятьдесят четвертом году приихав до нас секретарь обкому, собрал неочередную конференцию и снял Цюпу. Да еще как! Манилом назвал его. Ну, тут все говорять: «Манила да Манила». А шо це, я не знав. Спросил Мыколу. Он принес мне книгу Гоголя, сочинение «Мертвые души». «На, – говорит, – почитай и узнаешь, кто такий был Манила».
Для меня, Лексаныч, читать – не то шо сетки сыпать… Но прочел я. Прочел и чую, шо быдто вырос, быдто на двух ногах хожу… Вот книга – на миллион! Два раза прочел и заплакал. Эх, думаю, хороша Советска влада, да рано я народился: не успел уму научиться – все мое детство у куркуля пропало. Вон теперь не только хлопчики, но и девочки, да не только те, шо способные, а и те, шо рассамые обыкновенные, – все учатся, в люди выходят… Эх, думаю, поучиться бы мне, да… Эх и пошла бы жизнь! Теперь тильки и жить!
…Пришло собрание, и от Скиба опять встаеть и давай про планиду, про Эльдораду свою, как кочет на зорьке. Не стерпел я, Манилом назвал его. Шо тут было!.. С тех пор пошел он всякие байки распускать: ишо книги я вверх ногами читаю и шо пью… А я его критикой, как морского кота, сандолью – раз, и ваших нет!
Как он ни вертелся, а народ заставил его колонки поставить, клуб отстроить, торговлю привесть в порядок… Вот, Лексаныч, как оно было! Вот на его место Мыколу бы. Но нет! Мыкола як вон та птиця: он и по земле пройдет – почуешь, и в небо взовьется…
Ну, заговорил я тебя, Лексаныч, совсем. Давай на косу высадимся да поснидаем… Шо–то ты, Лексаныч, как той замерзыш, дрожишь? На–ка, держи куфайку… Иль давай прыгай на берег, бери конец, тащи байду. Ну–ну, смелей! От так! Мужик ты, Лексаныч, скажу тебе, на миллион! Давай трошки побегай! От так! А я рибой займуся. Эх, Лексаныч, Лексаныч!
Я не слышал, о чем говорил Данилыч дальше, припустился бежать по золотому песку отмели. Море, берег – все затягивалось тонкой кисеей белесой осенней мглы.
47
Долго бежал я и никак не мог согреться. Вот уже кончилась коса, а я все бегу и бегу. Под ногами у меня уже не песок, а ослепительно сверкающий снег. Мороз за пятки хватает. Холодно мне – беда! А сил нет, сердце стучит, как мотор на сейнере, пот градом льет, глаза застилает. Впереди солнце – красное–красное, на горизонте видны пески и морские волны. Они кажутся близкими, теплыми. Вот дотянуть бы до них, окунуться бы в теплую воду! А сил уже нет – ноги почти не двигаются, вот–вот упаду. Тут, откуда ни возьмись, появляется капитан Белов. Загорелый, с пышными светлыми усами, крепкий и плотный, как боксер. Он шепчет мне прямо в ухо: «Подтянитесь, Сергей Александрович, еще бросок – и вы у разгадки секрета трех крестов». Я делаю этот бросок с таким усилием, что в сердце что–то обрывается, но я достигаю горячего песка. По инерции я пробегаю еще несколько метров и падаю. Когда отдышался, увидел у берега сейнер и на мостике его капитана Белова. Под бортом сейнера тузик, нагруженный крестами. Капитан Белов показал мне на кресты и захохотал. От его смеха море вздулось и пошло выплевывать волну за волной, поднялся ветер, и мне опять стало холодно.
«Что, – спросил капитан Белов, смеясь, – плохо вам, Сергей Александрович? Будет еще хуже, если будете доискиваться секрета моих крестов. У меня вон сколько их! Посмотрите!»
Я глянул на тузик и ахнул: кресты лежали на нем пирамидой, поднимавшейся выше мачты сейнера.
«Вот сколько их, – сказал капитан Белов, – и дома осталось еще столько же! Будете десять, двадцать лет биться, а все равно вам не отгадать тайны моря!.. Эх вы, ученые–мученые! Прежде чем стать учеными, надо вот тут порыбалить лет десять… Ничего у вас не выйдет! Не с вашими приборами, не с вашим опытом соваться на наше море… Другие ученые вперед идут, а вы что? Запомните: ничего у вас не выйдет! Не выйдет! Не выйдет! Слабак вы, Сергей Александрович!»
Мне было очень тяжело, не хватало воздуха, чтобы вздохнуть, не хватало сил, чтобы поднять руку, не было мочи, чтобы крикнуть, – все во мне словно онемело. Но я не хотел оставить без ответа слова капитана Белова. Нет! Я должен был сказать ему, что я не слабак. Я должен был сказать так, даже если бы сразу после этого пришлось умереть. Я напрягаю силы и кричу: «Нет, выйдет!.. Выйдет!»
Тут что–то холодное коснулось моей головы – и кошмар кончился, я очнулся. Ладонь Данилыча лежала на моей голове.
– Очнулся, Лексаныч? – сказал он сияя. – Ну вот, теперь дело твое пойдет на лад… А кричал–то как! Спорил с Мыколой, меня вспоминал. Я думаю: все, пошел мой Лексаныч пузыри пускать… Шо, не веришь? Га! Третий день уж лежишь!.. Наверно, тогда еще, как во второй раз пошел в воду, и оженила тебя подосенница. Ух, и мамлюга – на миллион! И я ничего не мог сробыть с ней: кругом, кроме птиц, как у лысого на голове. Тут бы «нечуй–ветер» на кипятке отварить да дать тебе богацкую порцию – живо встал бы. А где тут траву взять? Станица–то во–о–он где: близко видать, да далеко дыбать! На маяк сходил бы, да тебя одного оставить нельзя. И на грех рыбаков тут нет рядом. Ну–ка, попей вот это. Шо такое? Перец, чеснок, махорка в одном гнезде – сила! Слона на ноги зараз поставит! Пей!
Я выпил.
– Ну шо? – спросил Данилыч.
Я покачал головой, потому что говорить не мог. Да где там говорить! Рта не мог раскрыть! Казалось, что в глотке застрял стручок красного перца.
…Неделю Данилыч ходил за мной, как терпеливая мать. Лихорадка, или, как называл он ее, «подосенница», «мамлюга», «трясовца», «матухна», вымотала из меня все силы, и я лежал пластом под брезентовым навесом, не имея сил подняться даже на локтях. Данилыч варил крепкую юшку, выпаривал коренья каких–то растений («нечуй–ветра» ему не удалось добыть) и пичкал меня несколько раз в день. Он уговорил меня даже выпить взвар из черной полыни и крапивы.
На седьмой день он поднял меня на ноги и, поддерживая железной рукой, прыгал рядом на костылях метров пятьдесят. На следующий день мы прошли с ним раза в два больше. Потом я шел впереди, а он позади, страховал. Когда он убедился в том, что я прилично держусь на ногах, оставил меня и отправился в ближнюю рыбацкую станицу – привез творогу, сметаны и несколько десятков яиц и стал меня «поправлять».
– Кушай! Кушай, – говорил он, – а то ветер дунет, и полетишь, як сокол на нэбо.
У меня не было аппетита, и я отказался есть. Тогда он взял меня за руку и подвел к тихой и гладкой, как зеркало, воде.
– Дивись! – сказал он.
На гладкой поверхности моря покачивалось изображение, лишь отдаленно похожее на меня. Мы молча возвратились обратно, и я стал есть. Но не потому, что испугался своего вида, нет. Мне хотелось скорее встать на ноги, ибо каждый уходящий день терзал сердце: надвигалась осень, время штормов, а дел впереди было много.
48
Лишь на девятый день, в час, когда на небе еще висела бледная долька луны, мы снялись с места и пересекли Таганрогский залив между Долгой и Белосарайской косами, направляясь в Темрюкский залив. Так и не удалось мне побывать в бухте Таранья.
К восходу солнца мы были в Должанской, однако остановка эта оказалась бесцельной: приятеля Данилыча в станице не было, он уехал по каким – то делам в Ейск.
Из Должанской, срезая большой угол и таким образом оставляя по левому борту Камышеватку, Бейсугский лиман и Ахтари, мы, идя через Ясенский залив, взяли курс прямо на мыс Ачуевский. В семи милях от него в море впадает Протока – второй рукав реки Кубань.
Места, знакомые Данилычу с детства; оттуда недалеко и до Гривенской. Шли мы хорошо – и мотор и погода как будто понимали, что нам надо наверстать упущенное время. Все же я опасался, что мы за день не успеем дойти. Данилыч успокоил меня: он сказал, что в случае чего мы можем идти и ночью, луна была еще неполная, но находилась, как говорят, в наливе и светила довольно ярко, и Данилыч хотя и не изучал навигацию, но знал, на какую звезду надо держать.
Мы очень долго шли почти пустынным морем: за весь день не встретилось ни одно суденышко – пути пассажирских и грузовых судов пролегали где–то в стороне, а рыбаки держались берегов. К вечеру я так устал, что прилег на брезенте. Данилыч заботливо накрыл меня ватником и вернулся на свое место, к мотору. Он тоже устал, моя болезнь отразилась и на нем, он заметно похудел. Но вид у него был боевой: глаза горели, как у первооткрывателя, и он, мурлыча под нос, звал «на бой кровавый, святой и правый». Загорелый, с обвислыми усами и всклокоченными бровями, он выглядел как запорожец в боевом дозоре. Глядя на него, я думал о том, кем был бы этот неуемной энергии и пытливого ума человек, если б не злая судьба, оставившая его калекой и без образования.
…Как всегда это бывает, я не заметил, когда уснул. Проснулся от света и полной тишины. Калабуха наша не качалась, и моря не было видно: перед глазами, как богомольцы, кланялись камыши. Пахло дымком, и слышался треск костра. Я поднялся и увидел на песке возле стоявшего стеной камыша треногу, закопченный котел с весело бурлившей в нем юшкой, Данилыча и какого–то человека, сидевшего ко мне спиной. Данилыч сидел, как всегда, прямо на сложенных костылях и с необычайным оживлением рассказывал о наших приключениях на Белосарайке: о том, как я исследовал место, отмеченное на карте капитана Белова тремя крестами, и как заболел.
– Слабенький, – сказал он жалостливо, – стал, як горобушек, легкий, но упрямый… Когда без памяти был, тебя все вспоминал. Ишь заспался–то…
После этих слов мне уже не нужно было ломать голову над тем, с кем это Данилыч вел свою неторопливую беседу. К тому же и по сутулой сильной спине, по выгоревшему кителю и по старой капитанке нетрудно было догадаться, что у костра лицом к Данилычу сидел капитан Белов.
49
Стоит ли говорить о том, как я обрадовался этой встрече! Прошло всего лишь три недели с того дня, как мы виделись в последний раз, а капитан Белов заметно изменился. Он как будто немного усох, загорел и отпустил усы. Они были ему к лицу больше, чем коротко остриженные, которые он носил раньше. Белесые, немного жестковатые усы, ослепительно сверкавшие зубы, отличный загар – все это придавало капитану Белову вид лихого моряка. Он пожал мою руку с таким усердием, будто хотел показать, насколько он еще окреп за это время.
– Слышь, Лексаныч, – сказал Данилыч, когда я присел к костру, – шо Мыкола говорит? Хотел здесь в заводе рибу сдать – не принимают: вези, говорят, до сэбе… А пока до сэбе доберешься, риба вонять начнеть… И шо это себе министр думает? Быдто нельзя пойти наверх и сказать, шо такой порядок не годится: народу нужна свежая риба, а не соленые дураки! Ну шо, завод не мог принять рибу, дать квитанцию: Кто тут теряет, а? – Глубоко вздохнув и насупив брови, он снял крышку с котла, запустил ложку в бурлящую юшку, зачерпнул и, щурясь, подул на ароматное каленое варево, с присвистом, чтобы не обжечься, попробовал и сказал: – Чистая сказка!
Он не торопясь снял котел с треноги, достал из «сидора» сухари, извлек из каких–то тайников третью ложку для капитана Белова и сделал мне глазами знак, что, мол, ради такой встречи не грех было бы и это самое… Я не отозвался на его знак. Он было нахмурился, но, как только мы начали, обжигаясь, глотать юшку, просветлел от наших похвал и, приговаривая: «Кушайте, кушайте», словно нарочно старался реже опускать свою ложку в котел, заполняя паузы рассказами о том, как я во время беспамятства то рвался в море, то требовал, чтобы он, Данилыч, оставил меня и отправился за капитаном Беловым.
После еды Данилыч занялся уборкой посуды, а мы с капитаном Беловым отошли к лодке. Я достал карты и попросил его объяснить, что скрывается под знаком трех крестов.
Он загадочно улыбнулся и, попыхивая трубкой, сказал:
– Хорошо… А не скажете ли, Сергей Александрович, что вы сами увидели там?
Я согласился. Слушая мой рассказ, он сосредоточенно следил за карандашом, которым я водил по карте в районе трех крестов. Через полчаса, когда я закончил, капитан Белов вынул трубку изо рта и, не сдерживая волнения, сказал:
– Ну, Сергей Александрович!.. Да знаете ли, что вы мне сообщили? Да ведь это ж…
Но ему так и не удалось закончить фразу: в камышах раздался шорох, и тотчас же, ломая сухое будылье, оставшееся от прошлогодних порубок, перед нами появился черный как уголь, теперь уже совсем похожий на цыгана, Семен Стеценко.
Он сообщил, что машина отремонтирована и сейнер готов к отплытию. Капитан Белов, сказав, что он скоро будет на месте, отпустил посыльного, подошел к карте, выпустил густую струю дыма и начал рассказывать.
Распрощавшись с нами, капитан Белов пошел к сейнеру. Он шел походкой истого моряка, привыкшего большую часть своей жизни проводить не на спокойной земле, а на качающейся палубе. Свои короткие, но цепкие ноги он ставил по–моряцки прочно. Данилыч, так же как и я, глядя вслед капитану Белову, положил руку на мое плечо и восхищенно сказал:
– Идет чисто крейсер!
Мы долго смотрели вслед капитану Белову: он шел быстро, не оглядываясь. Когда над камышами возвышалась лишь голова его, я взобрался на борт шлюпки и, расстелив карту, стал внимательно рассматривать ее.
Нетерпеливое покашливание Данилыча заставило меня оторваться от карты.
– Что, Данилыч? – спросил я.
– Хочу спросить, Мыкола сказал тебе чего о крестах–то?
– Сказал… Расскажу, как только отойдем… Давай собираться!
– Значит, собираться? – сказал он и, не дождавшись ответа, запрыгал к костру.
Рассматривая карту моря (в который раз!), я задумался. Сначала мысль моя была занята капитаном Беловым, потом на память пришли старые друзья – зверопромышленники и рыбаки Севера, биологи с Новой Земли, охотники на белух в Охотском море. Какие же это чудесные люди! О каждом хоть сказки складывай. Но Белов… После разговора с ним я понял: такие люди не только сберегут море, а еще создадут ему прекрасное будущее. Капитан Белов еще и еще раз доказал, что на Азовском море можно не только развивать формы сущие, заменять малополезные более полезными, но и акклиматизировать, как говорится, новые объекты или виды. Его опыт лишний раз подтвердил, что идея переселения некоторых видов из одного моря в другое перестает быть достоянием теории. Наука уже располагает рядом блестящих примеров. Ну, хотя бы переселение на самолетах в Каспийское море «на племя» в тридцатых годах азовской кефали. Сейчас кефаль на Каспии – промысловая рыба. Отлично прижился там и азовский моллюск – митилястера, ставший на новом месте самым распространенным донным жителем. Потрясающий эффект дал переселенный в Каспийский бассейн азовский кольчатый червь (основная пища осетра и севрюги) – нереис. В 1939–1941 годах в Каспийском море было выпущено всего лишь шестьдесят пять тысяч штук нереиса, сейчас он исчисляется там в миллионах центнеров! А не поучительны ли такие факты, как существование на Каспии тюленя, лососей, белорыбицы и некоторых видов ракообразных! Они не аборигены каспийской фауны, а «варяги», пришедшие сюда с далекого Севера несколько тысячелетий тому назад и отлично прижившиеся на новом месте, и никому в голову не придет теперь сомневаться в том, что они не коренные каспийцы. Сравнительно недавно через Марийскую систему водных путей под днищем корабля в Каспии зайцем проехал гидроидный полип кордилофора. Ему очень понравилось на новом месте, и теперь он «прописался» на постоянное жительство.
Осуществляется акклиматизация тихоокеанского лосося в Атлантике и в морях Белом и Баренцевом. В северные моря выпущен еще и камчатский краб…
Примеров много. Опыт капитана Белова интересен не только тем, что он произведен в пределах одного бассейна, очень неровного по своей среде, но главным образом потому, что это «побуждение» природы дало отличные результаты. В этом опыте резервируются большие возможности. Не есть ли это рычаг, с помощью которого можно будет «поворачивать» жизнь в море и даже управлять морем в интересах государства?
Когда я рассказал об опыте капитана Белова Данилычу, он сначала никак не мог понять моего восторга. Пришлось прочитать ему популярную лекцию о «пищевых цепях» и о «флористике и фаунистике».
Под этими двумя латинскими словами, определяющими растительный и животный мир, подразумевается жизнь моря. Говорил я очень популярно, и Данилыч, человек наблюдательный, понял меня без особых затруднений. Затем я взял карту Азовского моря и показал ему, где и как располагаются звенья пищевой цепи.
Данилыч слушал с большим вниманием. И когда я постепенно дошел до объяснения опыта капитана Белова, он стал особенно внимателен и, сказал бы, даже горд. Как же! Ведь он дружит с Беловым и запросто называет его Мыколой, да и «сам сто раз видел всю эту «чертовщину», ну, там морского червя (нереиса) и эти разные ракушечки, которых на берегу до черта, – из них еще кое–кто рамочки для портретов делает; ну, энтих маленьких крабиков (брахинотус); потом энтого, шо прыгает на песке, чисто акробат (понтагаммарис)…»
Оп продолжал бы еще говорить бог знает сколько, если бы я не перебил его и не сказал, что это видели многие, говорили об этом тоже многие, да и ученых книг об этом написано немало, а вот капитан Белов взял да и сделал опыт: он сконструировал особую драгу из старых сетей и поднял со дна морского несколько бочек ракушек (митилястер и синдесмии), которых с удовольствием пожирают бычки ну, конечно, и другие рыбы, и перевез с восточного берега моря, из района Талгирского гирла, к западному берегу, в район Белосарайской косы. Он осторожно опустил их в море и вслед вылил несколько бочек жидкого илистого грунта. Затем отметил это место на карте тремя крестами и знаком вопроса и стал ждать результатов. К сожалению, у него не было водолазной маски, чтобы самому время от времени посматривать на результаты своего опыта. Он до сих пор проверял свой эксперимент пробными уловами. Но ясной картины не имел. Бычки у Белосарайской косы до переселения туда моллюсков встречались и раньше, но лишь в небольшом количестве, а теперь они паслись на моллюсковых банках у Белосарайской косы, словно овечьи отары на травянистых склонах Кавказских гор. И моллюски расселились здесь, как лесные опята, дружными и тесными семьями.
Вот отчего так радовался капитан Белов!
Когда я закончил объяснения, Данилыч сказал:
– Ай да Мыкола! Это шо ж, как говорится: «Кто бежит, тот и догоняет»?
«Кто бежит, тот и догоняет»! Как это хорошо сказано! Да, люди, подобные капитану Белову, то есть люди передовые, не потягиваются от лени и не шагают вразвалку, а действительно бегут вперед. Да что там Белов – даже безногий Данилыч!.. Но только ли они? А не вся ли страна вот уже почти четыре десятилетия мчится вперед, как сильная река, как мощные потоки горного ветра?
– Ну и орел! – продолжал Данилыч. – А шо, Лексаныч, говорил я тебе, шо Мыкола – мужик на миллион? Говорил?
…Вскоре вещи были уложены. Данилыч сел за руль, я столкнул лодку в воду, и мы отчалили, держась берега. Мы шли на юг, к дельте Кубани. Мы оба были очень возбуждены: опыт капитана Белова вызвал необычайную жажду деятельности. Я сел рядом с Данилычем и, развернув карту Азовского моря, показал ему район, в котором мы должны провести работы по намеченному мною плану.
– Ого! – сказал он. – Да тут дела хватит на хорошую бригаду! Придется нажать, Лексаныч.
Я кивнул в знак согласия. Данилыч увеличил обороты, и мы, пользуясь отличной погодой и попутным ветром, пошли, как говорится, «резать море». По небу плыли белые строгие облака. Данилыч затянул «Широка страна моя родная». Только пел он ее на свой лад: вместо «много в ней лесов, полей и рек» он пел «лесов» морей и рек». Я подтянул ему и вскоре почувствовал, что болезнь прошла, то есть слабость оставила меня, – мне стало очень хорошо от солнца, неба, моря, ветра, гор и песни Данилыча.
50
Подымаясь с юга на северо–восток, мы остановились на Долгой косе, в виду станицы Должанской. Мы не дотянули до нее каких–нибудь трех километров, когда заглох наш мотор. Я предлагал продолжать путь на веслах, но Данилыч уперся!
– Через полчаса, – заявил он, – мотор будет работать как часы.
Впоследствии мы так и не поняли, отчего мотор внезапно заглох и также внезапно в нем вспыхнула жизнь. Я говорю, впоследствии… Да, то, что предшествовала нашей вынужденной остановке, и то, что за этим последовало, могло и не остаться в моей памяти, ибо… А впрочем, расскажу все по порядку.
Прежде всего необходимо пояснить, что мы с Данилычем возвращались из Темрюкского залива восвояси после трехнедельных работ в лиманах и гирлах на довольно большом пространстве от Темрюка, то есть от устья Кубани, и до Приморско—Ахтарска, или, как поместному говорят, «до Ахтарей». Я надеялся попасть еще и в северо–восточный угол Азовского моря, куда вливается многими устьями Дон.
Место это крайне интересно. Часть Таганрогского залива по линии оконечность Кривой косы – порт Катон почти вся обтянута песчано–илистой мелью. Глубины здесь не превышают пяти метров. Благодатнейшие места! Если бы неистовые рыбаки соблюдали законы, здесь был бы истинный рай для красной рыбы и крупного частика. Белуга, осетр, севрюга, чебак, чехонь, рыбец – сколько прекрасных рыб ищет здесь покоя, пищи и убежища! По весне они стремятся сюда для того, чтобы пробиться в Дон и другие реки, впадающие в залив, на нерест. Спустя время из отложенных икринок развиваются мальки, река становится для них тесной и голодной – миллиардами они скатываются из рек в Таганрогский залив. Тут, в мелком, но необычайно богатом питательными организмами заливе, и выхаживается молодь. Выхаживается, если ее не трогают сети рьяных добытчиков. Побывать в Таганрогском заливе было моей мечтой, но все смешала вынужденная остановка…
Надо сказать, что мотор «барахлил» у нас еще в районе мыса Ачуевского, где пришлось задержаться на три дня. Мыс этот сам по себе не представляет никакого интереса: тупой по форме, он почти сливается с берегом. Находящийся в районе мыса обширный лиман Сладкий, соединяющийся с морем гирлом того же названия, – вот что было интересно. Пока Данилыч возился с мотором, я, пользуясь теплой, солнечной погодой, делал свое дело: один шагал по отмелям, как трудолюбивый фламинго, собирал образцы, делал заметки.
Когда мотор заработал, мы с Данилычем обошли все закутки лимана и гирла, тщательно описали их и сфотографировали. Здесь я наблюдал приемку рыбы на рыбозаводе, исследовал в устье реки Протоки нерестилища рыбца. Данилыч тем временем уходил на моторке в Гривенскую, поклониться праху тетки Наталки…
Когда он вернулся, пришлось снова копаться в моторе. С трудом вышли в море, рассчитывая на то, что авось до Ветрянска он нас дотянет, а там разберемся. Не дотянет до Ветрянска, дойдем до Должанской, где Данилыч надеялся на этот раз угостить меня той знаменитой юшкой, о которой прожужжал уши три недели тому назад, когда мы уходили из Ветрянска в Темрюкский залив. Тогда мы не застали в Должанской его дружка, или, как он говорил, «кореша». Тот был по каким–то делам в Ейске. Теперь же Данилыч надеялся осуществить дегустацию знаменитой азовской юшки.
Но до станицы было еще далеко, а Данилыч все чаще и чаще с тревогой поглядывал на небо.
Дело в том, что в этот день с самого ранья зарядила совершенно несносная жара – дышать было нечем. И, как назло, море стояло теплое и зеленое, словно щи из шпината. Таким море бывает, когда наступает «замор», то есть когда оно густо «заправлено» планктоном и бентосом и совершенно не перемешивается. Вот в такое время кислород расходуется в придонных слоях, как на подводной лодке, – быстро, и все, что способно подняться, устремляется к поверхности воды, где можно дышать, где есть кислород. Если стояние воды, густо насыщенной планктоном, затягивается, рыба гибнет в огромных количествах. Вот что такое замор.
Мы ночевали в Ахтарях. В этом небольшом рыбацком городе мы, конечно, могли бы отремонтировать мотор. Но надо знать Данилыча. Он налетел на меня, как ураган:
– Отдавать мотор в ремонт? А я на что?
Я уступил.
Из Ахтарей мы вышли ранним утром. Оно было обычное, похожее на любое другое утро… Ну, вероятно, если повнимательнее понаблюдать за ним, то можно было бы отыскать какие–то особенные черты у этого утра. Но разве в этом дело? С утра все было как обычно. Солнце так же всходило с востока, и было оно, как всегда, красное и имело форму шара. И небо сначала было темное, потом окинулось розоватым цветом, на смену которому вскоре пришел багряный, за ним пурпурный, потом лимонно–красный и, наконец, палевый, с той удивительной голубизной, которая могла растрогать даже самого черствого человека… Необычным было солнце… Не успев подняться от горизонта в рост человека, оно стало так палить, будто забыло о том, что впереди у него будет еще время показать свою силу. Вот солнце–то и заставило Данилыча с тревогой поглядывать на небо.
Недалеко от оконечности косы Камышеватая я попросил Данилыча остановить лодку: мне хотелось взять пробы планктона, понаблюдать за морем перед наступлением замора. Данилыч неохотно выполнил мою просьбу. Если бы я знал, во что обойдется нам эта остановка! По окончании моих работ мы полтора часа бились, пока завели мотор. Я думаю, что все, кто имел когда–нибудь дело с машиной, знают, что значит капризный мотор; когда он работает – друг, а когда начинает «характер показывать» – вымогатель сил человеческих. И не удивительно, что, доведенный до отчаяния, мокрый, жалкий водитель возьмет да и скажет: «Что же ты не заводишься, сволочь, а?»