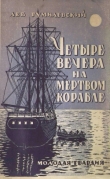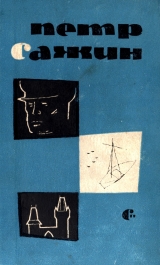
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Не знаю, как мы зимы дождались! Между прочим, от Кондрата письма шли. Мне их, конечно, никто не читал, а сам–то я не умел: не учили… Я уж взрослым, после революции, научился читать и писать. Да. Но в доме секретов не было. Кондрат писал, шо на побывку приедет. А я, грешник, ждал казенного письма про Кондрата… Я знал, шо, если нам с Дуняшей не удастся перемахнуть через море, Григорий Матвеев от своего не отступится, женит Кондрата на Дуняше. Да и Семену Глушенкову очень хотелось покрепче узелок завязать с Григорием Матвеевым: в старину к богатым льнули.
Данилыч вздохнул:
– Да, Лексаныч, так вот… веревочка хоть и длинна, а у ней конец есть. Прошла осень, настала зима. Какая–то она неровная была: то мороз завернет, то дожж льет. На море лед хотя и лег, но хлипкий, малокровный какой–то. Мороз–то настоящий, как видно, в другом месте мосты строил… А как ждали мы его, знаешь, Лексаныч, больше света! Дуняша была сама не своя: Кондрат вот– вот должен был приехать.
Наконец пришел день: с Украины, с Сиваша, люди на лошадях соль привезли в Ейск, а отсюда мороженую рыбу взяли. Между Долгой и Белосарайкой, где мы с тобой шли, лед лег, как самарский мост на Волге. Но до него надо добраться. А как? Несмышленыши мы были оба. Да и шо взять с нас? Мне было неполных семнадцать, а Дуняше на годочек больше. Судили–рядили и решили до Ахтарей берегом пройти. А оттуда по льду на Камышеватку, а там по косе до Должанской и затем на Белосарайку. Теперь бы это раз плюнуть, на автобусе или на попутке куда хочешь доберешься!..
Данилыч покачал головой, вздохнул:
– Эх, Лексаныч, как вспомню об той ночи – мороз по коже малым ходом идет, будто свежуют меня…
Данилыч поднял голову и посмотрел на бушующее море, на истерзанные ветром, мрачные, усталые облака.
– Вот видишь, зараз все серое, як дым, а тогда было все белое–белое, ничего не видать! И откуда все взялось? День–то был хороший: мороз стоял, и солнце такое по–зимнему красное. И село оно хорошо, ночь должна была прийти светлая, лунная. Мы уговорились с Дуняшей после ужина, когда спать все улягутся, полный вперед на Ахтари! Я заранее приготовил вяленой бокивни и копченого рыбца, лука, соли и добрый каравай хлеба. А Дуняша должна была захватить всякую там сбрую женскую. Встретиться мы уговорились за станицей. Ты спрашиваешь, Лексаныч, страшно было нам ай нет? А ты сам как думаешь?.. Дуняша–то, когда я встретил ее за станицей, так и упала мне на грудь. «Боюсь, – говорит, – Саня! Ой, как боюсь!»
Я успокаиваю ее, а сам чую, сердце у ней трепещет, як парус… Но могли ль мы не идти? Да если б я даже знал заранее, что меня ожидает, и тогда не дал бы команды «задний ход!». Понятно? Да и Дуняша не пошла б назад! Мы на все были готовы. Вот какая любовь была промеж нами!
58
Вышли мы из станицы благополучно, и мало–помалу Дуняша стала успокаиваться и даже нет–нет сшутит. А то обоймет меня и скажет: «Вот мы и на свободе! Зараз никто–никто нас не разлучит!»
Так мы до полуночи шли: то целовались, то вздыхали. Дорога была светлая–светлая, луна яркая и чистая, и свет от нее, как от прожектора, сильный. Снег так и серебрится и скрыпит под ногами. За разговорами мы и не заметили, когда луна спать улеглась. Не заметили, шо потеплело, и небо стало быдто кисеей затягиваться, и звездочки одна за другой стали гаснуть. Словом, когда это началось, откуда взялось, не знаю, но только вдруг сразу пошел такой снег, шо ничего не стало видно даже на вытянутую руку. Дуняша как закричит, да ко мне. Взял я ее об руку, и пошли мы в этом аду кромешном, ничего не видя. Первое время, когда я чуял под ногами накатанную дорогу, успокаивал Дуняшу, а потом стало страшно и мне. Ну, не за себя… Я один мог бы выбраться, а вдвоем с Дуняшей куда деваться?.. Куда идти? Мы дороги–то не видели и под ногами не чулы! Эх, Лексаныч, говорять, шо «кто на море не бывал, тот досыта богу не маливался!». Не знаю, шо хуже: быть на море, когда «тримунтан» дуеть, или в степу вот в такую хурту? Причем, злыдень, дуеть со всех сторон, и, как ты ни прячь лицо, он тебе и в рот надает, и в уши, и в глаза… Но шо тебе рассказывать, Лексаныч? Сбились мы с дороги, и шли мы незнамо куда, то ли к морю, то ли в степ, то ли вперед, то ли назад… Дуняша приникнет ко мне и хоть плакать не плачет, а, чую, в голосе слезы так и стоят. «Шо ж, – говорит, – будет, Саня?» – «Ничего, – говорю, – погода, она ить, шо озорной человек, трошки помутит белый свет, а потом надоест ей эта забава, и перестанет». А она хоть и смеется с моих слов, а, чую, не верит, дрожит вся. Ну, шо говорить тебе, Лексаныч? Невеселое это дело – идти без дороги в сплошном снегу, и тебе, наверно, скучно слухать об этом. Теперь бы по погоде казан юшки! Надоело слухать–то?
– Что вы? Рассказывайте. Мне все интересно! – сказал я.
Свернув цигарку, Данилыч продолжал:
– В общем, сколько часов мы ходили, я не знаю. Казалось, шо вот–вот должно наступить утро, а его все нет и нет, и сил у нас нет, выбились напрочь! Дуняша все останавливалась да на снег присаживалась. «Не можу, – говорит, – идти дальше!» Брал ее на руки. Оно поначалу в новинку–то было хорошо: несешь ее и вроде милуешься. А потом я стал силы терять. В сон начало кидать: стоило остановиться, как земля к себе быдто магнитом тянет и снег кажется пуховой постелью. А Дуняша присядет и сразу же, как куль с овсом, бух в снег. Намучился я страсть сколько! Не знаю, какое мы время уже извели и много ли до утра осталось, а только стало казаться, шо песий лай слышим. А Дуняша даже дым чула. Стоим, может, час, может, больше, а ничего не видать – белая муть крутится, крутится, ну чисто мельница–пустомельница. В глазах рябит аж. И снег на губах, на бровях, на носу тает, ест кожу, быдто холодные, склизкие мокрицы по тебе ползают! Тьфу ты, пропасть! Клял я себя тогда! Ну, я мучаюсь – ладно, я парень, а девка–то зачем! Конечно, ей я ничего не говорил, наоборот, подбадривал, шоб она не пала духом совсем. К тому времени немного вроде посветлело, но снег шел без роздыху, сыпал, злыдень, со всех сторон и даже крутился, как заводной. И стало мне казаться, шо погибнем мы в этом дремучем снегу – судьба схоронит нас в этой белой могиле. А весной, когда растает снег, степные орлы расклюют наши тела, и все: жизнь, любовь, горе, мечты – все превратится в прах. И я уже готов был сказать Дуняше: давай, мол, ляжем тут, и пускай все идет к черту, как вдруг услышал какие–то голоса и собачьи хриплые захлебы. «Ну, говорю, Дуняша, подходим либо к станице, либо к хутору, держись! Скоро отдохнем!» И пошли прямо на собачий брех. Не знали мы, шо шли прямо волкам в пасть.
59
Немного мы с Дуняшей прошли, как наскочили на конный отряд с собаками. Они быдто с неба свалились. Дуняша вскрикнула и сразу замолчала и куда–то пропала. В тот же момент меня кто–то полоснул нагайкой по голове. Если б не баранья шапка, насмерть секанул бы, наверно. А Дуняшу, видно, на седло подняли: она откуда–то сверху закричала мне: «Саня! Саня!..»
Я кинулся на ее голос. Но тут какая–то стерва снова огрела меня плетью. Да так больно, что не знаю, как я не закричал. Зло меня взяло, кинулся я на конного, шо около меня все крутился, а мне наперерез собаки. Тут я услыхал подлячий голос Донскова. «Вот, – говорит, – тебе, сучий сын, получай!» И вытянул он меня по лопаткам и матерно выругался. Как успел я взять его за стремя и стащить наземь, сам не знаю. Он заорал. Я дал ему под дых и дал бы еще. Да тут налетела вся ихняя подлая кобелячья стая ему на выручку. Помню, я пытался отбиться от них, но где там! Выбили они у меня сознанье. Очнулся от воя. Открыл глаза – никого, а кругом сыпить и сыпить, ничего не видать. Начал я руками вокруг шарить – все снег да снег. Жутко стало! Тянусь дальше – наткнулся на шо–то теплое. Тут оно как завоет… Понял я, шо это Полкан, наш кобель. Я любил его и завсегда то косточку, то хлебца носил ему, а когда Григорий Матвеев или кто из работников бил Полкана, я жалел его. Вот он и удружил мне. В снегу весь, дрожит. Обрадовался, когда я очнулся, и завыл пуще прежнего. Я попробовал встать – не могу: тело болит, а руки и ноги как деревянные. Первый раз заплакал, жалко мне стало себя. Э-э, да что там! Судьбу свою стало жалко. Понял я в тот горький час, что кончилось мое счастье и не будет его во веки веков, пока куркули жизнью правят…
Кобель лизнул меня в щеку. Я ему: «Полканчик, Полканчик». Он морду поднял и давай выть. Я говорю ему: «Ты не хорони меня, не вой. Беги в станицу, приведи кого». Но что с него спросить? Шалавистая собака, смотрит на меня и быдто плачет: глаза такие грустные–грустные, до краев слезой налитые, как баба по убитому казаку воет.
Однако лежать–то вроде не для чего: закоченел, как гусь щипаный. Стал я потихоньку, знаешь, как с ржавого болта гайку свинчивают, ногами и руками туда–сюда. Наверное, цельный час бился, руки и левая нога вроде как очкнулись, а правая лежит, чисто мерзлый сом. Пробовал встать – не выходит. Кобель смотрит на меня, по глазам видно, жалеет, а помочь не могет. Ну, там лизнет, поскулит, и все. Я говорю ему: «А ты не скули, нечего хоронить меня! Я с твоим хозяином должен рассчитаться. Беги в станицу».
Ну, он смотрит на меня, поскуливает, быдто спрашивает, а чего, не пойму. Вижу, шо надо самому ответственные меры принимать. Стал опять руками и ногами работать, да так, шо взмок весь. К счастью, снег остановился. Поднялся я на руки, затем на коленки, и тут быдто меня снова кто нагайкой по мозгам хватил. Упал. Через малое время опять стал подыматься, и так разов десять: то подымался, то падал. Наконец попробовал ползти. Больно, но можно. Полкан рядом. Сколько же это было часов, не знаю. Руки коченели до невозможности. Я обниму Полкана, запущу их в гриву – отойдут. А вот с ногами хуже. Ну, шо тебе сказать? Станица на виду: кажись, протяни руку – достанешь, а я до нее добирался, как под пулеметным огнем, – ползком и мордой в снег, – силы набирать. Я бы, наверно, и околел на виду у станицы, если б не кобель. Но об этом мне уже казачонок Епишка Скобцов сказывал. Сейчас полковник в отставке. Он услыхал, как Полкан выл, и выбежал за околицу, и тут нашел меня.
Что тебе говорить–то дальше?.. Недели две без памяти лежал. В таком виде и свез меня рыжий кобель Донсков в Екатеринодар, в больницу. Там вот ногу и оттяпали…
60
Данилыч сплюнул горькую слюну.
И пришлось мне вернуться в Гривенскую вот с етими друзьями. – Он кивнул на костыли. – Было это, стало быть, в феврале тысяча девятьсот семнадцатого года. С тех пор я и не расстаюсь с ними… Ты говоришь, Лексаныч, думал ли я тогда о Дуняше? А что, ты меня за скота считаешь? Ить я не какой–нибудь мерин! И я не один думал о ней, отец ее, Семен Глушенков, в сговоре с Григорием Донсковым тоже… Эх! Век буду помнить свово благодетеля! Ну вот, в сговоре они отправили ее к тестю Семена в Ейск. Пусть, мол, там переждет, пока Кондрат прибудет на побывку… Стало быть, ее в Ейск, а меня в Екатеринодар. В больнице–то я пролежал до того великого дня, когда царя со службы уволили. Нога моя хоть и не больно зажила, а лежать я не мог больше. Кубань кипела вся. Я думал: что ж это теперь деется в станице? Не вернулась ли Дуняша? Уговорил доктора отпустить меня. Выдали мне костыли, нашел я попутную подводу: наш же гривенской казак–фронтовик – нога у него была разрывной пулей попорчена – приезжал к доктору на перевязку. Хороший человек, звали его Прокофием, а фамилия, кажись, Хмара. Сичас спрашивал про него; говорят, в эту войну в партизанах был и домой не вернулся, на мине взорвался. Война–то эта перемолола народу, как мельница зерна, страсть! Ехали мы с ним хорошо: весна была ранняя – от земли пар шел, жаворонки над головами, чисто пьяные. На лобках зелень такая свежая, кудрявая. В ложбинках ручеечки хлопотали звонко, как цикады, трещали. После больницы на воздухе хорошо, а я все за ногу думал. А Прокофий про войну, про то, как надоело саблей да пикой руки мотать, про беженцев, про голод в России, про станицу, куда стали возвращаться с фронта казаки – раненые и инвалиды, – про все новости рассказывал. А их, новостей–то, было!.. Хороших–то меньше, а больше все плохие. Я, правда, не знал казака Антошку Безверхова, но то, шо услыхал от Прокофия, страшно стало. Чего война только не сделает с человеком! Был казак, а стал черт знает чего! Понимаешь, Лексаныч, этому Антохе оторвало тяжелым снарядом обе ноги по самую сидению. Жена – красавица, двое детишек, и шо теперь будет с ними всеми? Да простит меня Антоха, чего уж снаряд–то энтот выше не взял?! Я, Лексаныч, как сам есть инвалид, знаю, шо за радость на одной ноге по жизни, будто дрохва, прыгать! А без двух – уж лучше головой с обрыва…
Сказывал Прокофий и про моего «благодетеля»; тихим, говорит, стал. Дуняши нет в станице – в Ейске она. Кондрат на побывку не приезжал, прошел слух, шо в большевики записался, а Григорий Донсков проклял его. Я рассказал Прокофию про себя, как попу на исповеди, все и промежду прочим сказал, что хочу набить Донскову морду и уйти от него. Прокофий выругал меня и сказал, шоб я не валял дурака: «Уйтить–то просто, а что жрать будешь и кто с тобой возиться будет? А вот стребуй с него за увечье, и потом, доля твоя там есть от наследства, от тетки, и ее стребуй». Я поначалу и слухать не хотел: у меня в сердце кипело на куркуля, на гада проклятого, на падаль рыжую, а когда стал прощаться с Прокофием, то сказал, шо подумаю и в случае чего зайду к нему за советом… Хороший казак был!
Принял меня Григорий Матвеев без звука, сделал вид, быдто он не он и я не я. Сказал, шо ежели хочу чего делать, тоись шо могу, – ладно, а нет, то он, мол, и не заставляет. «Может, говорит, будешь способен верхом на лошади за скотиной следить?»
Я согласился. Поначалу ничего не получалось. На лошадь садился легко. Правда, с первых разов лошадь костылей пужалась, а потом попривыкла. Но после трех выездов нога пошла болеть: воспаление в ней началось, гной образовался. Дохтур приезжал, делал операцию. Провалялся я до осени. Пока лежал больной, Дуняша в станицу возвернулась.
– Совсем? – спросил я.
– Нет, не совсем, а тоже вроде на побывку.
– Что ж, виделись вы?
– Нет, – сказал Данилыч, – не пустили ее ко мне.
– И она не пыталась к вам пробраться?
– Как не пыталась?! Поймали ее… да еще высекли,
– Кто? Донсков?
– Какой Донсков! Отец!.. Ну, вот, высек он ее, да и снова отправил в Ейск. Она на всю станицу кричала: «Все равно за другого не выйду!» Дуреха, – ласково сказал Данилыч, – что ей со мной было горе мыкать? А я, Лексаныч, еще в больнице, как только без ноги–то остался, отказался от Дуняши… Тоись я любил ее, но наказал себе не думать о ней.
– Ну и что же, вышло по–вашему?
Данилыч вздохнул и махнул рукой.
– Какое там! Я доси помню ее и помирать стану, о ней буду думать… Ну, да у меня с ней была еще встреча, и какая!
– Расскажите!
– Опосля… Зараз скажу тебе, как этот рыжий–то черт купил меня…
– А с ней–то все–таки что было?
– Шо бывает с бабой?.. Замуж вышла…
– За Кондрата?
– Нет! Кондрат не возвернулся… Между прочим, я зря зуб точил на него… Слыхал песню «В степи под Херсоном»? Кондрат доси лежит там… Она вышла замуж не сразу, а только после того, как узнала, шо я женился. Ее взял рыбак со Слободки, с той, где я живу. Познакомился он с ней в Ейске, и как–то быстро все решилось у них…
– А как же отец ее?
– Семен? А шо он мог сделать? Махнула птица крылом да за морем!..
А я долго мучился у Донскова, пока не попался, как бычок на крючок… Видишь ли, Лексаныч, когда Дуняшу ко мне не пустили, я шо сделал? Вскочил с постели, да и ну молотить рыжего кобеля костылями. Отделал – на миллион! Когда меня вязали, то сильно повредили ногу. Да я и сам подбавил: прыгал, как селява, все пытался вырваться… Но это дым! Шо меня связали и били притом и шо я напортил себе, черт с ним, прошло бы!.. Как говорится: руку–ногу переломишь – сживется, а душу переломишь – не сживется. Стал я после этой стычки психованный. Дохтур говорил, шо у мене нервы – как нитки гнилые. А тут еще нашлась добрая душа, старшая дочка Григория Донскова, Машка, пожалела меня: развязала и вина дала. И с тех пор пошло: как я запсихую, отец вязать, а Машка ослобонять да вином поить. Отец без ноги оставил, а дочь к вину приучила… Я через них только у черта на рогах не был! Но и это случилось… Не понимаешь, Лексаныч, о чем я говорю? Я и сам–то не сразу все понял, а когда случилось это, то хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь!.. Женился я на этой губастой дуре!
– Как же это? – спросил я.
– Очень просто. Влюбилась она в меня.
– А вы?
– Чему не гореть, того не зажечь, не любил я ее… Пьяный был, а она тверезая, легла под меня – вот и все. Я ж мужик, а не огурец соленый!.. Как ты думаешь: просто все в жизни? То–то и оно–то!
Данилыч задумался. Видимо, старое разбередило его сердце.
61
– Машка, – продолжал он после паузы, – уговорила меня скрыть, шо она беременная: отца боялась. Но сколько ты ни скрывай, а придет время – и слепой увидит.
Мать ее первая заметила, шо дочка стала ходить с «самоваром», и ударилась в слезы. Когда отошла, был разговор, сначала с дочерью, потом со мной. Ну, куда деваться? Решили исподволь подготовить Григория Матвеева. Он за последнее время не расседлывал коня, по станицам носился; высох весь, шея сморщилась, как старые головки у яловых сапог, кадык торчит. Когда домой заявлялся, ни с кем не разговаривал. Шо он делал? Про то черти, как видно, знали. Я‑то жил, как в крепости: ко мне никто, а я сам только шо в сад выйду, на солнышке посижу, накурюсь до тошноты и опять в дом. Машка ничего не понимала, шо кругом деется. Одно знала: живот гладила да сбрую для младенца готовила.
Наступил момент, когда скрывать больше от Григория Матвеева нельзя было. И вот мать на утренней зорьке, когда Григорий Матвеев собирался ехать, взяла и сказала ему. Он сразу стал зеленый. Мать ждала, шо он заорет на нее. Но старый Донсков не стал орать, а снял со стены шашку и кинулся ко мне. Тут Машка ему поперек да как завопит: «Не смей, батя! Это я, говорит, виноватая! Я его свернула. Меня руби!»
Он замахнулся на дочь и свободно мог разделить ее пополам, да тут его перекосило, шашка из руки выпала, зазвенела, и он вслед за ней хрястнулся об пол, как насмерть раненный кабан. Удар случился с ним. Два месяца лежал, потом встал, пришел ко мне, рожа свернута набок, будто дичков нажрался. Говорит, а на меня не смотрит. «Я, – говорит, – все дам за дочерью, шо полагается, и даже хату построю или куплю, только шоб духу твоего и Машкиного здесь в станице не было!» Я согласился. А шо мне было делать?
Ну, пока еще можно было закрыть Машкин живот, справили свадьбу. Вся станица в церковь сошлась поглазеть, как это богатей Григорий Донсков беременную дочь выдает за своего батрачонка безногого. Стыда я натерпелся тогда, не рассказать сколько! Понимаешь, Лексаныч, как посмотрю на свою свадьбу, быдто со стороны, да Дуняшу вспомню, так и хочется посредь божьего храма выдать матюга на полный боцманский набор да тягу дать! Но, говорят, в чистом поле четыре воли: хоть туда, хоть сюда, хоть инаково. А в церкви да под венцом одна неволя… Махнул я на все рукой и, как говорится, пошел по течению. Пускай судачат, пускай смеются, а у нас будет ребенок, ить он от меня, а не с воздуха. Стало быть, мне его и растить…
Словом, шо тебе сказывать? Все было по обычаю: и пир, и гости были, и вина, и закуски, и пирогов, и черта в ступе! Добра извел Григорий Донсков – на миллион! Пьяные казаки чубы вымачивали в реке. Даже драка затеялась. Но, в общем, все улеглось, как море после шторма.
После свадьбы Григорий Матвеев спросил меня, где жить я думаю. Машка назвала станицу Роговскую: там материна родня была. Но я сказал, шо на Кубани не хочу оставаться, думаю о рыбачьей Слободке, шо под Ветрянском. Там, Лексаныч, Сергей Митрофанов жил. Старику это понравилось, и он, не откладывая дела в долгий ящик, на другой же день после свадьбы махнул в Ветрянск. Возвернулся через дне недели. Купил у рыбацкой вдовы за гроши хату в Слободке, тую, в которой мы сичас живем. Купчую оформил не на меня, а на дочку. Да мне–то черт с ним!
Мы задерживаться не стали: нам собраться, шо голому подпоясаться. Через два дня сели на подводу, – и в Ахтари. Там на пароход – и прощай Кубань!.. Началась новая жизнь. Сергей Митрофанов взял меня в свою ватагу.
– А как же вы на море с костылями?
– Видишь ли, Лексаныч, в тое время была гражданская война, и охрана труда до нас еще не успела дойтить. Это потом меня стали от настоящей работы заботливыми законами отгораживать. Инвалидом признали. На пенсию поставили. А зачем она мне? Душу на пенсию не поставишь. Ну, хорошо, ноги у меня нет? Нет. А голова, сердце, руки есть? Да как же я могу сидеть на пенсии?! Конечно, есть такие люди, шо родятся пенсионерами. А я считаю так: горе горюй, а руками воюй. Рук нет – зубами! Зубы в драке выбили – головой! Человек, пока ты живой, на пенсию не становись! Работай! Бейся!
Пришел я до секретаря горкома партии в позапрошлом году. Цюпа у нас тогда такой был, я вам про него уже сказывал. И говорю ему: так, мол, и так, не дают мне работы. А он спрашивает: «Чего ты, Данилыч, хочешь? Хата, – говорит, – есть у тебя, виноградник есть, пенсия есть. Что, – спрашивает, – денег не хватает?!»
А я говорю: «Шо мне деньги, товарищ секретарь! Деньги, тьфу на них! Деньги как рыба: сегодня сами на крючок лезут, а завтра ищи–свищи! Деньги… подумаешь, добро какое! Да я бы вовсе не знал их… Ну на шо они мне? Рыбы в море сколько хочешь, помидору свою не съедаем, виноград – тоже, а на хлеб, сахар и на молоко получаю от государства. Главное–то, – говорю, – не в этом! Может быть, – говорю, – за деньги я куплю себе ногу! Или, может, мне молодость кто продасть? А?» И еще я сказал секретарю горкома: «Вот вы считаете, шо деньги у нас одни – радянские, верно? Я тоже так считал, а теперь вижу, шо деньги бывают разные». Секретарь начал карандашиком постукивать. А я думаю: «Раз ты секретарь, то не показывай, шо тебе не нравится, а слухай до конца».
Ну вот, говорю ему: «Был у нас в Слободке инженер, причал строил. Помните?» Секретарь сказал, шо помнит. «А видели, – говорю я, – товарищ секретарь, домик на улице Ватутина? Ну, двухэтажный, и галдарея у него «Изабеллой» увитая? Домик, заметьте, красавец, как двухпалубный пассажирский пароход, а инженер в нем не живет… Почему? Печет ему в одном месте. Скажите, можно ли человеку с жалованья такой дом построить? Он же не маршал и не профессор. Ну, тем полагается, а это шо? Но я, – говорю, – до вас не затем пришел. Я уж вам сказал, шо меня не деньги интересуют, а работа такая, шоб я от нее радость имел! Не деньги, а радость!»
Но шо тебе сказать, Лексаныч? Не понял меня товарищ Цюпа.
Я ему говорю: «Товарищ секретарь, в Слободке есть скрытые куркули. На огородах помидору скупают оптом, затем нанимают левую машину – и в Донбасс, в Сталино. Там загоняют втри–, а то вчетыредорога. Оттуда уголь везут и тоже втридорога продают, а потом такие хаты, как у того инженера, строят». Он слухал меня внимательно, даже руку к уху приложил. Когда я кончил, он сказал: «А ты, я вижу, Данилыч, склоку разводишь. Скиба верную характеристику тебе дал. Конечно, – говорит, – недостатки в нашей работе есть, и мы их будем исправлять». И пошел, пошел… Потом стал меня упрекать за Машку, за то, шо она на базаре рибу продает. Мелким человеком он оказался. Ты не подумай, шо я в защиту себе говорю. Ты, Лексаныч, тоже, наверное, думаешь, чего я с Машкой–то живу. Вопрос тяжелый. А хочешь правду знать? Я ить с ней давно не живу. Не–ет, Лексаныч, ты на меня не смотри так, я еще не старый… А шо в одном доме живем… Ну и шо? Знаешь, жена не сапог – не скинешь с ног. И потом, она ж мать моих сыновей… За меня пошла не по нужде… Я‑то не богатей, не красавец… Так, голоштан безногий… Так как же мне бросать ее? С Цюпой об этом, как на духу, говорил, а он ить не понял. У него в голове всё планы, выполнение, да проценты, да рапорты по вышестоящему начальству, да слава, а до человека–то он не дошел. Вот и сняли его в прошлом году. Время сичас такое: нужны люди с головой да с ядреными мыслями. Люди большого дела, люди глазастые, шоб видеть кажную мелочь. Ах! Если бы у меня была нога цела! Был бы и я мужик – на миллион!
62
Данилыч махнул рукой и замолчал. Достал из нагрудного кармана свернутую в гармошку газету, оторвал клочок и скрюченной рукой несколько раз слазил за махоркой. Медленно, словно по счету, сыпал на бумагу крупные зерна пахучей махры. Дрожащими руками свернул. Всунув цигарку в рот, он несколько раз вздохнул, будто поплакал невидимыми слезами. Пока он раскуривал, я глядел на море. Оно тише стало: волны уже не ревели и при столкновении не трепали друг друга за чубы. И тучи стали легкими как пух и понемногу светлели, словно бы просыхали после хорошей промывки.
Закурив, Данилыч каким–то глуховатым голосом сказал:
– Да, Лексаныч, женился я на скорую руку, да на долгую муку… Не получилась у меня жизня с Машкой Донсковой. Но шо было делать? Я ж тебе все сказывал! Вначале под страхом бога был. Потом сыновья пошли. Первого она родила на третий месяц после того, как из Гривенской в Слободку переехали. Второго – через год. Растить их надо было. А как подросли, где же тут расходиться? Стал стесняться сыновей. А хлопчики–то какие были! Один лучше другого. Любил я их, Лексаныч, так, шо порой боялся, умру от такой любви. Только чурбаки думают, шо мужик не могет любить детей так, как мать! А она их как любила! Невозможно сказать – светилась вся от этого и даже выглядела красивей.
Легко мне было и радостно с хлопчиками. Бывало, посажу их на плечи: «Ого–го! Полный ход в море, ребята!..» Ну, она, черт, как наседка, квокчет, перьями бьет! «Куда ты их взгромоздил? Утопишь еще!» Бегить за мной аж до самого моря. А чего их топить–то, шо я, не отец им или не любил их? Ну вот, она трусит за мной, а хлопчики ногами меня в грудки колотят, ерзают на плечах, хохочут, а мне хоть и не легко с ними да с костылями управляться, но радостно на душе–то… Дойду до лодки – соколят с плеч долой. Лодку в воду. Марья тоже прямо в юбке в воду. Замочится вся, а ребята заливаются: думают, родители играют с ними, довольные, аж глазенки блестят. Весла просят: «Батько, дай!»
Ежели море спокойное, я давал им. Учил, как весло держать, шоб не черпать, как ложкой борщ, а легонько так, пол–лопасти погрузил, оттолкнулся и «суши весла». Потом опять таким же форцем легонько от воды отпихнись. Обратно суши. И так оно пойдет. Учил их «сетки сыпать». Мы глыбоко не сыпали, а бережней, значит, ближе к берегу. Отойдешь метров на семьдесят, на сто от берега. Нацелишься на трубу или на угол хаты (это шоб потом можно было сетки разыскать) и сыплешь. Сыпали обычно в сумерки, а вынимали утром. Хлопцы ложатся спать, а сами: «Разбуди, батько, да разбуди!» Утром будишь – ножонками толкаются, а глаз открыть не могут, идешь один.
Пристанешь к берегу с рыбой – они тут как тут, дожидаются, сердятся, шо не разбудил… Но как только увидят рыбу, все забудут. Да как же: в лодке–то и бички, и сула, и таранька, и селява, и кефаль, и даже конек с иглой запутаются, и калкан. Диво дивное. Залезут в подчалок и роются, пока не выгонишь…
Он неожиданно замолчал. Сильно выдававшийся кадык подскакнул, и он всхлипнул:
– Эх, детки мои, детки!.. Не думал, не гадал, шо вы бросите меня так рано на произвол судьбы! Погибли в войну орлята мои! Летчики были!
Я стал было утешать его, но, как известно, пожилые люди долго плакать не умеют. Он скоро перестал хлюпать, вытер кулаком глаза, вскинул голову и, стеснительно моргая, сказал:
– Теперь, Лексаныч, у меня никого на свете нет. Я весь тут, – он развел руками, – да и то не в целом виде. Кто меня такого возьмет? Кому я нужен? А жить, Лексаныч, ежели по правде говорить, дюже хочется. Только жить по–настоящему, чтобы дело было! А то плыву, куда волны несут. А по течению, Лексаныч, только дохлая рыба плывет. Неужели я заслужил такую жизнь? Скажи, а?
Сказать ему, что он не заслужил такую жизнь, то есть пытаться утешать Данилыча, – пустое дело. Он не мне одному задавал этот вопрос. И мне все время казалось, что его голос нельзя не услышать, его боль нельзя не понять.
– А вот товарищ Цюпа меня не понял, – сказал Данилыч с некоторым разочарованием. И продолжал свою мысль: – Вот у нас говорят про счастье много. Стихи печатают, песни поют. Есть даже книга такая про летчика… Ну, который без ног остался, потом протезы ему сделали. Ноги у него стали, шо твои форменные. Сичас герой. Это правильно. Но, видишь ли, Лексаныч, – сказал он дрогнувшим голосом, – счастье–то не всем. Стоял тут у нас два года тому назад майор с семьей, курортник, хороший мужик, свойский. Присоветовал он мне насчет ноги. «Хлопочи, – говорит – должны тебе ногу дать. Колхоз – говорит, – может заказать или оплатить тебе дорогу в Москву». Пришел я до нашего председателя Скибы, говорю: «Надо мне ногу выписать из Москвы. Такую, шоб в коленке сгибалась. Шоб я, – говорю, – мог с ней на сейнере в море ходить. Не могу, – говорю, – бильше на нефтескладе сидеть!» Меня, видишь ли, по требованию секретаря горкома поставили на нефтесклад, горючее отпускать колхозным сейнерам. «На этой, – говорю, – работе может сидеть полный инвалид! А у меня характера на полного инвалида нет, попятно?»
Ну, Скиба посмотрел на меня, помолчал минут пять. Этот человек по темпам думать – еще в первой пятилетке, а у нас зараз шестая! Верно? Да-а, помолчал, посмотрел на меня и спрашивает:«Ну?» – «Шо, – говорю, – «ну»? Я же сказал, ногу мне нужно». А он, сатана, смеется. «Для сейнеров, – говорит, – и орудий лова есть запасные части, а для людей нема!» И опять в свои бумаги. Посидел я, посидел у него, матюкнулся про себя и хотел уже уходить, как он меня остановил. Встал из–за стола, бугай проклятый – он же один могет тащить пять сакских плугов: шея у него, як бедро у бабы.
«Ты, – говорит, – Шматько, у собесе був?» – «Ни, – говорю, – не був».
Он, чертяка, любить под украинця работать. «А у здравотделе?» – спрашивает. «Тоже, – говорю, – нет». – «Ну, так зараз иди туда. А мне некогда с тобой лясы точить».
Я подался в собес. Там мне сказали, шо верно, в Москве делают ноги, но только для инвалидов Отечественной войны. «А у вас, – говорят мне, – бытовая трамва».
– Травма, – поправил я Данилыча…
– Вот именно трав–ма… А я их спрашиваю: «А шо ж такого, шо у мене трав–ма или як ее там, – ноги–то нет?! А я с этой чертовой (и не выговорить) трамвой, – говорю, – на войне был! Между прочим, орден Красного Знамя и медаль имею. Сам, – говорю, – командующий генерал Петров Иван Ефимович от имени правительства вручал». Я, когда наши войска в тысяча девятьсот сорок третьем году осенью Керчь штурмовали, ходил на сейнере шхипером. Сначала с Кучугур в Глейку, а потом с Чушки – коса такая на Таманском полуострове есть – в Еникале. Натерпелся всякого: ватник семь раз осколками пробивало. Раз шапку с головы волной от снаряда сорвало, и в то место, где у меня нет ноги, две крупнокалиберных пули врезались. Ребята говорили: «Хорошо, Данилыч, шо у тебе ногу раньше отняли, а то теперь бы пришлось страдать». Вот тебе, Лексаныч, как хоть, так и считай: бытовая у меня трамва или нет…