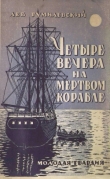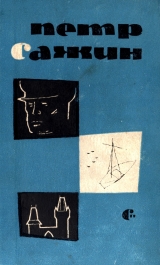
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 41 страниц)
Гаврилов ушел от Морошки, когда часы на Спасской башне пробили полночь. Встреча и вызванные ею воспоминания разбередили душу. Нехотя покидал он этот милый дом. Гаврилов вышел от Морошки так, как уходит одинокий путник темной ночью из теплого, светлого дома в степь, где снежные вихри вьют суровую кудель. Здесь, у Морошки, у теплого семейного очага, Гаврилов почувствовал, как он устал от одинокой жизни.
Часть третья
Глава первая
Прошло пять лет. Исчезла тихая деревенька с Ленинских гор, и на том месте, где стояли приземистые домишки и по овражкам лепились вишневые садочки, вырос и зашумел листвой молодой парк.
Тысячи москвичей и приезжих, иностранные гости и туристы устремлялись к новому университету. Придерживая шляпы, смотрели на горевший золотом смальты шпиль, на высоченные здания и башни с часами, на прямые, как стрела, новые магистрали. Самыми интересными были, конечно, парк и площадка, с которой открывался вид на Москву. Скоростные лифты едва успевали поднимать всех к башне главного корпуса университета, откуда открывалась тонувшая во мгле туманной дымки Москва.
Столица гудела, охваченная пафосом стройки: в Лужниках, на огромном пространстве, московские строители воздвигали величайший в стране комплекс спортивных сооружений.
Новые дома поднялись на Фрунзенской набережной. Новыми зданиями обставились и Можайка, и Ленинградское шоссе, и улица Горького, и Беговая, и Песчаные, и Черемушки… Целые улицы новых домов шагнули прямо в поле.
Новое… Новые… Здесь надо бы остановиться и поразмышлять, потому что слово «новое» стало наиболее употребительным в обиходе нашей страны; смелая мысль, долго томившаяся, словно загнанный в клетку орел, после XX съезда Коммунистической партии взмахнула крылами и пошла ввысь… Но автора ждет его герой. Тем более что новое коснулось и его жизни: Гаврилов окончил институт и стал архитектором. Управление строительства университета дало ему комнату за Крестьянской заставой.
В маленькой гавриловской комнатке отпраздновать эти события собрались друзья. Пока женщины накрывали на стол, мужчины рассматривали альбом и рисунки, развешанные на стенах. Акварель, карандаш, темпера – великие творения русских архитекторов от Бармы до Ухтомского: Кремль, московская церковная архитектура, подмосковные усадьбы. Где только не побывал Гаврилов на своем стареньком, по–верблюжьи выносливом мотоцикле. Звенигород, Коломна, Зарайск. Ни одного выходного дня, ни одного праздника даром! Все пригодилось для работы над дипломным проектом. Теперь студенческая пора позади, государственные экзамены сданы, дипломный проект защищен и принят к производству. Скоро по нему начнется строительство на юго–западе Москвы. Рисунки и акварели Гаврилова вызвали общее одобрение, а Аверьянов, переворачивая с помощью протеза листы альбома, восторженно восклицал:
– Ну, капитан, – удивил! Вот уж что правда, то правда: не топор тешет – плотник.
А университетский прораб гудел:
– Сказать правду, Василий Никитич, комнатенка у тебя зачуханная, а ты из нее планиду сделал! Ну и ну!
Сели за стол. Парадом командовали две женщины: жена прораба и славная, милая девушка, не сводившая влюбленных глаз с Аверьянова, Маша, как он сам запросто представил ее.
Бутылки с шампанским стояли, как артиллерийская батарея. Первый «салют» был за блестящую защиту диплома. Потом, по предложению Аверьянова, пили за скорое свидание Гаврилова с женой.
Гаврилов хотел было отказаться от тоста, но на него все накинулись, а прораб сказал, что пятьдесят четвертый год не сорок седьмой! Что настали другие времена, и возврата к старому не будет.
Пробка стрельнула в потолок и упала обратно на стол. Это было отмечено как хорошая примета: значит, за сим столом предстоят и другие торжества.
Часа через два кто–то из гостей подал мысль пройтись, посмотреть, что вокруг делается.
Когда шли обратно, Аверьянов сказал:
– А домишки–то тут, капитан, стоят чисто нищие на церковной паперти! Вот живешь в новом доме и кажется, будто всегда так было: и горячая вода, и газ, и телефон, а как попадешь сюда, иль в Замоскворечье, иль там на Пресню, сразу видно, почему партия и правительство взялись за жилища! Все эти домишки – чисто клопы… Их, как вражий класс, к ногтю надо! Чего, капитан, смеешься? Иль не так сказал?
– Так, Николай Кириллович, так! А смеюсь тому, что вы хорошо сказали. Выход действительно тут один: к ногтю. А на этом месте мы с вами построим новые светлые дома, широкие улицы, парки.
– Гляжу я, хлопцы, – сказал прораб, – и думаю: никогда наш брат строитель не останется без работы. Вот скоро Василь Никитич новый проект даст, и будем мы такие дома ставить – закачаешься!
Мысль прораба понравилась всем, решено было вернуться к столу и отметить ее доброй порцией вина.
Гости ушли поздно. Гаврилов проводил их до Крестьянской заставы, посадил в такси, снял шапку и пошел навстречу свежему ветру.
Возвращаясь домой, Гаврилов думал о том, что вот он и добился своего – стал архитектором. А в личной жизни все остается в прежнем положении. Конечно, он давно мог бы жениться и даже обзавестись детьми. Но зачем ему жениться, когда он уже женат?
Некоторые из его друзей считают, что Гаврилов после контузии того… недотепанный. Ему и самому иногда кажется, что он действительно «недотепа». Все еще верит, что встретится с Либуше. Как же он встретится, если она не отвечает на его письма? За все время он получил одно письмо в Чите в 1946 году, когда лежал в госпитале. Либуше писала, что у них родился сын. Сын! Как же радовался Гаврилов! Всем раненым, сестрам, нянечкам уши прожужжал. Ночи не спал от радости. Какой он, сын–то?
И виделся ему здоровый, похожий на мать мальчик с льняными волосиками, крупными голубыми глазами. Сын!
Больше писем не было. Сколько он ни писал, Либуше ни разу не ответила. Его письма уходили как вода в песок. Иметь жену, иметь сына и быть одиноким!
Недавно, когда он ехал в институт, встретилась Надя Чакун. Он хотел остановить ее, не успел – открылся светофор.
Вернуться? Догнать? А зачем? Ни ему, ни ей это не нужно.
Есть у Гаврилова три птахи–сестры: одна где–то в Киргизии, другая, та, что замужем за журналистом, на Дальнем Востоке, третья – в Архангельске со своим полярным летчиком.
Друзья по работе? Но чем они могли помочь ему? Видели, что Гаврилов часто грустит, старались вовлечь его в компанию, тащили на танцевальные вечера, на всякие там именины, дни рождения – на «Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью». Знакомили с девушками, старались оженить парня.
Люди постарше, погрубее резали прямо: «Бабу ему надо. Парень красный, как яблоко, вот–вот с дерева упадет!»
Помочь Гаврилову устроить свою судьбу хотели многие. Ему иногда казалось, что и соседка по квартире, тетя Нюша, неспроста жужжала ему в уши о своей дочери Кланьке, и старшина милиции, регулирующий движение у переезда, казалось, тоже готов был принять участие в его судьбе. И старый усатый швейцар Моспроекта, кажется, вот–вот возьмет и спросит: «Ну как, товарищ Гаврилов, ты все еще не женился?»
Голова отяжелела от вина. Гаврилов пошел быстрее. Стало лучше, ветер приятно холодил лоб и щеки. Навстречу ему шагала утренняя заря.
Он остановился, закурил и долго смотрел на разгорающееся пламя зари.
Глава вторая
Около Алешинских казарм, где Крутицкий вал резко ломается и делает на самом изломе узину, милиционер–регулировщик перекрыл движение. И вот в этот момент в правом боку Гаврилова что–то кольнуло, да так, будто ему нанесли тяжелый боксерский удар. Гаврилов подумал – не вернуться ли ему домой, но тут же отказался от этой мысли: разве можно? Его ждут! Не поехать – завалить проект, в который вложено столько сил.
Минут пять мотоцикл стучал вхолостую – колонна солдат, извиваясь, как змея, втягивалась во двор казарм. Гаврилову казалось, что солдаты толкутся на одном месте и что если милиционер надумает еще задержать движение, то он свалится…
Наверно, не надо было ехать сегодня. Еще с вечера он почувствовал себя плохо. Осколки, крохотные кусочки японской бомбы… Военврач в Хабаровске показывал Гаврилову рентгеновский снимок. «А эти, – сказал он, – придется оставить». Еще сострил: «Они здесь, как в сберкассе!»
Хорошенькая сберкасса! От этого «вклада» с ума можно сойти! Между прочим, врач предлагал задержаться в госпитале еще на три месяца. Но Гаврилов не захотел и дня лишнего оставаться: скорее в Москву! Правда, врач говорил, что с этим «металлом» можно двести лет прожить. Но предупредил, что при воспалительном процессе в районе их залегания осколки могут дать побочные явления, не мешает в Москве обратиться к специалисту.
Где там – некогда было! Учеба, работа, хлопоты о Либуше. А в общем, ерунда! Просто распустил себя. Кончил институт и размагнитился. А теперь, когда с проектом «подзатерло», скис. А воля на что? Сжать зубы надо! Вон милиционер уже встал боком – путь открыт…
Мотоцикл «прыгнул», милиционер погрозил вслед.
Всю дорогу Гаврилов думал о судьбе своего проекта. Сколько похвальных слов лилось. А как жали ему руки члены государственной комиссии. Проект был рекомендован к использованию в строительстве Москвы. И вот теперь, когда дошло до дела, на пути появились надолбы, ежи, рвы… Члену архитектурного совета – академику архитектуры Удмуртцеву – не понравился его проект. Но он не «мальчик из архитектурного», а танкист! Не сойдете с дороги, уважаемый академик, пойду на таран!
Гаврилов улыбнулся. Он сказал последнюю фразу громко, во время ожидания зеленого сигнала на Солянке. Шофер со стоявшего рядом «МАЗа» услышал и, не поняв, о чем говорит мотоциклист, спросил:
– Ты чего это? Сейчас дадут зеленый!
– Зеленый? Ему очень нужен зеленый!
Сквозь утреннюю столичную толчею машин и пешеходов Гаврилов пробирался, как щепка на гребне потока, – голова была занята одним: завалят проект или удастся отстоять его.
Насколько же в институте все казалось проще: стоит получить диплом, и ты – зодчий. Ты строишь дома. Да что дома! Города со стадионами, школами, бассейнами, мостами, каких еще никто и никогда не строил! И вот институт окончен, тебе вручили диплом, пожали руку, похлопали по плечу, дали должность – действуй. Но не успел ты сделать и шага – кинули бревно под ноги. Ему, конечно, повезло – сразу попал в магистральную мастерскую, а остальных ребят раскидали кого куда, посадили за рейсшины, к чертежным доскам: разрабатывайте чужие идеи, вы еще, мол, не архитекторы, сначала потрубите в качестве «помоганцев», а там видно будет.
Да, долго будут помниться институт и его коридоры, где в свободное время всегда было полно и шумно, как в пчелином улье. Будущие Баженовы и Казаковы разделывали здесь под орех «ашугов бронзового века», «кондитеров» и «высотников». Особенно доставалось создателям «ансамбля окаменевших пирожных» – так здесь называли павильоны Сельскохозяйственной выставки. Не остались без внимания и авторы «гельфрейхских соборов» – архитекторы высотных зданий на Котельнической набережной, на площади Восстания и на Смоленской.
Институтские коридоры! Пора студенчества! Мечты, дерзания, стремительные полеты фантазии. В институте Гаврилов, наряду с дипломным проектом жилого комплекса, увлеченно работал над ансамблем спортивных сооружений на Ленинских горах. Этот проект делался по «заказу сердца». Гаврилов излазил склоны так любимых москвичами гор вдоль и поперек. Отличное место! Недаром друг Герцена архитектор Витберг собирался строить здесь памятник победам русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Проект Витберга был грандиозен, но он не нашел отзвука в сердце Гаврилова. Зато строки Александра Герцена о Воробьевых горах заставили задуматься.
«Весь город стелется у их подошвы, – писал Герцен, – с их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица; здесь явился перед ним иерей Сильвестр и строгим словом пересоздал на двадцать лет гениального изверга. Эту гору обогнул Наполеон со своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых гор началось отступление».
Ленинские горы! Здесь, в виду Москвы, более ста лет назад Александр Герцен и Николай Огарев поклялись пожертвовать жизнью за лучшие идеалы человечества. Как же хорошо отсюда смотрится Москва! По утрам она чуть–чуть затянута дымкой, и ее жизнь угадывается лишь по гулу. А вечерами внизу чудится не город, а огромный морской рейд, заставленный судами, ждущими свободных причалов.
Гаврилов долго не мог найти изобразительного решения, и вот когда он был близок к отчаянию, вдруг отчетливо представил себе на вершине Ленинских гор стальную трехсотметровую стрелу. В ее наконечнике горят проблесковые огни, как на маяке. В корпусе бегают лифты. Они поднимают прыгунов к стартовой площадке лыжного трамплина.
Облицованная золотистой смальтой стрела сверкает, как солнечный луч. В ее конструкции столько легкости и изящества, словно она только что оторвалась от тетивы и устремилась ввысь.
По бокам, у основания стрелы, – крылья из стекла и легкого металла. В них хранилища для лыж, раздевалки, души. А над ними – площадки, как прогулочные палубы. На них – москвичи, с азартом наблюдающие за состязаниями прыгунов с трамплина. Работая над проектом, Гаврилов часто ездил на Ленинские горы. Он подолгу простаивал наверху и смотрел на город, мысленно представляя себе новую Москву – широкие улицы, замощенные плитами цветных пластмасс. Улицы без духоты и пыли. Дома, тонущие в зелени парков и садов. Мосты, окрашенные в яркие веселые тона: белый, красный, золотой…
Пройдет немного времени, и Москва, конечно, станет такой. Но к чему все это приходит на ум теперь? Не пора ли выбираться из потока машин? Надо обойти вон тот «МАЗ», встать в первый ряд и – прямо к подъезду академии, где уже, наверно, собрались все. А Москва, она, конечно, станет мировым городом. Нужно только шире открыть дорогу молодым силам. Однако собачья боль в боку все не утихает. Кажется, еще больнее грызет…
Гаврилов уже заканчивал свое выступление, когда почувствовал, что ему вдруг стало жарко и перед глазами поплыл сизый дымок. Он сделал усилие, повернулся к чертежам – белая бумага… Сплошь белая! Посмотрел в зал – белым–бело! Гаврилов растерялся.
– Что же вы замолчали? – услышал он голос Удмуртцева.
Гаврилов понимал, что ответить Удмуртцеву нужно во что бы то ни стало. Удмуртцев яростно громил его.
– Что это за проект?! – сочным и зычным голосом опытного оратора говорил академик. – Нам предлагают многоэтажные сараи… Позвольте спросить автора этого шедевра, как он считает: существует ли архитектура как искусство? Или такого искусства уже нет и архитектор – это псевдоним инженера–конструктора? Почему все сброшено с пьедестала? Раньше было окно, обыкновенное милое окно, – теперь нет его! Что же предлагают нам взамен? Стекло, металл, резину. Что это: дом или троллейбус?
Я понимаю, сейчас не время для богатых фронтонов и колонн… Но мы же строим на века! Чем же будет отмечена наша великая эпоха?.. Товарищи! Предки оставили нам неповторимые памятники архитектуры. Захаров – Адмиралтейство, Яков Постник и Барма – храм Василия Блаженного, Воронихин – Казанский собор, Казаков – Колонный зал… А что мы оставим после себя? Может быть, эти бетонные ящики? Или похожее на элеватор книгохранилище Ленинской библиотеки? Или Дом правительства на улице Серафимовича – этот аспидный остров?
В словах Удмуртцева была какая–то доля правды. И Гаврилов часто думал об этом. Но сейчас ему хотелось сказать, что задача советского архитектора состоит не в том, чтобы строить дома–памятники, а в том, чтобы строить дешевые, светлые и удобные жилища.
Он хотел еще сказать, что красота в новом строительстве явится, обязательно явится… Но не успел, сил не стало – упал тут же, у трибуны.
Врачу «неотложки» не удалось привести Гаврилова в сознание. Со всеми предосторожностями больного снесли в машину и отвезли в клинику Нейрохирургического института, где на третий день он пришел в себя.
Бледный, ослабевший, с учащенным дыханием, он очнулся ранним утром, позвал сестру, попросил пить. С трудом оторвался от кружки с водой. Сестра послала нянечку за дежурным врачом.
После ее ухода Гаврилов стал упрашивать сестру позвонить к нему на работу и сказать, что пусть с проектом без него ничего не делают. Он скоро встанет.
Сестра улыбнулась: разве он первый, кто просит ее позвонить на работу? Сколько больных перебывало в клинике, и почти все в первую очередь не о себе, не о своем здоровье пекутся, а о работе. У всех советских людей, стоит им заболеть, создается впечатление, что без них все остановится.
Сестра записала телефон и встала, уступая место врачу.
Не глядя на Гаврилова, врач старательно заполнял «историю болезни». В палате было так тихо, что Гаврилов слышал, как скрипело перо. Подробно, с протокольной дотошностью следователя, расспрашивал врач о контузии, но особенно его Интересовали подробности маньчжурского ранения и операции.
Закончив запись и сказав несколько успокоительных слов, он ушел, а в девять часов утра в палату вошли трое в белых халатах. Среди них был и дежурный врач.
– Вот, профессор! – сказал он, остановившись у койки Гаврилова.
Дальше он стал говорить на латыни.
– Понятно! – сказал профессор и положил руку на лоб больного. Холодной, жесткой и очень тяжелой была рука профессора. От нее пахло никотином.
Затем он откинул одеяло и начал исследование: сгибал колени к животу, требовал, чтобы Гаврилов дышал, потом не дышал, прикладывал к разгоряченному телу леденящий стетоскоп, неизвестно для чего нажимал костлявыми пальцами на горло, на уши, давил на шейные позвонки и несколько раз ударил ладонью по пояснице.
Пока он делал все это, Гаврилова не покидала беспокойная мысль: где он слышал этот голос, где видел эти острые плечи, сухой затылок, нос шильцем и эти энергичные руки?
Дежурный врач подал профессору историю болезни. Просматривая ее, тот вдруг снял очки и с удивлением произнес.
– Гаврилов!
Гаврилов кивнул.
– Вот так встреча! – воскликнул профессор Скурат. – Мой старый больной, – сказал он коллегам.
С утомительной дотошностью Скурат расспрашивал Гаврилова об операциях после ранения в Маньчжурии. Затем что–то долго говорил врачам.
Гаврилов, сколько ни прислушивался к его словам, понять ничего не мог. Между тем положение его, по мнению Скурата, было довольно серьезным: осколки, оставленные госпитальным хирургом, совершили небольшой сдвиг к позвоночнику и ущемили деятельность очень важного нерва. Это и вызвало вначале потерю сознания, а потом слабость.
Осколки нужно было удалять, и притом скорее. Об этом и говорил профессор Скурат.
Руки третьего врача были теплые, осторожные и мягкие, как замша. Они по–кошачьи легко и неслышно скользили по телу. И говорил он негромко и располагающе.
Закончив свое дело, он прикрыл Гаврилова одеялом. Теперь заговорили втроем, тщательно избегая общепонятных слов. Но вот Скурат щелкнул портсигаром и сказал:
– Придется извлекать из спины осколки. Операцию сделаем денька через два–три. Согласны?
Гаврилов кивнул.
В операционной, где от блеска стерилизаторов, хирургического инструмента, непривычной конструкции ламп и у здорового человека темнеет в глазах, Гаврилова одолел мимолетный страх.
Скурат решил провести операцию под местным наркозом. Гаврилову было не только неудобно, но и утомительно лежать на животе. Он не видел, как операционная сестра мазала йодом оперируемый участок и подавала профессору Скурату шприц. Не видел Гаврилов и самого страшного момента, когда после укола в руках хирурга блеснул ланцет. Скурат на миг как бы замер, затем легким движением поднял правую руку и тут же почти незаметно опустил нож и провел им по спине Гаврилова чуть–чуть вниз. Одно мгновение разрез был похож на красную линию толщиной в волос. Гаврилов не ощутил никакой боли, только услышал тонкий металлический звук блестящих, как велосипедные спицы, зажимов.
– Ну вот, Гаврилов, сейчас сделаю последний укол – и можно будет приступить к операции, – говорил он, пробираясь к осколку. – Предупреждаю, укол будет болезненным… Шприц! Шприц! Быстрее! – покрикивал он на сестру. – Ну-с, Гаврилов, колю! Терпите! Те–р–р-пите! Ну, вот и все!
Скурат положил в эмалированную ванночку потемневший металлический осколок. Извлечение его заняло несколько секунд. Гаврилову они показались вечностью, потому что в этот момент его пронзила резкая и острая боль. Он не мог совладать с собой и, вероятно, вскинулся бы, как щука на крючке, если бы железные руки санитарки не удержали его.
– Больной, – сказала она тоном, не терпящим возражения, – давайте не будем мешать профессору!
Гаврилов сразу обмяк. Скурат извлек еще два осколка и затем, очистив раны, стал быстро накладывать швы.
…По мере выздоровления пребывание в больнице становилось для Гаврилова все более тяжелым: скорей бы на волю! Узнать, что с проектом. Пока лежал тут, полный блокнот изрисовал. Его упрекали в том, что он не сумел «привязать» угловой корпус жилого комплекса к Институту механики, выстроенному четыре года назад, когда еще свирепствовала любовь к монументальным формам в архитектуре. Верно, он не сумел тогда, а сейчас «привязал».
Между жилым комплексом и массивным, мрачноватым с виду, с фронтоном и колоннадой, институтом – молодой парк. Он обнесен деревянным забором. Забор долой! На его место – оригинальную сварную решетку на фасоннолитых бетонных столбах. Вот вам и привязка, вот вам и мостик между тяжелым ампиром и легким, современным домом. А для того, чтобы дома его комплекса не выглядели скучными, пустим в ход краски. Блоки, из которых будут собираться дома, окрашиваются прямо на заводе. Казаков, Баженов и вся русская архитектурная школа отлично сочетали белый подмосковный камень с красным кирпичом. Архитекторы вывязывали кружева из них! Лучше всего это видно на царицынском ансамбле, в Кремле и в Загорске. Но когда же, черт возьми, выпишут его?
Всегда мрачно–сосредоточенный, Скурат отвечал хриплым баском:
– Скоро, скоро!
Однажды, посмотрев анализы, сказал:
– Не нравится мне ваша кровь, Гаврилов! Баланс не тот. Ненужный крен она дает…
Что значит «баланс», он не разъяснил, а Гаврилов почему–то не решился спросить.
И опять потянулись длинные, выматывающие душу дни с обязательными измерениями температуры, анализами, обходами врачей.
Лежать было нудно, скучно, и Гаврилов, чтобы не терять зря время, рисовал этюды будущей Москвы. Эх, если б ему стать главным архитектором! Показал бы он академику Удмуртцеву, как надо перестраивать столицу! Конечно, он понимал, – он ведь не безусый юнец, жизнь хорошо обкатала его на своем грохоте, – что перепланировать Москву – задача титанов. И не тех, кто занимает высокие посты в учреждениях архитектуры, а тех, кто, не преследуя личной корысти, печется о будущем.
Старую Москву строили не архитекторы, а воины. Ее архитектурная идея рождена необходимостью надежно защищать город от набегов татар и степных кочевников. Вот и строили валы и крепостные стены толщиной в несколько саженей. Дома–крепости запирались дубовыми коваными воротами.
Необходимость создала и радиально–кольцевую планировку: город в кольце стен, а внутри кольца узкие улочки, кривые переулочки, тупички, майданы. По сторонам света (по ветрам) – сторожевые башни.
Первое кольцо – «царьское» с драгоценными каменьями зданий – Кремль. Второе – кольцо ремесел и торжищ с рядами: Охотным, Китай–городом, Болотом… Третье – Малое Садовое. Четвертое – Большое Садовое. Пятое – заставы. А дальше монастыри, охотничьи соколиные боры для царских охот и для солдатских потех.
И вот теперь, на девятом веке жизни столицы, необходимость поставила задачу: открыть город. Щедро привнести в него простор и воздух лесов и полей. Но что значит открыть город и привнести простор в узкие, кривые московские улочки, переулочки и тупички?
На карте город круглый, как торт. Что ж, архитектор, бери нож и разрезай. Нет!
Французский архитектор Ле Корбюзье смотрел на Москву с Воробьевых гор, затем на план–карту и пришел к выводу, что старый город надо… срыть и построить столицу на новом месте!
Нет, Гаврилов не пошел бы по этому пути. С чего бы он начал? С набережных. Да, да, именно с них. Раздвинул бы проезжую часть набережных Москвы–реки и Яузы, снес бы всю рухлядь, насадил бы вдоль рек, почти у самых чугунных решеток, липы, каштаны, клены, серебристую ель. А между ними – цветы…
Рисование отвлекало Гаврилова от дум о болезни. На листках ватмана под карандашом росли улицы и дома. Школы у Гаврилова были с бассейнами, с площадками для гимнастики и тенниса. Дома с яслями и детскими садами. Это были не просто рисунки, а повести в карандаше: Гаврилов решал не только архитектурные задачи, но и мечтал о тех, кто будет жить в его домах. В его детских садах и яслях будут работать «заслуженные бабушки и дедушки» – пенсионеры, среди которых много врачей, педагогов, мастеров различных ремесел и спорта. Все эти люди, их опыт до зарезу нужны детям. Заслуженные бабушки и дедушки будут учить малышей языкам, ремеслам, спорту. Хорошо будет и детям и пенсионерам.
Карандаш у Гаврилова шустрый и легкий: пять–шесть штрихов – и улица. Да вся в зелени! Да и как не быть ей в зелени, когда в каждом квартале своя оранжерея, в которой работают члены общества любителей живой природы, соревнующиеся на право участия в ежегодных осенних фестивалях цветов!
Скорей бы его выписали на работу. С каким удовольствием он сел бы за руль бульдозера и пошел по тупичкам, по кривым улочкам: по Козихам, Бабьим городкам, Таганкам! Живучи, стоят еще печально–знаменитые «Аржановская крепость» и «Волчатник» в Проточном переулке – дома, в которых жильцов было как зерен в кукурузном початке. А кто жил тут, даже старые, царские дворники не знали. В 1897 году Лев Толстой производил в этих домах перепись… Теперь, конечно, живут уже другие люди, но печально–болезненный облик переулков все еще сохранился.
Перед мысленным взором Гаврилова на этих местах уже виделась новая Москва: светлые, с широкими чистого, безрамного стекла окнами дома. Улицы замощены пластмассовыми плитами белыми, красными, лимонными – каждой улице свой цвет…
Лишь через неделю профессор разрешил выписать Гаврилова. После обхода он пригласил его к себе. Сначала снабдил советами, затем предложил Гаврилову папиросу, некоторое время молчал, сосредоточенно глядя поверх массивных очков на дверь. Потом как–то нерешительно начал:
– Хочу спросить вас, Василий Никитич… я правильно называю вас?
Гаврилов кивнул.
– В истории болезни записано, что вы женаты. Скажите, это та девушка?.. Либуше Паничекова?
– Да.
Скурат облегченно вздохнул, встал из–за стола:
– Очень хорошо. Я думал о вас хуже. Очень хорошо!
Он зашагал по кабинету.
– А где же она работает? Сколько я помню, она врач!
Гаврилов встал и мрачно сказал:
– Не знаю.
Скурат вскинул очки на лоб.
– То есть?
– А то, – сказал Гаврилов, – что она в Праге. А я, как видите, здесь. Сколько ни хлопотал о разрешении на поездку, ничего не получается.
– Да-а, – растерянно сказал Скурат. – Вот бы нам с вами встретиться раньше! Я полгода назад ездил в Прагу… А вы, между прочим, рук не опускайте, хлопочите. Знаете, под лежачий камень… И потом, сейчас легче стало. Дышится легче. Верно ведь?
Глава третья
После операции человек держится первое время на ногах, как на ходулях. И Гаврилов не избежал этого.
Отпустив такси, медленно, испытывая легкую дрожь в ногах, Гаврилов поднялся на второй этаж, постоял немного – нужно было отдышаться. Позвонил.
Дверь открыла соседка, тетя Нюша:
– Василий Никитич! Тебя ль вижу? Господи! Я как чуяла, што ты нынче явишься… Ух, как тебя больница–то усандалила!
Гаврилов шагнул в темный коридор. Он долго не мог открыть замок.
– Пособить? – спросила тетя Нюша. – Я привыкла к этому склепу, как сова, все вижу. – Она вздохнула. – А у меня Кланька–то больная. В горле у ней опух. Доктор сказывала, какой, да я не выговорю. Какой–то сурьезный опух, душит он ее…
Гаврилов наконец открыл дверь и зажег свет. Вместе с ним в комнату вошла тетя Нюша и, не давая Гаврилову слова вставить, продолжала:
– Доктора нынче пошли! Девчонка сопливенькая, чайной ложкой во рту поширяла, рецеп выписала – лечись! А што рецеп? Трата денег. Нас мать, бывало, к чугунку ведерному с картошкой прислонить, а чугунок только из печи – пар из него чисто из паровоза шибает: «Дыште!» А сама сверху тулупом овчинным прикроет. Подышим раз, подышим два – и от энтой ангины шкорлупа одна остается… Ой! – воскликнула она. – Что же это я языком мелю, а полоскание для Кланюшки на плите стоит!
Она повернулась, чтобы идти, но сделала это неловко, задела рукой зеркало и, спасая его, сшибла рамочку с портретом Либуше. Раздался звон битого стекла. Тетя Нюша заголосила:
– Господи! Что за наказание мне!
Покряхтывая, собрала осколки стекла в подол, а фотографию, прежде чем поставить на комод, осмотрела прищуренным взглядом:
– Красивая какая! Не артистка?
– Нет, тетя Нюша, не артистка.
– Ну, пойду я, а тебе если чайку иль чего другого – скажи!
Прежде чем уйти, тетя Нюша еще раз посмотрела на фотографию и протяжно вздохнула:
– Больно хороша–то! Родственница или знакомая?
– Знакомая.
– И где только такие родятся?
– Далеко, – сказал Гаврилов, улыбаясь, – в Чехословакии.
– Ишь ты! Значит, с войны привез?
– С войны.
– Ну, я пойду, а ты, Василь Никитич, чего надо, не стесняйся. На работу–то не скоро? Больничный лист дали?
– Дали.
– Ну вот и хорошо, отдохни. – Она осторожно закрыла за собой дверь, глубокими вздохами и бормотаниями сопровождая свои шаги.
Едва только стих голос тети Нюши, Гаврилов встал с дивана, закурил, подошел к комоду, взял фотографию Либуше, долго смотрел и вдруг ощутил такую тоску!
Дом, в котором жил Гаврилов, стоял над высоким обрывом; внизу блестели железнодорожные рельсы; в сотне метров за переездом, по берегу Москвы–реки, тянулись высокие, с колючкой поверху заборы интендантских складов.
Поезда носились от складов и к складам на большой скорости и всегда отчаянно гудели, разгоняя ребятишек, для которых овраг служил то «полем битвы», то местом спортивных состязаний.
На другой стороне оврага посверкивали темные зеркала Сукиного болота. Местность, носившая это название, в старой Москве занимала довольно большую территорию, но в тридцатых годах на большей ее части был построен завод шарикоподшипников и несколько десятков высоких краснокирпичных домов, удивительно похожих на фабричные корпуса.
Гаврилов поселился здесь с обещанием, что «через годик» ему дадут комнату в новом доме со всеми удобствами. Он скоро привык к этому дому.