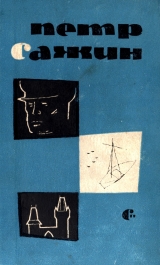
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 41 страниц)
К сожалению, почти на всем пути нас преследовали штормы. Охоты не было. С большим огорчением мы обогнули мыс Наварин, открытый в 1829 году известным русским мореплавателем Федором Литке, плававшим здесь на шлюпе «Сенявин». Олюторский залив встретил нас туманами, да такими густыми, что флотилия, не останавливаясь, направилась на юг. Не пришлось нам задержаться и в заливе Корфа, и в Карагинском, и в следующих за ними Озерном, затем Камчатском… Остались за кормой полуостров Говена, остров Карагинский, острова Арий Камень и Топорков, Каменные лбы мыса Африка… Миновав высокий мыс Кроноцкий, мы вошли в Кроноцкий залив, в знакомые и милые сердцу места, называвшиеся в старину Бобровым морем. Многое у нас связано с этим заливом: здесь капитан Кирибеев начал обучение первых советских гарпунеров и добыл первых китов.
Пока мы шли до Кроноцкого полуострова, нас преследовали то густые, как молоко, туманы, то мелкие, липкие дожди, которые на Камчатке называют бусом, то порывистые ветры, гнувшие мачты. А когда миновали далеко выдающийся полуостров, перед нами открылось изумительное море. Но шторм был такой силы, что мы не могли войти в бухту Моржовую; пришлось обогнуть мыс Шипунский и войти в Авачинскую губу, где нас и приютила бухта Тарья.
Стояла чудесная осень. Сопки, поросшие эрмоновой березой, тополем, осиной, лиственницей, кедровником и можжевельником, окинулись золотом. А над всем этим – белые снега Авачи, сопок Корякской и Козельского. Теплынь – как в бабье лето где–нибудь в Средней России. Тихо. Вода чистая, но темная.
После льдов и северных ветров, после туманов и буса китобои ожили: всюду слышались веселый говор, шутки, песни. Только капитан Кирибеев помрачнел. Я не мог понять, в чем дело. «Тайфун», несмотря на простой в ремонте, не только догнал «Вихрь» и «Гарпун», но даже имел на два кита больше. Лишь на другой день мне все стало попятно.
Бухта Тарья расположена рядом с Петропавловском, оттуда на следующий день после нашего прихода была доставлена почта. Увы! И на этот раз капитану ничего не было. Кирибеев сел в шлюпку и отправился на «Аян». Вернувшись, он приказал поднять пар, и через час «Тайфун» вышел в море. Я остался в бухте Тарья.
«Тайфун» вернулся лишь на рассвете и притащил крупного финвала. Сдав кита, Кирибеев не стал наслаждаться прелестями чудесной бухты и снова ушел в море. На этот раз я отправился с ним. В море он как будто пришел в себя, но работал как одержимый, словно знал наперед, что ему все нужно делать быстрее, иначе он не успеет. Он редко покидал мостик и непрестанно курил.
Я ломал себе голову – чем объяснить его взвинченное состояние? У меня было только одно объяснение: что уехать–то от Ларисы он уехал, а расстаться с ней не может. Хотя в тот памятный день, когда мы стояли в Петропавловске, он на мой вопрос: а принял бы он Ларису, если бы она вернулась сюда, к нему? – ответил, что с этим все кончено, что к старому возврата нет. Я поверил ему. Неужели он все еще не может успокоиться?
Мы пробыли в море долго. Лишь после длительных и мучительных поисков обнаружили небольшое стадо кашалотов и, несмотря на сильную волну, убили двух китов. У пушки стоял сам Кирибеев. Он четко провел все маневры и уложил каждого кита одним гарпуном. Делал он все очень ловко и красиво. У пушки стоял необычайно собранно, с присущей лишь опытным гарпунерам статью. Ему отлично помогал штурман Ворожейкин: он действовал как опытный капитан – вовремя угадывал предстоящий маневр судна и четко отдавал приказания.
До базы было далеко, когда мы, отягощенные добычей, взяли обратный курс. Кирибеев был довольный, веселый. В кают–компании, куда мы спустились после того, как «Тайфун» повернул в сторону Авачинской бухты, он шутил и с аппетитом ел. Ни он, ни я не подозревали, какое несчастье ждет нас впереди.
39
Море словно с ума сошло: только что было тихо, вода едва рябилась, как студень, застывающий на ветру, и вдруг все кругом закипело.
«Тайфун» то поднимался вверх, то опускался. Резкий ветер так давил на уши, что ничего не было слышно. Мы понимали друг друга лишь по движению губ либо когда кричали друг другу прямо в уши. Пропали чайки, скрылись киты. Среди волн мелькали лишь косатки.
– Плавучий гарпун! – прокричал мне в ухо капитан Кирибеев, показывая трубкой на несущуюся косатку.
Она шла, ввинчиваясь в воду, и легко проскакивала через толстые, словно отлитые из стекла, водные скалы.
Но вот исчезли и косатки. Кругом только бушующее море и воющий ветер. Китобоец с трудом шел вперед: мешали ошвартованные у бортов кашалоты. Капитан Кирибеев упрямо вел корабль наперерез волне. «Тайфун» скрипел, стонал, но лез на крутые волны, затем скатывался в кипящие пучины.
Я никогда не думал, что вода может быть такой злой, а корабль с его мощной машиной и людьми – таким беспомощным и жалким.
Делать ничего было нельзя – все под ногами и руками ходило: палуба, стол, стулья, тетради, перо. Иногда потолок и палуба как бы менялись местами, и с полок сыпалось все, что плохо лежало.
Самым благоразумным в этот момент было лечь спать. Но сон не шел, а лежать просто так не хотелось. Я поднялся на мостик. Кирибеев в зюйдвестке и ледериновом плаще блестел, как синий кит.
– Ну и погодка! – сказал я.
– Какого черта вы бродите здесь, профессор?
– Не спится в такую погоду.
– Океан как человек: посердится, посердится и отойдет. Там, за мысом Шипунским, я надеюсь, будет тишь и благодать. Как держишь? – вдруг закричал он на матроса и бросился к штурвалу. Оттолкнув матроса, быстро стал перекладывать румпель.
«Тайфун», тяжело вздыхая, охая, скрипя, взобрался на крутую гору и, зарываясь в шипящей волне, свалился в разверзшийся омут. Он катился так стремительно, что казалось – падал в пропасть. Меня охватил страх, и я, как в детстве, когда впервые пришлось сесть на деревенские качели, закрыл глаза. Мне казалось, что падение в омут продолжалось бесконечно долго.
– Страшно? – вдруг раздалось над моим ухом.
– Страшно, – признался я.
Налетевший шквал унес мои слова, и «Тайфун» так тряхнуло, что я с трудом удержался на ногах. Тяжелая волна ударилась в левую скулу китобойца и, разбившись веером, опала на корабль, залив нас с головы до ног.
Стряхивая с себя воду и отплевываясь, Кирибеев сказал улыбаясь:
– Люблю свежую погоду… Спокойное море не по мне. Спокойное море что человек без характера: скучно с таким человеком…
Он не договорил. «Тайфун» перестал падать, встречной волной его захлестнуло; вода с шипением прошлась по всем закоулкам и надстройке и чуть–чуть не сбила с ног. Затем нас начало поднимать вверх. Долго и медленно мы ползли в гору. Усилившийся ветер разбивал в пыль загривки волн. Океан поседел, он как бы вспух, и вода стала похожа на снег. Водяная пыль мелкой поземкой неслась нам навстречу.
Сердце мое сжалось от почти мистического страха. Кирибеев замолчал. Он плотно сжал губы и не спускал острого взгляда с новой, надвигавшейся на «Тайфун», еще более страшной и разъяренной волны.
«Тайфун» стремительно скатился в кипящую бездну и на миг остановился, как бы раздумывая или ища выхода. Волны стремительно накинулись на него. Мелкие, злые, они, словно свора на травле, окружали нас со всех сторон. Они угрожающе шипели и со стоном лезли на судно.
Между тем огромный вал с седой и лохматой вершиной, возвышавшийся над нами, готов был уже подмять нас под себя.
– Последний! – прокричал Кирибеев. – Там, – указал он вперед, – будет тише.
Отбиваясь от своры мелких бушующих волн, «Тайфун», направляемый опытной рукой капитана, медленно полез вверх. Он поднимался почти отвесно, как муха по стене. Рулевой с восхищением следил за капитаном.
В эту минуту я понял, что Кирибееву все можно простить ради того большого человека, который жил в нем, как ядро в твердой и корявой скорлупе грецкого ореха.
Когда «Тайфун» дополз до вершины вала, тут и случилось несчастье…
Все произошло настолько быстро, что я, сколько потом ни пытался вспомнить, как это было, не мог. Я только помню, что капитан Кирибеев заметил, как начала отрываться одна из китовых туш. Оп передал штурвал рулевому, что–то крикнул мне и мгновенно исчез с мостика. Я видел, как он схватил цепь и принялся что–то делать. Потом нагнулся и стал шарить по палубе… В этот момент на китобоец налетела волна и накрыла капитана Кирибеева. Больше я ничего не видел.
Я бросился вниз, на помощь капитану. Там я застал Чубенко, Порядила и Жилина: они несли с кормы окровавленного, потерявшего сознание Кирибеева…
Как только капитан Кирибеев был уложен в постель, штурман Ворожейкин, заменивший его на мостике, обогнул мыс Шипунский. Здесь было тише; зеленые волны уже без прежнего азарта хлопотали вокруг «Тайфуна». Впереди виднелась спокойная вода. На горизонте возвышались скалы Трех братьев и мыса Станицкого – китобоец приближался к Авачинской губе. Капитал Кирибеев лежал с закрытыми глазами и порывисто дышал. Лицо его от сильной потери крови осунулось и поблекло, на щеках выкинулась щетина. Под подбородком толстый кусок бинта весь пропитался кровью. Кровь просачивалась и сквозь повязку на правой руке. Рука была сломана выше локтя, и очень неудачно: на месте перелома образовалась гематома.
Кирибеев жаловался и на боль в правом боку.
Чубенко, Порядин и Жилил оставили меня одного с капитаном, а сами ушли: Чубенко – на мостик, где он сменил матроса у руля; механик Порядин встал у реверсов в машине, а в кочегарку поставил дополнительно еще одного кочегара. Жилину было поручено поставить кашалотов на флаг. Все это делалось для того, чтобы «Тайфун» имел возможность двигаться самым быстрым ходом.
После ухода Порядина, Чубенко и Жилина Кирибеев открыл глаза.
– Где я? Почему в постели? – тихо спросил он и попытался встать, но острая боль уложила его обратно.
Он застонал. На лбу выступили капельки пота. Он что–то сказал, но я не расслышал.
– Я просил трубку, профессор, – тихо, с трудом выговаривая слова, сказал он.
Я не знал, можно ли дать ему трубку, но тем не менее стал искать ее. Трубки нигде не было. Я сказал ему об этом. Он на секунду открыл глаза и медленно проговорил:
– Не надо… Не ищите… Она в море… Из–за трубки и пострадал. Если бы не нагнулся искать ее, ничего бы и не было. Я как–то говорил вам, что из–за трубки погибну, как Тарас Бульба… Вот и накаркал.
Через час «Тайфун» подошел к китобазе, и в каюту вошли капитан–директор Плужник, Каринцев, доктор с «Аяна» и медицинская сестра.
Капитал Кирибеев обвел вошедших мутным, воспаленным взглядом и, остановив его на Плужнике, закрыл глаза.
Доктор попросил всех выйти.
Пока он делал свое дело, мы сидели в кают–компании. Каринцев курил папиросу за папиросой, а Плужник, опершись на руки, тихо сопел, Я рассказал им о том, что произошло у капитана Кирибеева с Ларисой, чтобы решить – стоит ли ее вызывать? Рассказал, как он нервничал, не получая от нее писем, как искал самую тяжелую работу, не жалея себя, рисковал. Я считал, что Ларису нужно вызвать, Каринцев – тоже, а Плужник был против. Он говорил, что появление Ларисы только ухудшит состояние капитана. По его словам, выходило, что еще в тридцать четвертом году у него сложилось впечатление, что Лариса погубит Кирибеева.
Он говорил об этом долго и подробно, повторяя, в сущности, то, что я уже знал из рассказа самого Кирибеева.
Доктор долго не шел. Плужник вызвал вахтенного и попросил, чтобы кок подал кофе. Когда подали кофе, Плужник вздохнул и сказал:
– Да! Сколько раз я говорил ему: «Допрыгаешься ты, Степан!» Вот и допрыгался. Кто теперь его заменит, как ты думаешь, Каринцев?
Каринцев пожал плечами:
– Не рано ли говорить об этом, Сергей Александрович? Подождем, что доктор скажет.
– Доктор доктором, – возразил Плужник, – а мы с тобой большевики, нам нюни распускать нечего… Нужно заранее предусмотреть, как расставить кадры.
Каринцев еле заметно подмигнул мне и хотел что–то сказать, но в это время вошел врач.
По выражению его лица было видно, что положение серьезное. Доктор сообщил, что у Кирибеева перелом правой руки чуть выше локтевого сустава и – предположительно – двух нижних ребер в правом боку. Он считал, что Кирибеева нужно срочно направить в петропавловскую больницу.
Плужник вышел вместе с врачом. Я и Каринцев задержались.
– Ну, что вы считаете? – спросил Каринцев, когда закрылась дверь за доктором и Плужником.
– По–моему, нужно вызвать… Ее дело: захочет – вылетит, не захочет – не вылетит…
На том мы и порешили.
Когда была составлена телеграмма, мы распрощались: Каринцев отправился на китобазу, а я в каюту капитана Кирибеева. Через полчаса «Тайфун» отошел от борта «Аяна» и направился в Петропавловск.
Перед отходом «Тайфуна» Плужник несколько минут провел у постели капитана Кирибеева. Он стоял хмурый и растерянный. Его грузная фигура обмякла, плечи опали.
Капитан Кирибеев лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Порой он вздрагивал и дробно стучал зубами – его била лихорадка.
– Эх, Степан, Степан! – тихо сказал Плужник. – Как же это ты так?
– Рано хоронишь меня, капитан–директор, – ответил Кирибеев.
– Помолчи, Степан! – строго сказал Плужник. – Тебе нельзя говорить.
Кирибеев открыл глаза и сердито посмотрел на него.
– Я знаю, что мне можно и чего нельзя… товарищ капитан–директор. Мне нельзя на мертвый якорь, а говорить, пока все не скажу, буду!
Он передохнул и продолжал:
– Прошу, пока я буду в этом чертовом доке – в петропавловской больнице, оставить на «Тайфуне» вместо меня штурмана Ворожейкина.
Плужник поморщился.
– Ну что ты, Степан! Лежи… Мы всё без тебя тут уладим. Лежи…
Кирибеев передернулся:
– Ответь мне: даешь слово сделать, как прошу?
Плужник оглянулся, посмотрел на меня и вздохнул.
– Ладно, – сказал он, – пусть будет по–твоему. А теперь пора… Ну, до свидания! Поправляйся скорее.
Кирибеев ничего не сказал. Откинув голову навзничь, он порывисто дышал; как видно, разговор сильно утомил его. Плужник взял фуражку с огромным «крабом» и тихо, стараясь не ступать на всю ступню, вышел.
Когда дверь за ним закрылась, Кирибеев застонал. Сквозь стон он спросил:
– Ушел?
– Ушел, – сказал я.
– А вы, профессор?
Я не успел ответить, как в каюту вошел врач.
Кирибеев повторил свой вопрос.
– Нет, – сказал я, – я на «Тайфуне» остаюсь.
– Правильно! Надо помочь Ворожейкину…
– Степан Петрович! – сказал доктор и укоризненно посмотрел на меня.
Капитан Кирибеев нахмурился.
– Молчу, доктор, молчу, – сказал он и закрыл глаза.
Я понял, что мне нужно уйти.
40
По распоряжению капитан–директора Плужника доктор сопровождал капитана Кирибеева до больницы. Из больницы он вернулся на китобоец озабоченный. «Тайфун» уходил обратно в бухту Тарья, к месту стоянки китобазы. Я решил остаться на несколько дней в Петропавловске. Быстро собрав чемодан, я направился на берег. Доктор остановил меня у сходни.
– Вы, кажется, друг Степана Петровича? – спросил он.
Я кивнул.
– Очень прошу вас в случае ухудшения сообщить на «Аян» товарищу Каринцеву… Хотя все сделано, но вы же знаете характер капитана Кирибеева…
Сойдя на берег, я задержался, пока «Тайфун» отваливал от пристани. На палубе, сурово насупившись, стояли Чубенко, Жилин, Порядин, Макаров и кок Остренко. Каждый из них, пока я собирал вещи, побывал у меня в каюте. Они давали один и тот же совет – «поднять всех на ноги», если капитану будет худо, совали мне деньги, чтобы я покупал все, что потребуется Степану Петровичу… Чубенко советовал «в случае чего» идти прямо в обком, а Остренко сунул сверток и сказал:
– Вот тут огурчики маринованные и кексик лимонный для кэпа. А то там, в больнице, диетой замучат…
Когда «Тайфун» скрылся за мысом, я направился в город. В прозрачном воздухе парили орлы. Над золотыми, курчавыми склонами сопок блестели высокие снеговые вершины. Раскинувшийся амфитеатром город выглядел величественно и празднично. Надо же было в такую погоду случиться несчастью! Не в больнице, а на мостике корабля нужно было быть Кирибееву. Сколько бы походов мы совершили с ним!
Больница, в которой лежал капитан Кирибеев, находилась в самой высокой части города. Из ее окон открывался вид на бухту. Кирибеев лежал у окна. Я каждый день ходил к нему. Болезнь протекала, по заключению врачей, удовлетворительно, но он нервничал, плохо ел и требовал трубку. Врачи запрещали ему курить – у него все еще держалась температура, хотя и не очень высокая. В легких слышался хрип, и сильно отходила мокрота. Врачи опасались воспаления легких. Его пичкали порошками и ставили банки. Он принимал все это с трудом и каждый раз вступал в спор с дежурными сестрами.
Обычно все больные в первые дни всецело сосредоточиваются на своей болезни: те, у кого нервы покрепче, молчат, впечатлительные и слабые стонут, жалуются на боль, а те, кто не привык сдерживать себя, из–за каждого пустяка зовут врача. Капитан Кирибеев, никогда в своей жизни не болевший, считал свое пребывание в больнице делом противоестественным, поэтому он был неспокоен и часто атаковал врачей – но не жалобами, а вопросами.
– Неужели, – спрашивал он, – нельзя лечить побыстрее? Всюду люди стали работать быстрее. Сокращаются процессы плавки стали… Даже деревья и те люди стали выращивать быстрее. А вы, врачи, работаете по–старому. Ну что я тут валяюсь, когда должен стоять на мостике!
Кирибеев стонал не от боли, а оттого, что вынужден был лежать, как беспомощный ребенок. Страдал он и из–за того, что «кормили его диетой» и не давали курить. Когда в палате не было врача, он уговаривал меня принести ему трубку и табак. Я не соглашался. Он сердился, отворачивался от меня и подолгу молчал. В конце концов я сдался и в следующий раз принес ему желтую коробку «Золотого руна» и трубку.
Вместе с трубкой и табаком я передал ему Остренковы маринованные огурчики и «кексик лимонный».
Он был так обрадован, что в этот день безропотно принял все порошки. Он много говорил, но не о своей болезни, а о том, что его больше всего беспокоило: о развитии промыслов на Дальнем Востоке. Ему, конечно, нельзя было много говорить. Но разве можно остановить его? Да я и не знаю, что было бы вреднее для него: тяжкое молчание, которое вызывало уныние, или горячий разговор, от которого у него на щеках рождался румянец, а в глазах бегали искорки? Активность – естественная черта его натуры. Почему бы и во время болезни не быть ему в приподнятом состоянии?
Я не перебивал его и не говорил ему тех расслабляющих волю слов, которые всегда говорятся больным: «отдохните», «вам вредно» и так далее.
Он сам умолкал, когда уставал, и начинал говорить снова, когда силы возвращались к нему. Он понимал, что с ним произошло, понимал, что не скоро вернется на мостик. Вероятно, поэтому он и был так разговорчив, не желая, чтобы его идеи лежали вместе с ним в больнице. Голова его работала отлично, а память порой поражала меня.
– Мы должны, – говорил он, – расширить районы промыслов. Довольно жаться к бухтам. Пора начинать распахивать целину. Как же много ее здесь! Берингово море – самое большое из дальневосточных морей. Его площадь – два миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь квадратных километров, а Охотское море около двух миллионов квадратных километров. Есть где поохотиться? А? Как вы думаете? А мы добываем пятьсот китов – и рады! В газетах звоним… Не люблю я этого. Делом надо заниматься, вот что…
В наших водах – богатейшие китовые пастбища. Сюда в летнее время стекаются на нагул киты от берегов Калифорнии и Мексики, из морей, омывающих страны Азии. Вы что думаете, они все скопляются у берегов Камчатки? Я уверен, профессор, киты есть и в районе впадины Тускарроры, за Командорскими островами, у Курил… Нужно налаживать промысел открытого моря. Смелее бороздить воды, искать китов и бить их там, где их больше всего скопляется!
Эх, профессор, кипит у меня все… Как не вовремя случилась со мной вся эта чертовщина!.. Какая глупость была искать трубку!
Когда в палату входил врач, Кирибеев умолкал, подмигивал мне, откидывал голову вверх и смотрел на потолок.
Время от времени он скашивал глаза и спрашивал взглядом: «Ушел ли врач?»
Когда я кивал ему, он поворачивался и с прежней страстью продолжал:
– Маневренность – вот чего нам не хватает… Старый хрыч Плужник не понимает этого: он держит базу на якоре в бухтах, уголь экономит. А какой, спрашивается, к черту толк от этой экономии? База экономит, а мы сжигаем лишний уголь на переходах из бухты на промысел и с промысла. Экономим рубль, а выбрасываем десять! По–хозяйски ли это?
Вот Плужник не понимает этого – считать, что ли, не умеет? А Ворожейкин понимает. Хороший парень! Отличный выйдет из него капитан!
Мы вели эти беседы почти всякий раз, когда я приходил к нему. К концу моего визита он уставал и говорил:
– Ну, теперь идите, я отдохну.
Я уходил.
Как–то я зашел к нему в тот момент, когда он читал письмо. Увидев меня, он радостно замахал им:
– От ребят… Справляются, как я себя чувствую… Между прочим, пишут, что сюда собираются Плужник и Каринцев. Хотят повидаться. Флотилия уходит в Кроноцкий залив. Без меня уходит, а?..
Он нахмурился, сунул письмо под подушку. Некоторое время молчал, морща лоб, затем посмотрел на меня долгим, испытующим взглядом и вдруг спросил:
– А что, если я отсюда сбегу?
– Куда? – сказал я.
– На китобоец!
– Как же это?
– А так… попрошу Ворожейкина зайти на «Тайфуне» в бухту – так? Хлопцы придут за мной – так?
Я покачал головой.
– Ну какая разница – лежать тут или там? На китобойце лучше! Здесь я загнусь с тоски, а там я быстро поправлюсь. И воздух там морской, целебный. А?
Я только хотел ответить ему, но тут вошла дежурная сестра и сказала:
– Больной Кирибеев, к вам жена!
Капитан Кирибеев побледнел.
– Жена?! – спросил он.
– Ну да, – сказала сестра, – из Ленинграда прилетела…
– Лариса?! – воскликнул Кирибеев и посмотрел на меня таким взглядом, что мне сделалось жутко. – Зачем, профессор, вы сделали это? Кто вас просил?! Ну что я теперь буду делать?
Он провел здоровой рукой по лицу, заросшему густой рыжеватой с проседью щетиной.
Заметив, что сестра ждет, он сказал:
– Хорошо, идите… – и отвернулся к стене.
Я почувствовал себя неловко и, постояв немного, вышел из палаты.
Лариса сидела на скамейке и нервно комкала перчатки. Она выглядела именно такой, какой я видел ее на портрете в каюте у капитана Кирибеева: большие карие глаза под длинными ресницами, пухлые, слегка подкрашенные губы, прямой, чуть вздернутый нос. С первого взгляда она не показалась мне красавицей, но, приглядевшись, я заметил в ней что–то такое, что невольно остановило меня. Столько обаяния и какой–то особой девической свежести было в ее лице, во взгляде, в складе губ, в цвете кожи. Мне стала понятной почти слепая и безрассудная любовь к ней Кирибеева.
Ее внешность, казалось, исключала все то, о чем рассказывал капитан Кирибеев. Конечно, мне могут возразить: внешность обманчива. Это не ново. Но пусть скажет мне кто–нибудь, что трагедия неразделенной любви или несчастной любви так же свежа, как утренняя роса!..
Лариса гордо и, как мне кажется, небрежно посмотрела на меня, вздохнула – ноздри ее вздрогнули – и направилась в палату.
Больше я не заходил в больницу: в тот же день я отбыл в бухту Тарья.
Через месяц флотилия закончила сезон промысла и направилась в Приморск. Кирибеева увезла Лариса на пароходе «Анадырь», на котором весной мы впервые встретились с ним.
В тот день, когда флотилия вернулась в Приморск, капитан Кирибеев выехал в Крым – лечиться грязями на Евпаторийском курорте.
Через неделю я отбыл в Москву.
Эпилог
Прошли годы. Страна наша пережила длительную и жестокую войну… Война вздыбила все. Она отняла сотни тысяч людей от родного крова и привычных дел и закружила их, как песчинки, в вихре кровавых событий.
Война подняла и меня из–за стола, оторвала от научной работы и вместо Тихого океана, куда я собирался снова выехать, бросила на запад.
Я пробыл в рядах Советской Армии пять лет. По ходатайству института был уволен в запас. Для возвращения в Москву я избрал такой маршрут: Бухарест – Констанца – Одесса – Москва. В Одессе стояла готовая к выходу в Антарктиду новая мощная советская китобойная флотилия «Слава».
Меня интересовала не только флотилия «Слава», но и возможная встреча с капитаном Кирибеевым… Правда, я о нем ничего не знал: капитан как уехал тогда в Евпаторию, так словно в воду канул.
В Одессе я прожил неделю. «Слава» поразила меня: в сравнении с «Аяном» она возвышалась как скала.
Глядя на китобазу и целую эскадру китобойцев, я думал: вот и исполнилась мечта капитана Кирибеева о распахивании «морской целины», о промысле в открытом море, о мощной, маневренной океанской флотилии. Но где же он сам?
В Одессе я узнал, что Кирибеев жив, вскоре должен прибыть сюда.
Задерживаться дольше в Одессе мне не было смысла, и я поспешил в Москву.
На одной из станций, название которой затерялось где–то в недрах моей памяти, наш поезд стоял особенно долго: ждали «скрещения с московским». Но пришел московский, а ни он, ни мы не уходили. Пассажиры московского поезда кинулись к торжищу, а мы гуляли по пыльной, засыпанной шлаком платформе. Мне скоро это занятие надоело, и я решил вернуться в вагон.
Когда я взбирался на подножку, то услышал вдруг за спиной:
– Профессор!
Я обернулся.
У подножки московского вагона стоял с зажаренной курицей в руке седоусый капитан третьего ранга со шрамом во всю щеку и хитренько улыбался прищуренными глазами из–под глубоко надвинутого козырька морской фуражки с золотыми дубовыми листьями.
Что–то знакомое было в лице и фигуре моряка.
– Не узнаете? – спросил он.
– Нет, – сказал я.
Капитан третьего ранга рассмеялся и сказал, качая головой:
– Вот тебе и Галапагосские острова!
– Капитан Кирибеев?! – крикнул я и спрыгнул с подножки.
Да, это был Кирибеев! Седые казацкие усы и глубокий шрам, тянувшийся через всю щеку от правого глаза, помешали мне сразу узнать его.
Мы обнялись, поцеловались, похлопали друг друга по плечам, словно испытывая крепость их, затем, оттолкнувшись, внимательно всматривались друг в друга и наконец заговорили.
– Что же мы стоим? – сказал капитан Кирибеев. – Зайдем ко мне в вагон. Поезд еще постоит минут двадцать – двадцать пять.
Я поднялся вслед за ним.
Он открыл купе и, подавая в дверь курицу, сказал кому–то:
– Ребята, принимайте гостя!
Когда я шагнул вслед за Кирибеевым, навстречу мне поднялись три моряка. При тусклом свете я не сразу разглядел их лица.
– Профессор! – восторженно, в один голос воскликнули они.
– Боже мой! Кого я вижу! – вскричал я в свою очередь, пожимая протянутые руки Чубенко, Жилина и Макарова.
Вглядываясь в лица китобоев, я вспомнил все: бухту Сторож, «глаз тумана», убитую Жилиным косатку, Плужника, Небылицына, поход на север, ураган, ранение Кирибеева, больницу, Ларису. Все это молниеносно, но зримо пронеслось перед мысленным взором. Вспомнил беседы с Кирибеевым, когда он говорил, что придет время – и мы будем промышлять китов в Антарктике. И вот это время теперь пришло: четыре моих друга по «Тайфуну» направлялись в Одессу, где стояла первая советская антарктическая китобойная флотилия «Слава» с пятнадцатью китобойцами…
Пока мы обменивались рукопожатиями, капитан Кирибеев сбросил фуражку и шинель, – на кителе его сверкнула золотая звездочка Героя Советского Союза.
– А ну, хлопцы, – сказал он, – хватит травить, достаньте «энзэ»…
Мы выпили за случайную, но чудесную встречу, за окончание войны, за возвращение к мирной жизни и за успех похода китобойной флотилии «Слава» в Антарктику…
Капитан Кирибеев вышел проводить меня. По пути до моего вагона он успел рассказать мне, что Плужник уже не командует «Аяном» – там Каринцев. Нет на флотилии и штурмана Небылицына. Ворожейкин командует «Тайфуном». Механик Порядин умер.
– А Лариса? – спросил я.
Вместо ответа он махнул рукой: все, мол, с этим вопросом.
Раздался звонок, паровоз пронзительно засвистел, и московский поезд дернулся. Загремели, застучали вагоны. Кирибеев прыгнул на подножку и, сложив руки рупором, крикнул:
– Приезжайте к нам на «Славу»!
Я помахал ему рукой и прокричал:
– Счастливого плавания!
1936–1955

Трамонтана
ОТ АВТОРА
Эта повесть, как и предыдущая моя книга – «Капитан Кирибеев», посвящена людям моря. Море и люди, жизнью связанные с морем, очевидно, будут героями и следующих моих произведений. Я не знаю, что послужило побудительной причиной возникновения у меня огромной, страстной, до душевного ожога, любви к морю… Ведь я родился и провел юношеские годы в степной части нашей страны – на Тамбовщине. Но, страстно любя море, я все же не могу сказать, что эта любовь целиком заслонила от меня образы милой тамбовской природы: ее бескрайние степные просторы, ворчливые родники студеной воды; плавно текущие реки с глубокими омутами, в которых прячутся жирные сомы; кудрявые дубняки; полевые цветы; чарующие картины восходов и заходов солнца; песни жаворонков и концерты соловьев… Нет! Я люблю край моего детства и юности и бережно храню давнюю мечту о том моменте, когда, собрав все мужество, возьму да и напишу о нем. Великий Гёте сказал: «Художник не должен изображать, не может изображать то, чего он не любил, чего но любит».
Но вернемся к морю. Впервые я попал на его просторы в 1926 году, то есть через год после окончания средней школы. Балтийское море не такое уж грозное, но меня оно встретило примерно так же, как тренер по боксу встречает новичка, – оглушающим ударом. Под этим ударом наше крошечное суденышко, шедшее в Стокгольм, едва не потонуло. Тяжело мне, кочегару второго класса, досталось крещение в морской купели!
С того времени прошло тридцать три года, а память о том дне так же свежа, как будто ураган только что кончился. Боксерский удар моря я выдержал. За тридцать три года побывал на многих морях: Каспийском, Баренцевом, Черном, Северном, Балтийском, Японском, Беринговом, Мраморном, Эгейском, Средиземном, Красном – и на трех океанах: Северном, Тихом и Индийском.
Среди названных мною морей нет Азовского. Это не случайно, так как я познакомился с ним совсем недавно. И хотя дважды пересекал его на самолете во время Великой Отечественной войны, на его берега попал лишь в 1952 году. Море очень понравилось мне. В 1956 году я снова побывал на нем.
Живя в рыбацкой Слободке, я не только познакомился с будущими героями своей повести – председателем колхоза «Красный рыбак» Скибой, капитаном сейнера Миколой Беловым, рыбаком комсомольцем Семеном Стеценко, молодым ученым Сергеем Александровичем, от имени которого ведется повествование, и, наконец, с главным героем повести Данилычем и его женой Марьей Григорьевной, но и узнал много горьких фактов о маленьком, горячо любимом мною прелестном море. И конечно же, как вы догадываетесь, все это нашло отражение в повести.








