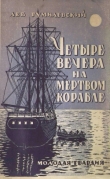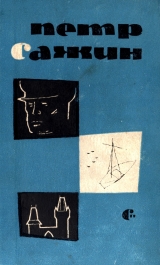
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 41 страниц)
Он «хлопнул» стаканчик, и мы вышли на берег.
Утро только–только глаза продирало. Море, как и вчера, стояло тихое и такое гладкое, словно отполированное. Но сегодня над ним широким фронтом нависли пышные, белые как кипень облака, отчего оно было удивительно живописно! Но в то же время в нем чувствовалась какая–то скрытая сила, достигшая как будто предельного накала и готовая, кажется, вот–вот разразиться.
– Ну, – сказал Данилыч, внимательно оглядев море и небо, – будет такая полундра, шо небо покажется с овечью шкиру… Либо твой, Лексаныч, пароход проскочить, либо ты нахлебаешься на целый год!..
Заметив мое смущение, он сказал:
– Шо ж, кто в море не бывал, тот досыта богу не маливался. Такая наша судьба: через ветер ли, через волну ли, а моряк – все вперед! Вот боюсь я за наших рыбаков: они ить план по бичку сделали и еще перевыполнение дали на шестьдесят процентов. Мыкола Белов перший. От хлопец! Ну, пойдем, Лексаныч, провожу тебя до причала.
Когда мы подходили к причалу, рассвет уже набрал силу, и мы увидели, что море будто только и ждет команду, чтобы кинуться очертя голову на берег.
Мне стало страшно не только за себя, но и за рыбаков Слободки, которые в этот момент были, очевидно, на переходе.
Перед мысленным взором возник капитан Белов с его неизменной трубкой, усами, с тяжелым подбородком, белыми, выгоревшими на солнце волосами и голубыми глазами.
Задумавшись, я не сразу расслышал, что говорил Данилыч. А он, поняв, что я не расслышал его слов, закричал:
– Гляньте, гляньте! Наши идут!
Я посмотрел на море и на горизонте, под гигантской подушкой белых облаков, увидел суда.
Обгоняя нас, к морю спешили жены, матери и дети рыбаков. Когда мы подошли к причалу, тут уже стояло десятка два женщин. Кутаясь в теплые шали, с сонным выражением на лицах, они гудели, как пчелы.
Около причала Данилыч остановился, протянул мне руку и сказал:
– Прощай, Лексаныч! Счастливо тебе дела сделать! Скорей возвращайся! – И он запрыгал на причал, куда спешила сейчас вся Слободка.
До самого порта я шел с какой–то непонятной, щемящей болью в сердце. Спустя некоторое время, стоя на корме парохода «Антон Чехов», бодро бежавшего к бывшей столице Киммерийского Боспора, я с грустью смотрел на исчезавший за линией горизонта Ветрянск.
«Антон Чехов» успел проскочить в Керченский порт до того, как ветер развернулся в полную силу. Ветер буянил четыре дня. Почти во всех городах и селениях, расположенных в прибрежной полосе, он пересчитал черепицу на крышах хат и, опьяненный собственной силой, прошелся, как разгулявшийся купец, по садам и виноградникам. Это был все тот же молодец, наш старый знакомый «тримунтан».
Сидя за каменными стенами керченской гостиницы, слушая вой ветра, я с тревогой думал о тех, кого этот сумасшедший ветер настиг в море… Особенно беспокоила меня судьба парохода «Антон Чехов»: он вышел из Керчи в Ростов через два часа после высадки пассажиров. Успел ли он проскочить?
68
Порывистый ветер толкает в грудь, в воздухе висит пыль. Придерживая шляпу, я поднимаюсь на небольшую горку, где в стареньком трехэтажном домике расквартирован Азово—Черноморский научно–исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океаногафии – АЗЧЕРНИРО. Вхожу в здание и поражаюсь, до чего же тесно в помещениях этого ветхого дома: коридор, темный в узкий, заставлен ящиками, в которых, когда я зажег спичку, увидел бутылки с резиновыми детскими сосками на горлышках. В бутылках пробы.
Научные кабинеты – крохотные комнаты, в которых, кроме ящиков с пробами и препаратами, стоят еще приборы и сидят по три–четыре человека. Да, по–видимому, не очень уважают здесь науку о море, иначе ученым, изучающим проблемы двух морей, построили бы современное просторное здание с настоящими лабораториями.
Когда я ознакомился с работами института, то понял, что мое намерение представить профессору Сергейчуку диссертацию о проблемах моря, а не о зостере правильно. Кстати, в институте уже была работа о зостере Азовского моря и лабиринтуле. Превосходное исследование! Почему оно украшает собой архив института, не знаю!
Через четыре дня, заканчивая свою работу, я от души поблагодарил директора института и его сотрудников за помощь, которая была мне оказана с необычайной щедростью. Со мной делились материалами, как фронтовики махоркой. По этой щедрости, по радушию, с каким я был принят в институте, я легко пришел к заключению, что ученые, работающие в АЗЧЕРНИРО, готовы были отдать всё: знания, опыт, результаты научных наблюдений, – только бы проблемам моря наконец было уделено самое пристальное внимание. Чем скорее это произойдет, тем легче и быстрее возродится самое маленькое и самое урожайное море в мире. Нет, это не Меотийское болото и не «море–блюдце», это море–труженик, оно обязательно возродится! Да и как иначе? Оно уже начинает возрождаться – об этом свидетельствуют хотя бы опыты капитана Белова. А сколько их, Беловых, на Азовском море? Среди них я вижу Данилыча, Семена Стеценко… Да разве не весь народ хочет того же?!
Когда шторм окончился, я, благополучно завершив свои дела в АЗЧЕРНИРО, отправился в Ветрянск на пароходе «Тамань». Море было серое, скучное, тоскливое. Большую часть пути я сидел в каюте и заново писал вступительную часть к своей диссертации. Но как только открылся мыс Дзензик, венчающий Обиточную косу, я» вышел на палубу. В бинокль хорошо были видны все шесть Княжеских курганов. Они стоят в ряд на возвышенности у основания Обиточной косы. Скоро мы будем в Ветрянске. Скоро я увижу Данилыча, капитана Белова…
Через три часа «Тамань» приближалась к Ветрянску.
Первое, что я увидел, – это глубоко сидящий в воде у конца мола пароход. Я вскинул бинокль к глазам. Это был «Антон Чехов».
Уже в порту я узнал подробности катастрофы: «Антон Чехов» не успел укрыться, ветер долго носил его по волнам разъяренного моря, пока не выбросил на острый каменный срез мола.
От удара огромной силы в скуле правого борта вылетели заклепки и образовалась большая пробоина. Вода хлынула в нее тотчас же, и «Антон Чехов» пошел носом вниз.
На корабле поднялась паника. Один матрос погиб при переброске пассажиров на мол, двое пассажиров были ранены. Но «тримунтан» не ограничился этим. Он взял еще одну жертву – погиб Данилыч!
Как рассказывали мне впоследствии, Данилыч, узнав о том, что «Антон Чехов» возвращается из Керчи, решил, что я тоже следую на нем, пошел встречать меня. Он пришел в порт задолго до прихода судна и был свидетелем всего, что случилось с ним. А когда пароход пошел носом в воду, Данилыч поспешил к месту аварии и кинулся помогать команде; он принял легость со швартовым канатом и сумел накинуть канат на чугунную тумбу. Но тут неожиданно налетевшая волна сбила его. Падая, он сильно ударился головой и, не приходя в сознание, умер.
Дикий и нелепый случай!
Я прибыл в Ветрянск в день похорон Данилыча. Ветрянское кладбище находится от Слободки не менее как в пяти километрах. Оно расположено на высоких холмах. Когда хоронят слободских, то их проносят почти через весь город. Путь идет сначала берегом, мимо порта, потом по одной из улиц на окраину города.
Данилыча хоронила вся Слободка. Его уже несли на кладбище, и я встретил процессию при выходе из порта.
Наверное, сотни две, а то и больше людей шли за гробом. Потомственные рыбаки, люди, для которых море то же, что для шахтеров забой; люди суровой стихии – потомки матросов, завоевавших под флагом Нахимова и Ушакова боевую славу русскому флоту; потомки тех, кто поднимал красный флаг на «Потемкине», и тех, кто топил со слезами на глазах черноморскую эскадру в Цемесской бухте, – шли молча, провожая товарища в последний путь.
Гроб несли, по рыбацкому обычаю, вместо полотенец на ловецких сетях. Сетными кушаками были подпоясаны и рыбаки.
После шторма, как всегда, воздух был необычайно чист и прозрачен, я бы сказал, даже звонок, а небо – плотно и высоко, как в лучшие весенние дни, и изумительно синее, словно под ним были не мелкое море и рыжая земля Приазовья, а сказочные острова и прозрачные воды Эллады.
Легким холодком тянуло от земли и моря. Но солнце еще не скупилось, оно было теплое и ласковое.
Впереди процессии шли два пионера. Они несли на подушечках орден и медаль Данилыча. За гробом шесть рыбаков с охотничьими ружьями. За стрелками, поддерживаемая соседками, тяжело передвигала ноги Марья Григорьевна.
Когда я вошел в процессию, то очутился рядом со Скибой.
Некоторое время мы шли молча. Затем Скиба тихо сказал мне:
– Прыгал, прыгал и допрыгался! А чего ему надо было там? Без него не справились бы? От дурный! Жил, як нэ людина, и вмер так же…
– А знаете что, Скиба, – сказал я, – ведь Данилыч был прав, что не любил вас.
– Шо?
– Ничего вы не понимаете в людях, вот что!
– Это шо, благодарность за моторку? – спросил он.
– За моторку я буду благодарить горком партии, – сказал я и отошел от Скибы.
Выходя из ряда, в котором шел Скиба, я увидел капитана Белова и присоединился к нему. Он, по–видимому, тоже тяжело переживал гибель Данилыча. В молчании мы дошли до кладбища, там в тесных проходах среди могил сбились в кучу. Тут я увидел Галинку с матерью.
Мать Галинки не плакала, но по ее лицу было видно, чего стоила ей смерть Данилыча: она смотрела невидящими глазами куда–то далеко–далеко…
Похороны Данилыча были до слез трогательны и просты. Никто не говорил речей и не читал молитв: рыбаки несколько минут стояли молча у открытого гроба. Данилыч лежал, как живой, казалось, что вот он сейчас откроет глаза, скажет:
«Ну шо вы собрались? Думаете, я умер? Не–ет! Я еще с Лексанычем к Ростову и на Бирючую косу должен сходить!..»
…Когда гроб стали опускать в могилу, вверх поднялись двенадцать стволов охотничьих ружей и грянул залп, за ним второй, а за вторым третий. А затем, когда были брошены первые горсти земли, кто–то сказал:
– Прощай, Данилыч!
– Прощай, Тримунтан!
И посыпалась богатая украинская земля на гроб человека с красивым и щедрым сердцем. И вот в этот момент я вдруг отчетливо понял, что произошло! Что я никогда не увижу Данилыча, не услышу его голоса… Я, не стесняясь, заплакал.
69
Хозяйка спала плохо, тревожно: она то плакала, то задыхалась и во сне вскрикивала, и тоскливо выл Боцман. И я заснул лишь под утро. Спал не более двух часов. Затем встал и пошел на вокзал за билетом. Когда вернулся домой, узнал, что меня спрашивал капитан Белов.
Дома его не оказалось, и я пошел бродить по берегу один. Было очень странно, что сейнеры стояли у причала, что на вешалах сохли сети; кто–то красил лодку и тщательно выводил ее название – «Чайка»; две толстые старухи сидели у калитки, одной рукой придерживая на коленях внуков, а другой кидали в рот жареные семечки; двое незнакомых мне рыбаков смеялись на ходу, спеша «к Грише»… Странно, что светило солнце, по небу плыли облака, на железной дороге гудел паровоз, над городом взбирался на небо реактивный самолет, оставляя после себя струю дыма, а Данилыч не видел всего этого и никогда уже не увидит.
Я бродил долго, несколько часов, словно в ожидании чуда: авось из–за угла появится Данилыч и скажет: «Лексаныч, а погодка–то – на миллион!»
Перед сумерками я встретил капитана Белова. Сначала мы просто вздыхали, вспоминая Данилыча, и качали головами. Потом Белов спросил, что я собираюсь делать в Москве. Когда я обо всем рассказал ему, он предложил свою помощь и пригласил на будущий год к себе. Я поблагодарил и сказал, что обязательно приеду.
От Белова я пошел на почту, дал телеграмму, затем вернулся домой и, уложив вещи, вышел погулять. Я совершенно не мог сидеть в доме, который со смертью Данилыча опустел. Хозяйка не вставала с постели. Боцман оборвал веревку и убежал со двора.
Я долго ходил. Начало темнеть. Один за другим загорались огни в Слободке. Из стада возвращались домой коровы. Спешили с сытым покрякиванием утки и умиротворенно гагавшие гуси. Слышались голоса рыбачек, покрикивавших на детей, капризный плач хотевших спать ребятишек. Пахло юшкой и жареной свежей рыбой, парным молоком и садами. На небо вышла еще неполная, но чистая, как слеза, луна, а я все гулял. Всюду я видел жизнь, которая после смерти близкого тебе человека не становится тише, – она идет своим чередом. Так было тысячу, две, три тысячи лет тому назад, так есть сейчас, так будет потом, после нас. Главное в жизни – действие! Это хорошо понимал, вернее, с этим девизом жил Данилыч до последней минуты.
Поезд мой уходил рано утром. Нужно было идти домой. Когда я проходил мимо причала, мимо опрокинутых вверх килем калабух, меня остановил человек и спросил спичку. Я зажег спичку и сразу узнал Семена Стеценко, красивого и черного, как цыган, парня. Он прикурил торопливо: на калабухе его ждала девушка. Я знал, что место это облюбовано парочками и в лунные ночи они долго засиживаются здесь, гадая на падучие звезды.
Тропочка, по которой я должен был идти домой, пролегала около той калабухи, где сидел Семен Стеценко со своей девушкой. Проходить мимо них было неудобно, но свернуть с тропы можно лишь с риском набрать полные туфли песка. Я решил, чтобы не смущать влюбленных, пройти быстро. Но Семену нужна была еще спичка, и он опять остановил меня. Когда вспыхнул огонек, в девушке Семена я узнал Галинку.
Я пожалел, что мой поезд не уходил сегодня.
1952 – 1956 – 1958
Азовское море – Москва

Сирень
Часть первая
Глава первая
История эта теперь отошла в прошлое, но танкистам полковника Бекмурадова она долго помнилась. Особенно лейтенанту Гаврилову; у него на сердце остался рубец, как от раны, – на всю жизнь!
Это случилось в начале мая 1945 года, в маленьком чешском городке Травнице.
Танки полковника Бекмурадова спешили на помощь восставшей Праге. Машина лейтенанта Гаврилова шла головной. Высунувшись по пояс из люка, Гаврилов, черный от копоти и пыли, щуря глаза, утомленно улыбался. Рассматривая толпу, он заметил в первом ряду девушку с большой охапкой белой сирени. Девушка, словно защищая себя от прилипчивого мужского глаза, высоко вскинула голову и вызывающе посмотрела на Гаврилова.
Боже, что за чудо! Только человек с ленивой кровью мог бы не заметить ее. Талия тонкая, будто на девушке не современное платье, а пышный цветок прошлого столетия – кринолин. А волосы! Золото и солнце… А глаза! Восточный поэт сравнил бы их с бирюзой горючей, со светом звезд ночных.
Из толпы раздались голоса: «Ать жие Руда армада!», «Здар Рудэ армадэ!»[11]
Девушка шагнула вперед, взялась за скобу, подтянулась и положила сирень на броню танка. Когда Гаврилов нагнулся за букетом, она звонко поцеловала его в щеку, озорно улыбнулась и легко, с ловкостью и быстротой дикой серны, спрыгнула на дорогу.
Гаврилов провел рукой по лицу, – черт знает что: не лицо, а щетка, какой матросы шкаробят палубу на кораблях! Идиот!
Ранним утром, когда танки пересекали немецкую границу, полковник Бекмурадов притормозил «виллис» у гавриловской машины и прокричал:
– Гаврилов! Завтра на рассвете ми будэм в Праге. Сматри, если будэшь нэбритый!
Гаврилов с сокрушением помял подбородок. Из смотрового люка высунулся старшина Петров. Посверкивая белками глаз, водитель танка, такой же прокопченный и заросший, как Гаврилов, кивнул на девушку и прищелкнул языком:
– Товарищ лейтенант! Вышня, а?
Гаврилов насупился и только хотел сказать: «Я вот тебе дам «вышню», давай трогай!», как услышал крики: «Пόзор! Пόзор!»[12]
Кричали чехи, выбежавшие из–за костела на площадь. Гаврилов не успел положить сирень на край люка, как раздался оглушительный гул пушечного выстрела и вслед за тем характерный свист летящих снарядов. Второго залпа Гаврилов уже не слышал, он только успел мысленно произнести: «Эх, мать честная!», его будто обожгло, больше он ничего не помнил.
Снаряд стукнулся о броню танка чуть ниже башни. Старшину Петрова убило наповал, Гаврилова ранило в грудь и вышвырнуло из танка.
Третий день был на исходе, а Гаврилов все еще не приходил в сознание. Дом травницкого учителя Яна Паничека, в котором находился Гаврилов, стоял у подножия холма, недалеко от костела, и с трех сторон был окружен садом. Гаврилов находился под присмотром брата учителя, известного пражского врача Иржи Паничека и его дочери Либуше, бывшей студентки факультета всеобщей медицины Карлова университета. Отцу и дочери с большим трудом удалось уехать из Праги перед самым восстанием. В Травнице Иржи Паничека пригласили поработать в местной больнице. Он согласился. Так они и застряли здесь. Правда, им казалось, что это ненадолго, но, когда в Праге вспыхнуло восстание против гитлеровцев, когда дороги к столице оказались забитыми фашистскими войсками, двигавшимися на подавление этого восстания, отец и дочь поняли, что они не скоро попадут домой.
И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не пронеслось радостное известие о том, что на помощь Праге идут советские войска трех фронтов: 1‑го Украинского, уже завязавшего бои под Дрезденом, 2‑го Украинского, прорвавшего оборону гитлеровцев юго–западнее Брно, 4‑го Украинского фронта, развернувшего наступление на Оломоуц.
Чехи и словаки с нетерпением ждали русских. Они выходили на дороги, а мальчишки забирались на деревья, на крыши домов и, заметив пыль вдалеке, кричали, как моряки затерянного в безбрежном океане судна при виде неожиданно открывшегося острова.
Среди жителей Травнице, встречавших танкистов полковника Бекмурадова, стояла и Либуше Паничекова. В руках у нее был букет белой махровой сирени. Она нетерпеливо поглядывала то на дорогу, то на стоявших рядом людей, время от времени встряхивая роскошный букет. Лучший куст сирени в дядином саду оголила она для того, чтобы собрать его. Цветы переливались атласом, и при каждом встряхивании от них разливался пряный запах.
Нарезая букет, она не предполагала, что эта сирень приведет в дядин дом того, кому она подарит ее, и что ей придется вместе с отцом ломать голову над диагнозом и методикой лечения, тревожиться за жизнь чужого, с распухшим и заросшим красноватой щетиной лицом человека.
…Окна были раскрыты настежь. Ветки яблонь, над которыми от зари до зари гудели пчелы, грустно покачивали крупными соцветиями. Садовые птички, поглядывая на Гаврилова, покачивали головками и грустно попискивали, как бы спрашивая друг друга, почему этот человек лежит без движения, когда кругом все живет…
Из сада не были видны люди в соседней комнате. Между тем четверо мужчин и женщина сидели за просторным столом и горячо обсуждали положение Гаврилова. Но и им его состояние было понятно не более, чем птичкам. Да! Хотя тут и находились три весьма опытных врача: Иржи Паничек и советские военные врачи – майор Гладилин и капитан Заварзин. Либуше Паничекова еще не врач – у нее нет диплома. Но что диплом! Два года она проработала в клинике профессора Ярослава Смычека, затем год у отца. Диплом – формальность.
Пятым в комнате был полковник Бекмурад Бекмурадов. Приложив сложенную совком ладонь к похожему на старинный, слегка потемневший фарфор уху, он склонил черную кудрявую голову и внимательно слушал, что говорят врачи.
Полковник Бекмурадов обладал железным здоровьем. Он с аппетитом ел, отлично спал, был подвижен как ртуть, не курил, любил бешеную езду и хорошее вино. Женщин он тоже, конечно, любил: полковник родился на Кавказе – там знают толк в любви! Но, вопреки распространенному мнению о волокитстве кавказцев, полковник был образцовым семьянином.
– Сэмья, – говорил он, – это крэпост государства. А что должен делать с крэпостью офицер? Защищать ее! Насмэрт защищать!
Обладая превосходным здоровьем, полковник считал, что болезней нет, что люди сами выдумывают их из любви к процессу лечения. Ранения, ожоги – «это другой калэнкор». Со всеми же остальными болезнями, полковник считал, нужно расправляться одним–единственным способом. «Килин надо килином вышибать!» – говорил он.
Но что же с Гавриловым? Ранение как будто не очень тяжелое: ссадины на голове, рваные раны на правой руке и на груди, под нагрудным карманом, в котором лежали удостоверение личности, вечная ручка и другие вещи. Все это, конечно, превратилось в «капусту», а чернила залили все – будто рана была обработана «зеленкой».
Врачи обнаружили на теле Гаврилова и ушибы. Установить их травматическую степень было невозможно, пока Гаврилов лежал без сознания.
Изощряясь в латыни, врачи заспорили. Полковник Бекмурадов сощурил оливковые глаза и стал внимательно прислушиваться.
Ему нравилась убежденность Либуше Паничековой: она спорила и с отцом и с майором Гладилиным. Из ее объяснений полковник начинал понимать, насколько тяжело положение Гаврилова.
А он–то думал, когда подъезжал к Травнице, что Гаврилов уже на ногах, и если еще и не встал, то разговаривает и смеется. Он привык видеть лейтенанта всегда подтянутым, веселым, деятельным – словом, стопроцентным офицером, которого всегда можно было поставить в пример другим. И вдруг лучший офицер полка лежит и слова сказать не может. Нет, не думал и не гадал полковник, что случится такое. Поэтому и спросил встретившего его Иржи Паничека: «Ну, где наш герой?». А когда доктор развел руками, взял да и сам крикнул в дом:
– Гаврилов! Что ж ты, па–анимаешь, да–анской казак, начальство нэ встрэчаешь? Пачэму малчишь?
– Просим вас! Пойдьме там! [13] – сказал Иржи Паничек, показывая на соседнюю комнату, не зная, как понятно и вместе с тем тактично объяснить полковнику, что состояние Гаврилова тяжелое и здесь кричать нельзя. Доктора выручила Либуше: прижав палец к губам, она тихо сказала:
– Просим, пане плуковнику! Е тежце немоцен [14].
Бекмурадов сразу притих и покорно сказал, как будто перед ним был командующий фронтом:
– Слушаюсь!
…Консилиум подходил к концу. Мнения раскололись: майор медицинской службы Гладилин настаивал на необходимости биогенной блокады, а Либуше Паничекова и капитан Заварзин считали, что, пока Гаврилов находится в состоянии шока, от применения биогенных препаратов следует воздержаться.
По недоуменному выражению лица полковника Заварзин понял, что тому не ясно, о чем толкуют он и Либуше Паничекова.
Капитан извинился перед коллегами и кратко рассказал Бекмурадову, как он и пани Либуше представляют себе состояние лейтенанта Гаврилова, сравнив его со стеклянным стаканом, опущенным сначала в кипяток, а затем в ледяную воду.
Бекмурадов отнял руку от уха, в глазах его сверкнули искорки:
– Цэ–цэ–цэ! – прищелкнул он языком.
Майор Гладилин осуждающе посмотрел на Заварзина и, обращаясь к Либуше, спросил:
– А температура, пани доктор? Чем же вы объясняете температуру у лейтенанта Гаврилова?
Тщательно подбирая слова, Либуше сказала, что для ответа на этот вопрос требуется более тщательное обследование больного.
– Какое же лечение вы предлагаете?
Либуше ответила, что Гаврилову нужен свежий воздух и покой. Гладилин вопросительно посмотрел на Иржи Паничека. Старый врач размял кончик сигареты, закурил и стал говорить. Либуше переводила.
– Доктор Иржи Паничек говорит, что температура, которая так беспокоит пана майора, снижается, – сказала она. – В этом доктор Иржи Паничек видит хороший признак: значит, побеждают силы жизни. И никому из нас еще не известно, на пользу ли будут этим силам наши подкрепления в виде биогенных веществ. Не вызовут ли они какой–нибудь побочный, вредный процесс?
Доктор Паничек хотел бы напомнить уважаемым коллегам о работах профессора Ярослава Смычека, в клинике которого зарегистрирован ряд случаев, когда инъекции биогенных препаратов вызывали, в лучшем случае, симптомы идиосинкразии. Лично ему непонятно увлечение некоторых врачей биогенными веществами. Ведь биогенные вещества в организме человека порой играют такую же роль, как минеральные соли в почве: одним почвам они нужны, другим решительно противопоказаны. И вот там, где они противопоказаны, посевы гибнут от избытка солей. Все это заставляет доктора Паничека склониться к предложению пана капитана Заварзина.
Гладилин постучал коробком спичек по столу и сказал:
– Нет, коллега Паничек! Мне трудно согласиться с вами. Устраниться от помощи больному? Это невозможно!
– Что значит нэвазможно, товарищ майор? – перебил его Бекмурадов, не поняв смысла возражения Гладилина, и, резко двинув мохнатыми бровями, продолжал со свойственным ему темпераментом: – Ты кто? Ваенный врач?.. Ну так, пажалста, делай так: воздух нада – давай воздух! Пакой нюжин – давай пакой! Только гани, пажалста, балезнь в шею, как ми гнали фрицев! Ясно? А сейчас пайдемте пасмотрим балного.
…В раскрытые настежь окна из сада струился ласковый теплый ветерок. В крупных соцветиях яблонь гудели пчелы. А птицы, словно партерные акробаты, без устали крутились на комолых ветках.
Высокий лоб Гаврилова бороздили морщинки, обильный пот роснился на нем. Густая рыжая щетина несмелым огоньком бежала по усталому лицу.
Бекмурадов положил руку на лоб Гаврилова и радостно сказал:
– Холодный как лед!
На секунду он задержал взгляд на майоре Гладилине, затем круто повернулся и пошел к машине.
Глава вторая
Через неделю полковник Бекмурадов снова приехал в Травнице.
С ним прибыл нейрохирург из штаба танковой армии, медицинская сестра и госпитальная санитарка.
Высокий, сухой, на вид лет пятидесяти семи, подполковник Скурат, человек с узким лицом и седыми, очень плоскими, чисто выстриженными висками, тонкими, плотно сжатыми губами, по–военному поздоровался с Иржи Паничеком и Либуше, спросил, где больной, надел халат и приступил к делу.
Он долго изучал температурный график, вычерченный Либуше, затем посчитал пульс больного, раздвинул ему веки и стал пристально рассматривать зрачки, проверил рефлексы, выслушал сердце. Затем, не говоря ни слова, кивнул Иржи Паничеку и прошел в соседнюю комнату, где его ждал Бекмурадов. Уложив халат и стетоскоп в чемоданчик, Скурат закрыл глаза и несколько секунд сидел молча. Затем спросил Иржи Паничека, какие противошоковые меры были приняты в первый день – давали ли больному коньяк или спирт, вводили ли противошоковую сыворотку. Выслушав его, Скурат сказал, поднимаясь:
– Ну что ж, товарищ полковник… Больной в надежных руках. Натура у него богатырская. Подождем недельку–другую и, если никаких изменений не произойдет, возьмем его в госпиталь для клинического исследования.
– Значит, можно ехать? – спросил полковник.
– Да!
– Ну что ж, – Бекмурадов посмотрел на часы, – поехали! Генерал Рыбалка не любит, когда опаздывают.
В передней Бекмурадов сказал медсестре:
– Смотрите, вы отвечаете за лейтенанта головой! Чтобы все…
Медсестра ласково глянула на полковника:
– Будьте покойны, товарищ гвардии полковник! Лейтенанта в обиду не дадим.
Бекмурадов попрощался и вышел.
Подполковник Скурат задержался. С присущей ему тщательностью дал медсестре ряд поручений. И когда убедился, что все его назначения записаны в тетрадку, вышел на улицу, где Бекмурадов поминутно поглядывал на часы, сердито двигая темными мохнатыми бровями.
Подполковник Скурат каждый день звонил из Праги и мучил медсестру Александру Яковлевну Парменову дотошными расспросами о состоянии лейтенанта.
И в этот день Александра Яковлевна вернулась после телефонного разговора очень усталой. Будто в том, что состояние Гаврилова не улучшается, виновата не болезнь, а она, пожилая одинокая женщина…
Всю дорогу, пока она шла из кафе, где был телефон, Парменова с трудом удерживалась, чтобы не заплакать. Не легкая жизнь сложилась у медицинской сестры. Потеряв мужа – бойца московского ополчения – осенью 1941 года, она ушла на фронт, чтобы занять его место.
И вот уже сколько лет не за страх, а за совесть несет свою службу.
Парменова на цыпочках вошла в комнату. Ее опытный глаз сразу уловил перемену в состоянии лейтенанта Гаврилова: лицо потно, губы охвачены жаром, он с усилием облизывает их и, кажется, хочет сказать что–то…
Александра Яковлевна наклонилась к нему и услышала, как он прошептал:
– Ма–ма!
Она вздрогнула и, не отдавая себе отчета, правильно ли делает, ответила:
– Я здесь, сыночек!
– Мама! – повторил Гаврилов. – Мама!
Голос у Парменовой задрожал:
– Я здесь!
Гаврилов попытался поднять голову и не смог. Парменова приложила руку к его лбу – печет. «Нужно сказать доктору Паничековой», – решила она.
Пока Парменова поднималась на второй этаж к Либуше, Гаврилов опять стал звать мать. Ему привиделось, что он лежит в повозке, запряженной парой шустрых донских коней, кучер сдерживает их, крепко упершись ногами в постромочные вальки.
В повозке вместе с ним, Васильком, – мать. Отец, надвинув фуражку на выгоревшие белесые брови, шагает рядом, почти до пояса скрытый высокой степной травой, жадно курит на ходу и изредка поглядывает на сына. Нижняя челюсть у Василька вспухла. Боль такая, что губами пошевелить нельзя без крика. Да что там! Моргнуть и то больно!
И он лежит не мигая, с развалившимися, вспухшими губами, терпя адскую боль, смотрит в бездонное небо. Там, в глубокой сини, парят степные орлы. Боль становится нестерпимой.
– Мам! – зовет он.
– Что, сыночек?
– Скоро ль?
– Скоро! Скоро, родненький. Вот сейчас проедем хутор, подымемся на взгорочек, и Дон будет… Переправа, а за ней и станица.
Васильку очень больно и вместе с тем до смерти хочется посмотреть на хутор, там – уже слышно – брешут собаки, гремят ведра и раздается тонкий и звонкий девичий голосок.
Хочется посмотреть и на Дон и на переправу. Он никогда не видел и станицу, раскинувшуюся на той стороне Дона. Стиснув зубы, он поднимается на локтях, но тут же, пронзенный резкой стремительной болью, падает на дно повозки и теряет сознание…
Когда Либуше вошла к Гаврилову, больной дышал тяжело и часто, с заметными паузами.
Либуше подошла к окну, взгляд ее упал на куст белой сирени. Кто знает, где была бы сейчас Либуше Паничекова, если бы не белая сирень!..
Ну конечно, она была бы в Праге! Квартира ее отца на Староместской площади, в доме, что стоит рядом с усыпальницей знаменитого астронома Тихо де Браге – Тынским костелом. Из ее окон площадь открывается во всей своей красе. В середине памятник Яну Гусу. Гордо, во весь рост, с высоко поднятой головой, стоит великий чех перед судом инквизиции. Скульптору Шалоуну отлично удалось придать лицу Яна Гуса выражение величественной простоты, ясности мысли, бесстрашия и полного презрения к смерти.
Из окон отцовской квартиры также хорошо видны дом «У единорога», дом «У минуты», здание «Конвента ордена пауланов», храм св. Николая и ратуша Старого города с ее астрономическими курантами.
Нет на свете чеха, который при упоминании о Старом Месте не почувствовал бы, что и у него есть сердце!
А разве при упоминании Московского Кремля с нами, русскими, творится не то же самое? А какой англичанин, находящийся вдали от родины, не вздохнет при словах: «Большой Бен»? У каждого народа есть свое заветное место, которое для него равно боевому знамени.