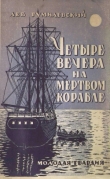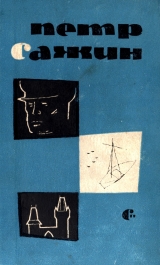
Текст книги "Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень"
Автор книги: Петр Сажин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Как я уже сказал, главным героем повести является старый рыбак Данилыч – человек трагической судьбы, которая не только разбила его чистую, глубокую и красивую любовь, но еще и нанесла ему физическое увечье.
Гражданский пафос повести состоит в борьбе ее героев – Данилыча, Сергея Александровича, капитана Белова, Семена Стеценко – за возрождение моря.
Море! Оно входит в повесть как действующее лицо! Оно тоже герой, и притом далеко не второстепенный!
В связи с тем, что в повести ему уделено много места, здесь я скажу о море всего лишь несколько слов.
Азовское море самое маленькое в нашей стране: его зеркало равняется всего лишь тридцати восьми тысячам квадратных километров. В каждом море есть какие–то чудесные или необычные животные и растения. В Азовском море ничего чудесного и необычного нет. Нет даже обыкновенной акулы. А что же это за море, сели нет в нем акулы?! В Черном есть и скаты, и морской черт, и колючая акула – катрана, или, как ее называют тамошние рыбаки, морская собака…
И все же Азовское море чудесно! Чудесно богатством жизни в нем. Это самое урожайное море на свете! Средиземноморский рыбак берет с гектара своего глубокого, красивого и прозрачного моря всего лишь полкилограмма рыбы в год; мурманский – около пяти; аральский – шесть килограммов; каспийский – двенадцать; дальневосточный рыбак – двадцать восемь, а азовский со своего неказистого, мелкого, мутного, малосоленого моря – восемьдесят килограммов с гектара! И рыба–то какая! Тут и совершенно прозрачная от собственного жира шемайка; чебак – азовский лещ величиной со слоновье ухо; камбала с нежнейшим белым мясом; судак – крепкий и длинный, как полено; бычки, пузанок, рыбец, кефаль и, наконец, белуга, осетр и севрюга…
Словом, Азовское море – совершенно оригинальный и единственный па земном шаре бассейн. И вот в этом оригинальном бассейне вскоре после Отечественной войны случилась беда – почти не стало красной рыбы и частика. Куда же делись они? Где саженные осетры, белуги и метровые судаки? Что случилось с Азовским морем?
Этот вопрос волнует не только меня, автора, но и героев моего произведения. Это волнение за судьбу моря проходит через всю книгу. Оно–то и делает Азовское море героем повести.
В «Трамонтане» показаны и первые успехи в борьбе за возрождение моря. Но я не хотел бы, чтобы читатели поняли меня неправильно, – будто только море и его проблемы составляют сущность повести. Нет!
Дело в том, что Азовское море пережило все то, что в свое время – до сентябрьского Пленума ЦК КПСС – переживало и наше сельское хозяйство.
Сейчас на Азовском море запрещены ставные мелкоячеистые невода и промысел красной рыбы и, как говорят промысловики, «крупного частика». Море отдыхает, исподволь накапливает силы и богатства.
Пройдет несколько лет, и рыбак Азовья снова станет самым удачливым н богатым рыболовом. Это будет. Это сделает советский человек – строитель коммунизма. За это борются герои повести. Поэтому в «Трамонтане» не море, а человек главный герой. Поэтому сущность произведения составляют отношения между людьми и позиции людей по отношению к явлениям жизни. Это выражено в эпиграфе, поставленном в начале книги: «Человек без огня в душе, что птица без крыльев».
В процессе работы над повестью я старался передать этот огонь сердец моих героев, огонь, который свойствен советским людям, огонь творцов, огонь людей–борцов, идущих вперед к светлым далям коммунизма сквозь невзгоды, сквозь бури.
В какой мере мне удалось достичь этой цели? Ответа на этот вопрос я буду ждать от вас, мои дорогие читатели.
22 июня 1959 г.
Человек без огня в душе, что птица без крыльев.
1
От вокзала до рыбачьей Слободки полчаса ходу. Идти вначале было легко; хозяйка, с которой я договорился о комнате, – крупная женщина в простеньком, прямом, без пояса, ситцевом платье, – шагала впереди по заросшей дудником тропочке. Передо мной мелькали ее темные от солнца, крепкие, как чугун, босые ноги.
Минут через десять тропа, прибитая прошедшим накануне дождем, стала теряться в лужах. Большие, гладкие, они казались бездонными. Все: и дымчатая синь утреннего неба, и белые пышные облака – все тонуло в них.
Огибая лужи, я начал уставать и шел тяжело дыша, а тропа виляла то среди сухих кустов дрока, то среди зарослей красных солянок. Степь издавала тонкий звон начинающегося зноя. В небе высоко–высоко парили кобчики. Лужи скоро кончились, и тропа, оставив унылую приморскую степь, вывела нас к зеленым, прохладным баштанам.
Здесь под резными серебряными листьями лежали тугие арбузы. За ними тянулись делянки дынь. От них пахло свеженакачанным медом. Еле–еле уловимо слышался гул пчел.
За баштанами мы вышли на грейдер.
– Трошки отдохнем, – сказала хозяйка и, вытирая концом платка вспотевшее лицо, добавила: – Хорошо тут у нас…
Закурив папиросу, я посмотрел в сторону Слободки. Белые хатки заманчиво прятались в виноградниках, зеленевших почти совсем рядом. За ними гудело море. Плотный ветер доносил оттуда солоноватый запах.
После короткой остановки мы некоторое время шли по грейдеру, затем как–то незаметно очутились на центральной улице.
Слободка давно уже проснулась: из труб вился дымок, в каждом доме на растянутых чуть ли не через весь двор веревках сушились одеяла, а на кольях – опрокинутые вверх дном глиняные макитры и глечики.
Тонконогие детишки с выгоревшими добела волосами копошились возле дверей; стройные, как молодые яблоньки, девушки, покачивая бедрами и звонко пересмеиваясь на ходу, несли на коромыслах воду. На редкость дородные, грудастые женщины возились у летних кухонь. И только одни рыбаки были без дела; в просоленных рубахах, в штанах из «чертовой кожи», подпоясанные по рыбацкому обычаю обрывками сетей, они толклись у калиток, безбожно изводя табак и о чем–то громко переговариваясь.
Из каждого двора тянул запах вялившейся на солнце тарани, острый, неприятный и вместе с тем возбуждающий аппетит.
Заметив нас, жители Слободки, особенно женская половина ее, высыпали к калиткам.
Хозяйка моя шла с достоинством, не глядя на зевак. С улицы мы свернули в проулок, густо заросший кураем, и шли по нему долго. В конце проулка сверкало болотце, а за ним слышалось море. На берегах болотца весело хлопотало утиное стадо. Наконец открылось море, и сразу повеяло прохладой. Море было неспокойно; серые, грязноватые волны, озорничая, наваливались друг на друга и, шипя, кубарем катились к берегу.
Берег не радовал глаз: то тут, то там среди выгоревшей, колючей травы валялись кверху днищем черные осмоленные лодки, груды стеклянных шаров – кухтылей; на перекладинах – вешалах – сохли сети. Стоял запах снулой рыбы и сухой морской травы зостеры, всюду в беспорядке разбросанной по берегу.
Унылая картина унылого берега. Но и здесь, на этом сонном берегу, так же как и на центральной улице Слободки, нас с любопытством встречали и провожали десятки праздных глаз. Я удивился: отчего так много бездельных людей в Слободке? Но когда поглядел на море, то по пустынному, или, как говорят моряки, по «чистому», горизонту понял, что сейчас у азовских рыбаков «чайка ходит по песку – моряку сулит тоску». Это значит, на море разыгрывается шторм. Из–за него–то рыбаки и торчат на берегу. А известное дело: рыбак на берегу – гость, и если уж и соблазнится чем, то только не работой.
Понаслышке я знал, что в южных рыбацких селениях почти всю работу справляют женщины: они белят хаты, латают крыши, ухаживают за баштанами и виноградниками, коптят, солят и вялят рыбу, жмут вино… Как видно, и тут то же.
Только перед одной из хат спозаранку трудилась вся семья во главе с мужиком: люди строились. Когда строятся, то и рыбак не считает для себя зазорным и глину помесить, и саман поформовать, и крышу камышом обладить…
Низенький, с волосатыми ногами мужчина, надвинув видавшую виды кепчонку почти на самый нос, с прикушенной цигаркой во рту, ходил по толстому блину саманного месива. У копны свежей соломы сидел тощий и черный, как жук, мальчуган и лепил коня. Держа его на вытянутой руке и, очевидно, проверяя пропорции, он деловито щурился. Около месива хлопотала женщина саженного роста с подоткнутым подолом, из–под которого белели полные, круглые коленки. Заметив нас, она оторвалась от своего дела и, держа перед грудью вымазанные в глине пудовые кулаки, с прищуром посмотрела из–под спущенного на глаза платка и сказала:
– Гляди, никак Тримунтаниха жильца подцепила?!
Ее слова почему–то задели мою хозяйку.
– Кобыла жерёбая! – негромко, но со злостью сказала она и торопливо пошла вперед.
Женщина начала было уже формовать саман, – по–видимому, до нее не сразу дошел ответ моей хозяйки, а когда дошел, она разогнулась, уперла вымазанные глиной кулаки в бока и рассмеялась. Затем она что–то сказала вдогонку, но что – разобрать было уже трудно. Мы прошли еще несколько домов и у калитки крайней хаты остановились. На этом доме висел последний номер – сто восемнадцатый. Тут была граница Слободки. Дальше тянулась выжженная солнцем степь, и лишь кое–где виднелись зеленые квадраты виноградников и блестели вонючие воды лиманов.
Как только мы остановились, во дворе загремела цепь и раздался громкий и сплошной, как приступ кашля, лай собаки. Мужской голос пытался унять ее, но собака, как пустая железная бочка, пущенная под гору, не могла остановиться. Тогда вмешалась хозяйка: «А ну перестань!.. Замолчи, тварь поганая!» Выкрикнув это, хозяйка скрылась за калиткой. А около меня появился мужчина лет пятидесяти – пятидесяти пяти, чуть выше среднего роста, широкогрудый, жилистый, с густыми, темными и вместе слегка красноватыми, как старая медь, усами.
Он был на костылях. Как видно, ходил с их помощью не первый год: уж очень привычно держался на них, как казак на коне. У него не хватало правой ноги – отхвачена она была выше колена, чуть ли не под самый пах. Пустая штанина не отрезана, а загнута по небольшой культе и заправлена под ремень выгоревшей почти добела солдатской гимнастерки. У него были большие карие глаза, немного влажноватые и утомленные. Над ними нависали густые, тяжелые брови. Кожа на лице темная, выдубленная солнцем и ветрами. В общем, с первого взгляда это было как будто типичное южнославянское лицо, приятное и, я бы сказал, даже красивое и доброе. Но, подойдя ближе, я заметил в уголках его рта горькую и жесткую складку, а в глазах – затаенную тоску.
Он выглядел соколом, которому нестерпимо хочется подняться ввысь, к синим небесам, но подбитое крыло навек приковало его к земле: он курлычет, скачет по земле, и только по измученному взгляду соколиных глаз можно понять, что он никогда не расстанется со своей мечтой.
– Здрасьте вам, – сказал он и, сняв пахнувшую рыбой кепчонку, подал мне руку. – Александр Данилыч, – представился он и спросил: – А вас как?
– Сергей Александрович, – назвался я.
– Почти что тезка.
Он подхватил мой чемодан и сказал:
– Идемте до хаты!
Я попытался взять у него чемодан. Он гордо вскинул голову:
– А я шо?.. Думаете, безногий, так тю всэ? Не–е–ет! Я еще побегаю!
Ему неудобно было с моим чемоданом, но он, упорно вспрыгивая, как подбитая птица, тащил его к дому.
2
Меня поместили в светлой, на два окна, горенке. Все в ней было мило, ладно, чисто. Справа стояла железная кровать с никелированными шишками; она сверкала белизной, прикрытая белым тканьёвым одеялом. А подушки на ней громоздились горой и были так взбиты, что чуть–чуть не доставали потолка. На окнах миткалевые занавесочки. В простенке старинный комод грушевого дерева с затейливой резьбой. На нем темное, почти синее зеркало. И комод и зеркало, как видно, ровесники штурма Азова. По бокам зеркала подсвечники и фотографии в рамочках из ракушек.
Фотографии – едва ли не главный предмет украшения комнаты, ими завешаны все стены. Тут и открытки и большие «семейные» снимки. Люди, изображенные на них, какие–то хмурые, с тяжелыми, будто каменными лицами.
Да и снимки–то почти все на один лад: свадьбы да похороны, гулянки да поминки. Либо одиночные и групповые портреты. Много фотографий, сделанных в память о военной службе. По–видимому, в роду моих хозяев немало было «гожих» людей. То тут, то там на стенках развешаны снимки мужчин в солдатских гимнастерках, в серых шинелях, во флотских фланелевках. Это крепкие, сильные, усатые молодцы. Вот один из них на вздыбленном коне, с саблей в руке. Джигит настоящий!
Недалеко от него широкогрудый матрос; он снят на фоне какого–то фантастического города – помеси Венеции с Рязанью. На бескозырке, которую моряк держит на правой руке, как царь корону, написано: «Двенадцать апостолов».
Справа от моряка на картоне, осыпанном медалями, угрюмый бородатый мужчина в тройке и робкая, с большими испуганными глазами женщина. Нижняя губа ее слегка прикушена, так что видны два белых, красивых зуба. На коленях у женщины ребенок. Его удивленные круглые глаза устремлены, очевидно, на «птичку» – обычную приманку фотографов. Приподнявшись на одной ножке, ребенок пытается уйти с материнских колен, брызжет слюной.
…Комната мне понравилась. Меня не раздражали ни фотографии, ни изукрашенные ракушками рамочки, ни даже бумажные и восковые цветы, понатыканные всюду: за иконой и за расшитыми салфетками, развешанными на стенах… Но хозяева чем–то настораживали. Я даже пожалел, что во время прихода поезда в Ветрянск замешкался в вагоне, а не выскочил, как мне советовали, первым, чтобы выбрать себе хозяйку посимпатичнее, – их много приходит к поезду. В Ветрянск на отдых приезжают любители этого курорта из разных городов. Их влечет сюда простота и дешевизна жизни и удобное для детишек, мелкое и теплое Азовское море. Правда, я приехал сюда не для отдыха.
Но, может быть, это всего лишь первое и ни на чем пока не основанное впечатление? А может быть, мои хозяева – золотые люди?
Обо всем этом я думал, пока раскладывал свои вещи. Делал я это с неохотой: мне все время казалось, что вряд ли я уживусь здесь. Но, с другой стороны, уходить–то не очень удобно без всякой причины, да и задаток хозяйке уже дан. В конце концов я утешился тем, что пока у меня нет оснований на что–либо жаловаться, а раз так, значит, пиджак на вешалку, чемодан под кровать, шляпу на гвоздь. Устроив свои вещи, я вышел во двор. Хозяина не было видно. Хозяйка же возилась на летней кухне, откуда доносился запах жареного лука и свежей рыбы. Желтая, с огненной полосой по спине, похожая на лису–огневку собачонка кинулась на меня, но, услышав резкий окрик хозяйки: «Боцман, на место!», гавкнула по обязанности раза два, легла у порога и, внимательно следя за мною недоверчивыми глазами, забила хвостом.
Я сел в тени на лавочку и закурил. Мне стало немного грустно и не по себе, как это всегда бывает, когда попадаешь на новое место.
Погрузившись в свои думы, я не слышал, как во дворе появился хозяин. Когда я увидел его, он был без костылей. Придерживаясь руками за притолоку, он словно висел в проеме дверей летней кухоньки. Костыли стояли у стенки. Он что–то говорил жене и в такт своих слов тряс культёй–коротышкой. В ответ несся ее басок:
– Ты где был?
– До Вани ходил.
– За горилкой?
– А шо?
– «Шо, шо»! – передразнила она его.
– Дура ты, – тихо и беззлобно проговорил Данилыч. – Мы ж трошки… Ну шо на двоих пол–литра горилки? Так… усы помочить.
Хозяйка еще пуще загремела посудой.
– Богач нашелся! Мотня рваная, а он туда же, горилку! Пол–литра на двоих! А ты их заработал?!
– Не ори, старая! Я же по русскому обычаю!
Мне стало неловко слушать перебранку хозяев. Я поднялся и тихо вышел со двора к морю. Берег был почти сплошь устлан выброшенной волнами зостерой и ракушечником. Кое–где валялась мертвая рыба, птичьи перья, ломаная пробка от верхних подбор и еще бог знает что, вплоть до расколотого стеклянного кухтыля, который торчал из песка, как глаз какого–то морского чудища. Море угрожающе шумело. Волны то и дело вскидывались вверх и так яростно схлестывались друг с другом, что только брызги летели в стороны, а сами они, подминая одна другую и гудя не то от восторга, не то от ярости, клубком катились на берег, где и вывязывали затейливые узоры, пока море не забирало их обратно.
Вода у берега была грязная, но я пренебрег этим, разделся и, дождавшись высокой волны, прыгнул в нее. Несколько взмахов руками – и я забыл обо всем.
Тугие, мускулистые волны набросились на меня, стараясь накрыть с головой и подмять под себя. Отфыркиваясь, я шел вперед. Было приятно ступать по мягкому, точно бархатному дну. Вскоре ноги оторвались, я глотнул побольше воздуха и поплыл. Но не успел проплыть и десяти метров, как мне показалось, что кто–то зовет меня. Я обернулся: на песчаном бугре стоял на «трех ногах» Данилыч, он махал кепчонкой и кричал: «Лексаны–ы–ыч!» Я помахал ему в ответ и поплыл к берегу.
3
Данилыч уже сидел за столом, который даже издали выглядел аппетитно. Чего тут только не было! И вяленая, почти прозрачная тарань; и сочная, истекающая жиром селява; и копченая кефалька, которая по–местному называется «чулара»; жареные бычки; крупные, бокастые помидоры; миска дымящегося картофеля, а рядом болгарский перец; около него чеснок, расщепленный на плотные, как пули, дольки; миска репчатого лука, нарезанного тонкими сочными кольцами; яички; брынза; ноздрястый ситный; раскроенный на части багрово–красный, сахарный арбуз и, наконец, на главном месте бутылка горилки.
Данилыч, как видно, уже терял терпение.
– Маш, скоро ль ты там? – спрашивал он хозяйку, которая возилась в дальнем конце двора около уток.
– А тебе што, печет?
– Жаба! – буркнул под нос Данилыч с явным расчетом, чтобы она не услышала его.
Но слух у хозяйки оказался феноменальным – раздался звон подкинутого пинком ведра и вслед за тем громовой голос:
– Ах ты, чебак дохлый!.. – Она, видимо, хотела что–то еще сказать, но заметила меня, осеклась и быстро без нужды стала кликать уток, которые и без того настырно толпились у ее ног: – Уть–уть–уть!..
Согнувшись, она принялась выкладывать из миски в цинковое корытце утиный корм. Оделив уток, с охами и стонами распрямилась и развалочкой зашагала к нам. Еще издали ласково спросила:
– Хорошо купались?
Я ответил. Проходя в кухоньку – чистую, беленькую мазаночку, – она у входа остановилась и грозно повела глазами в сторону мужа.
– Сидить важный, как прокурор… Нет чтобы птичек накормить…
Затем повернулась ко мне с улыбкой:
– Сидайте! Я зараз! – И скрылась в кухне.
Данилыч минуту, может быть, две беспомощно моргал глазами. Потом недоуменно поднял плечи, взял за горлышко бутылку с горилкой, ловко опрокинул ее вверх дном и молниеносным ударом правой руки со злостью вышиб пробку. Водка брызнула и слегка охнула. Разливая, Данилыч выразительно посмотрел на меня своими крупными печальными глазами, будто хотел сказать: «Пускай старуха брешет себе, а мы начнем». Когда он кончил разливать, явилась хозяйка. Лицо ее было напряженно–торжественное и столь же напряженно–значительное. Мясистые, крупные щеки блестели, как намазанные салом, а маленькие темно–карие безбровые глаза заплыли в мягких веках и были удивительно похожи на неразношенные пуговичные петли. Вздернутый носик с облезшей от солнечного ожога кожей торчал светло–розовой пупочкой. Она облизала полные, сильно вывернутые губы и чинно опустилась на старенький венский стул, заставив его основательно заскрипеть.
– Кушайте, пожалста! – сказала она и глубоко вздохнула.
Данилыч, словно подавая мне пример, ткнул вилкой в жирную спинку кефали, затем взял стакан с горилкой.
– Ну-с, – торопливо сказал он, с опаской поглядывая на жену, – со свиданьицем!
И стремительно «кинул» жидкость в рот. Хозяйка, будто впервые увидев, как ловко управляется с горилкой ее муж, охнула:
– Ой, лишенько мое!
Я предложил ей выпить со мной. Она зарделась и замахала руками:
– Что вы! Что вы!
Я хотел настоять на своем и продолжал уговоры, но в этот момент у калитки остановилась женщина с тачкой.
– Теть Маш, пора! – крикнула она.
Хозяйка хлопнула себя по коленям и заахала:
– Как же это я забыла? От дурная! От дурная!
Она извинилась передо мной, встала из–за стола и сказала Данилычу, что если мы надумаем пить чай, то чайник найдем на керосинке, что Боцману обязательно надо дать воды, а в двенадцать непременно сходить в магазин «до Гриши»: там будут давать сахар. В заключение она пообещала расправиться с Данилычем, если он напьется, и юркнула в пристройку, откуда вскоре появилась с большой корзиной, наполненной доверху вяленой таранью. Нетрудно было догадаться, что хозяйка и зашедшая за ней женщина ладились на базар.
После их ухода Данилыч, по–видимому опасаясь, что жена может вернуться, быстро разлил остаток водки. Выпив свою порцию, он слегка поморщился, крякнул, расправил тыльной стороной ладони густые медные усы, затем вскочил на костыли и, сказав: «Я зараз», – заковылял на кухню, где чайник уже давно и энергично постукивал крышкой. Успокоив чайник, Данилыч вынес ковшик воды Боцману. Затем повесил пустой ковшик на гвоздик и запрыгал к винограднику. Он пропадал там минуты две. Возвратился к столу мрачный. Я спросил его, что случилось. Он замотал головой. Потом попросил закурить. Затянувшись, Данилыч шмыгнул носом и беззлобно сказал:
– От аферистка!
– Что случилось? – спросил я.
Он махнул рукой:
– А-а…
– В чем дело, Данилыч?
Он наклонился ко мне и, словно боясь, что я не услышу, громко переспросил:
– В чем дело? А вот в чем… Слухай. Я‑то принес «от Вани» одну поллитру и еще чекушку. Ну? Поллитру на стол – вот она! – Он помахал пустой бутылкой. – А чекушка?.. Чекушку я в винограднике в землю, под чубук, в холодочек на всякий случай. А она, когда «уть–уть–уть» кричала, обнаружила тую чекушку и сховала черт знает куда…
– Ну, это не беда, – сказал я, – сейчас поправим.
Я встал из–за стола и пошел в горенку: у меня в чемодане на всякий случай хранилась бутылка коньяку.
Когда я возвратился, Данилыч сидел за столом и хохотал вовсю. Я смутился. Но, приглядевшись внимательно, обнаружил на столе чекушку с горилкой.
– Она, понимаете – ха–ха–ха–ха!.. – сунула ее в тузлук. От дура баба: думала, я не найду. Да я сквозь землю на три метра вижу. Данилыча провести? Нет, ты эти шутки брось, Маша! – погрозился он в сторону калитки, через которую скрылась его хозяйка. – Давай, Лексаныч, пока по горилке «Афанасий не прошелся», ну, то есть пока она не скисла, выпьем!
Довольный своей шуткой, он рассмеялся, небрежно вышиб пробку и одним махом на два стакана разлил чекуху. Затем посмотрел на ее пустое донышко, вздохнул и сказал:
– Гм! Было добро, а теперь шо?.. Одно звание – «горилка»… А на деле – стеклянная посуда, рупь восемьдесят за две, если без дефекту…
Он равнодушно швырнул бутылку в заросли курая, плотной стеной стоящего на границах его усадьбы, затем зацепил вилкой жареного бычка и проворно стал есть. Однако по жадному взгляду на бутылку с коньяком было видно, что Данилыч не прочь еще выпить. Я открыл бутылку и налил. Он понюхал и подпрыгнувшими бровями дал понять, что это вино ему незнакомо. Затем поднял стакан, посмотрел на свет, снова понюхал, взял «капельку» на язык и наконец с придыхом выпил. Некоторое время Данилыч не открывал глаз, словно огонька глотнул. Но вскоре морщины разошлись, глаза открылись, и он заулыбался.
– От это да–а–а-а! Ну и вино!.. Поглядеть на нее – она как чай, а пьешь – огонь! Сразу аж до казанков достала! Шо же это такое?
– Коньяк, – сказал я.
– Коньяк? Видал, а ни разу не пробовал. От сатана! И небось дорогая?
Я сказал. Он почесал затылок.
– Нам не пойдет… У нас хотя сапоги и смазные, но дырки сквозные. Плесни, Лексаныч, еще трошки: чего–то я не распробовал ее.
Выпив, он вдруг сделался грустным, словно какая–то тень пробежала над ним или вспомнилось что–то тяжелое. Глядя в сторону моря, Данилыч спросил:
– У вас, наверно, обо мне такое резюме: Данилыч алкоголик. Верно? А?
– Почему ж? – спросил я в свою очередь.
– Ну как же… Не успел жилец якорь бросить в доме, а хозяин к нему с горилкой… Так или не так?
Я пожал плечами.
– Не–ет, Лексаныч! Вот кабы не это, – он поднял культю, – и Данилыч был бы мужчина на миллион! Лишили меня ноги, сукины дети, чуть ли не по самый корень! А теперь шо я?.. Человек или неодушевленный предмет?.. Есть злыдни, которые смеются с меня!
– Почему смеются? – сказал я. – Разве над этим можно смеяться? Когда вы потеряли ногу? На этой войне или на той – четырнадцатого года?
– Кабы на войне!.. В том–то и дело, что не на войне, – не без горечи сказал он.
Данилыч поднял голову и посмотрел куда–то далеко–далеко, как будто разыскивал где–то у степного горизонта то недоброе время, тот злой день и тот лихой час, когда он остался без ноги. Помолчав, он глубоко и скорбно вздохнул.
– Налей, Лексаныч, пожалста.
4
Я налил, но Данилыч не стал пить. Он вытер ладонью пот с лица и, глядя куда–то вбок сощуренными, злыми, пьяноватыми глазами, вдруг громко крикнул:
– Сволочи!
– Вам плохо? – спросил я.
– Сволочи! – повторил он, не отвечая на мой вопрос, и стукнул кулаком так, что на столе заплясала посуда. Он безразличным взглядом окинул стол, глянул на меня и, весь дрожа, добавил: – Тестюшка мой, батяня моей хозяйки, – вот кто сволочь!.. Кулаки проклятые!.. У-у, мать их!.. Через них калекой стал… Через них пью…
Плечи его дрогнули, он уронил голову на грудь и, покачивая ею, долго сидел молча.
Мне стало неловко и неприятно – я хотел было оставить его одного. Но Данилыч словно угадал мое намерение, вскинул голову и, мгновенно трезвея, сказал:
– Извиняйте, Лексаныч, меня… Я знаю, ругаться некультурно. Не буду. Но, – продолжал он, заметно волнуясь и повышая голос, – не могу забыть… Обида на них держит меня вот так, – он стиснул рукой горло, – душит!.. Веришь ли, бывает такая погань на душе – хоть в петлю!.. Ну, чего я, спрашивается, живу, безногий? Кому польза от того, шо я скачу, как подбитая дрохва в степу?.. Не живу, а доживаю. А я не хочу доживать!.. Хочу жить, как все! Работать, дела хочу!.. Ты вот, Лексаныч, какое место в жизни занимаешь?.. Биолог? Это шо ж такое? Ученый? А по какому делу?.. По морю? И по рыбе тоже?.. О-о!
Данилыч медленно оглядел меня сверху вниз и сказал:
– Добре. А я вот хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь… В чистом поле, как говорится, четыре воли: хоть туда, хоть сюда, хоть инаково. Меня определяют либо в энти адмиралы, шо двери отчиняют, либо главным на вокзале, возле кабинета начальника. А я рыбак, море знаю, как бухгалтер свои цифры. Мне говорят: куда, калека, лезешь? Калека?! А с чего я стал калекой?.. Ты вот, Лексаныч, сказал: как же можно надо мною смеяться?.. Верно я тебя понял?
– Верно.
– А вот же смеются с меня. Пенсию, мол, получаешь – и живи, чего еще тебе надо. А шо мне пенсия? Душу на пенсию не поставишь!
– Кто же смеется над вами?
– Кто?.. Ну хотя бы той же собес. Да и наш голова, то есть председатель колгоспа… Ходил ли я куда? Э! – Он махнул рукой. – Ходил, говорить об этом – дело долгое… Но, как говорится, «начал песню – пой во весь голос». Ладно, расскажу тебе по порядку. Только погляди, время много?
– Девять.
Он задумался, потом проговорил:
– К двенадцати мне надо «до Гриши» за сахаром… Ну ладно, день сегодня не базарный, и моя шалава раньше чем к сумеркам не отторгуется. Слухай…
5
Любому человеку трудно рассказывать о своей жизни. И если бы исповедь не давала душевного облегчения, то вряд ли кто–нибудь и когда–нибудь решился бы рассказывать о себе. Нелегкое это дело. И не каждый способен обнажить свою душу перед другим человеком. Чтобы решиться на такое, нужно проникнуться доверием к тому, кому хочешь рассказать о себе. Либо так должно накипеть на душе, что все равно, кому рассказывать, лишь бы разгрузить сердце от щемящей душевной боли.
Вначале Данилыч очень волновался: делал большие паузы. Но зато, когда осмелел, я забыл, где нахожусь.
Вот в таком виде представилась мне история его жизни. Но прежде чем излагать ее, я спешу оговориться. Вероятно, мною кое–что позабыто, а кое–что, может быть, представлено по–своему: я ведь биолог, а не литератор. А если сказать точнее, гидробиолог. На Азовское море я приехал с определенной целью – собрать материал о морских цветковых растениях: зостере (Zostera marina) и руппии.
Местное население называет зостеру камкой или просто морской травой. Морская трава идет на корм скоту, на удобрение и заготовляется мебельными фабриками как материал для набивки матрасов, мягких сидений и диванных подушек.
Растет она всюду. Запасы ее огромны. Но в тридцатых годах на зостеру напал слизистый грибок – лабиринтула – и пошел выкашивать ее.
Сначала погибло несколько тысяч гектаров подводных лугов у берегов Вирджинии (США). Затем армия этих одноклеточных микроскопических «косцов» перекинулась к берегам Европы. Проникла она и в Черное море…
Но я, кажется, увлекся другой темой. Начал–то о Данилыче. Думаю, что это извинительно: ведь каждый человек не только размышляет о своем деле, но если он любит его, то и живет им! А мне ведь предстоит написать диссертацию о зостере.
Итак…
…Данилыч родился в пяти километрах от Голой Пристани, на реке Конке (рукав Днепра), в семье потомственных бакенщиков. Он не знает и не помнит своей матери: она утонула в лимане в 1901 году, когда ему исполнилось всего лишь три года. В доме не осталось ни одного ее снимка. Какие у нее были глаза, брови, волосы, Данилыч не знает. Но в его памяти навсегда остался тот день, когда рыбаки принесли с лимана на парусе мертвую мать.
Ее внесли в хату и положили на сундуке, пока готовили длинный стол в горнице, под образами. Потом соседки обмывали покойницу и тихо говорили меж собой: «Красоточка–то какая! И надо же, утопла! А тяжелая–то какая!.. Живая была легкая и веселая, как птичка!» При этом они жалели Сашка и говорили: как же он теперь без матери–то? Сгинет!
Сашко несколько раз пытался глянуть на мать, но его не пускали. Когда мать обмыли, вынесли в горницу и уложили на длинный стол, головой к иконам, Сашко вдруг почуял страшную тоску и неодолимую необходимость прижаться к матери и обвить ручонками ее теплую шею. Женщина, которая распоряжалась всем в доме, сказала: «Уведите хлопчика, потом приведете проститься. Нечего ему страху с малых лет набираться».
Женщину эту все слушались, в доме стояла тишина, и только слышно было, как потрескивало желтое пламя на свечах да скрипел пол, когда кто–нибудь входил и смотрел на утопленницу.
Отца в то время дома не было: он находился в Севастополе, служил действительную комендором на броненосце «Двенадцать апостолов». Дома был лишь дед Ничипор, глухой и полуслепой, да тетка Наталка (отцова сестра), тогда еще молодая и поразительно красивая дивчина. Отец приехал на пятый или шестой день, когда мать уже схоронили. Он сильно укорял тетку Наталку за то, что не уберегла Галю – так звали мать Данилыча, – полдня пролежал на могиле, плакал, никого не стыдясь. Затем собрался и уехал. На прощание он так ласкал Сашка, «кровинку свою», что мальчонка успокоился у него на коленях и заснул. А когда проснулся, отца уже не было.