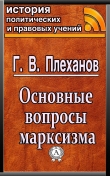Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Вечерний звон"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 47 страниц)
1
Весной, после экзаменов, Таня приехала в Дворики. Приехала, не предупредив отца: на железнодорожной станции, где ей следовало сойти, Таня должна была выполнить некоторые поручения Лахтина. В Дворики она явилась поздней ночью. Отец уже спал. Как ни велико было его удивление, он не стал расспрашивать дочь, накормил ее, уложил спать, а сам всю ночь шагал по кабинету.
Спала Таня крепко и проснулась поздно. Умывшись, она подошла к зеркалу и начала приводить в порядок растрепавшиеся за ночь волосы.
В зеркале возник как бы образ отца, когда тот был совсем молодым: высокий чистый лоб, мягко очерченные губы, широко открытые глаза, твердый подбородок.
– Таня, ты где? – раздался в столовой голос отца.
– Здесь, папа. Я сейчас, – отозвалась Таня.
– Самовар готов, – сказал отец.
Когда Таня вошла в столовую, Викентий уже сидел на своем месте. Стол был накрыт, чай заварен.
Исчерпав темы, относящиеся к дому и сельским делам, они замолчали. Отец и тут не спросил, почему Таня не предупредила его о своем приезде. Дочь оценила эту деликатность. Она встала и крепко обняла его.
– Что за приступ? – спросил он, растроганный.
– Ты очень уж хороший, – ответила Таня, целуя его.
– Я-то, может быть, и хороший, а вот ты не всегда хорошая! – Викентий улыбнулся. – Что нового в Тамбове? – осведомился он, когда дочь села.
– Много нового. Сашеньку Спирову исключили из гимназии, – да ты, наверное, слышал?
– Как же, как же. Улусов прямо в ужасе. Ох, Танюша, не одобряю я этой дружбы! Девица она шальная, бог с ней совсем.
– Конечно, глупейший поступок, что и говорить, – отвечала Таня. – Вместе с ней исключили еще трех девушек, совсем ни в чем не повинных.
– Бог с ней, бог с ней. Ты уж держись от нее подальше. – Викентий нахмурился. – Такие знакомства добром не кончаются… Ну, что еще нового?
– Еще? На заводе была стачка мастеровых, усмиряли жандармы и солдаты. Один жандарм, Филатьев, так отличился, что сразу в подполковники произведен.
– Этого у нас еще не бывало, – сказал задумчиво Викентий. – Солдаты, говоришь, усмиряли? Не может быть, чтобы мастеровые придумали все это сами. Ими верховодят интеллигенты. Они и подбивают рабочих, я уверен. – Он хотел прибавить: «В том числе и ты, дочка», – но сдержался.
– Почему же? Есть очень умные мастеровые, папа. Напрасно ты думаешь, – Таня помолчала. – Ну, и интеллигенты, конечно…
– А социалисты все из интеллигентов? – Отец пристально посмотрел на дочь.
– Не все, – равнодушно отвечала Таня.
«Да, самообладание великое», – подумал Викентий, а вслух сказал:
– Налей мне чаю, Танюша.
Таня налила чай.
– Теперь и не разберешь: социаль-демократы, просто социаль, просто демократы…
– Нет, отчего же, – сказала Таня. – Разобраться при желании можно.
– Я вот никак не разберусь. – Викентий развел руками.
– А ты попробуй, – шутливо посоветовала Таня.
– Пробовал. Ничего не понимаю. Да, признаться, и не хочу я их понимать. Но согласен я с ними в главном.
– В чем именно?
– Насилия не хочу. Злом зло не побеждают, Танюша. Можно все устроить мирно.
– A! Ну попробуй.
– Попробую. Придет время – попробую…
– Только знай, отец, знай и запомни: нельзя служить богу и мамоне. Послушай, сними ты рясу. Или делай свое дело, и только оно пусть будет у тебя. Если, конечно, позволяет совесть.
– Что за тон, Танюша? – Викентий обиделся.
– А ведь когда говорят правду, любой тон кажется неприятным. Не надо лишних слов и оправданий, папа. Ничем ты себя оправдать не можешь. Еще никому не удавалось сидеть между двумя стульями.
Викентий молчал, нервно пощипывая бороду.
– Ты тут скучал? – спросила Таня.
– Да, иногда бывало очень тоскливо, – признался Викентий. – Мне без тебя всегда тоскливо, – глядя вбок, прибавил он. – Никак не могу примириться с этой бобыльей жизнью.
– Да, – отозвалась печально Таня. – Наш дом никогда не был так похож на жилище холостяка, как теперь.
– Что ты будешь сейчас делать? – спросил Викентий, отводя щекотливую тему.
– Вероятно, кто-нибудь придет, – ответила Таня.
– Я тебя прошу об одном, – сказал Викентий, – будь осторожна. Ты только что окончила трудный класс. Впереди последний год в гимназии, выпускные экзамены. Гуляй, отдыхай, набирайся сил…
Таня молчала.
– Я вижу, – укоризненно продолжал Викентий, – ты даже и со мной осторожничаешь. – Он вздохнул. – Ну, бог с тобой! Да, да, так-то оно… Не все у нас хорошо, много несправедливостей творится. Вон Лука Лукич говорит: узнай обо всем государь, он бы…
Таня перебила его:
– Государь, папа, ничего не сделает. Один человек не в силах повернуть ход истории.
– Это верно лишь отчасти, – мягко заметил Викентий. – В России особые условия… – Глаза его были устремлены в палисадник, там теплый ветерок играл в листве вяза-великана.
– И мы думаем, что в России особые условия, – заметила Таня.
– Кто – мы?
– Мы – это мы, – усмехнувшись, ответила Таня.
– Только бы без крови, Танюша! – Викентий страдальчески поморщился. – Человеческую кровь надо беречь.
– И дурную беречь?
Викентий ничего не ответил на колкость.
– У тебя какая-то забота? – спросил он.
– У меня много забот, папа. Например, о тебе.
– Нет, ты сейчас не обо мне думала. Ну что ж! Люди, которые идут революционной дорогой, должны знать, что рано или поздно она кончится для них плохо.
– Да, я знаю, – совсем тихо сказала Таня.
– Бог тебя сохрани, Танюша. Подальше бы тебе быть от этих людей. А впрочем, у каждого из нас свой путь. Вечный спор молодости и старости… Конечно, старики, с вашей точки зрения, многое не понимают, неуступчивы, мол. Оно и верно. Только, Танюша, какие бы наши пути ни были, нам с тобой отдаляться друг от друга нельзя.
Таня подошла к отцу, обняла его, положила голову на плечо. Викентий поцеловал дочь.
– Вот видишь, вот я и расплакалась, как ребенок, – сказала Таня, вытирая слезы. – Ты чаю не хочешь больше?
– Нет, спасибо.
Викентий ушел в кабинет, Таня взяла книжку и вышла в палисадник.
2
Черев час появился Николай, сын лавочника Ивана Павловича, – худой, длинный, с лошадиным лицом.
– Одна?
– Как видишь.
Таня не любила Николая. Его склонность к ябедничеству была источником вечных издевок над ним. Частенько Николая били за это, причем именно Таня натравливала на него ребят.
Николай небрежно развалился на скамейке.
– Почему задержалась в Тамбове? Я уже с неделю здесь. Ужасно по тебе соскучился.
– Да врешь ты все! – отмахнулась Таня.
– Нет, ей богу, – вяло проговорил Николай.
– Ну, что у вас в реальном?
– Перед концом была сходка. Покричали, пошумели… – Николай снял пылинку с тужурки. Его отец страшно гордился ею: мундир не мундир, а пуговицы светлые и желтые канты – все как у начальства.
– Покричали, пошумели! – Таня усмехнулась. – Эх мы, крикуны!
– Ну, конечно, все, что делается без тебя, – идиотство и ерунда, обиделся Николай. – Да, шумели, кричали. С этого все и начинается.
– Положим не всегда только с этого. Но пусть будет по-твоему. Я не хочу сегодня с тобой ссориться.
– У нас тут Сашенька Спирова объявилась, – сказал Николай, помолчав.
– Ну и что же?
– Ты бы меня познакомила с ней. Знаменитость! – Николай скривил рот.
– Поезжай и познакомься.
– Боюсь, прогонит, – сознался Николай. – Она нашего брата, реалистов, не жалует. Да и гимназистов тоже, – прибавил он со скучающим видом.
– Захотелось поухаживать за знаменитостью? – съязвила Таня.
– Да ну ее! Она ведь все больше с офицерами да с присяжными поверенными.
– Ну, что же ты думаешь делать после реального? – спросила Таня, чтобы прервать неприятный разговор.
– Хочу перевестись в гимназию. В университет хочу. – Николай зевнул. – По адвокатуре, что ли. – Он опять зевнул. – Небось раскошелится мой папаня.
– У него кошель не маленький.
– Приходи к нам.
– А что у вас делать?
– Положим, действительно. – Он помолчал. – А может быть, съездим в Улусово?
– Не поеду. Я с Сашенькой в ссоре, – решительно отказалась Таня.
– Что такое?
– Я сказала ей, что вся эта история никому не была нужна.
– А!..
– Вот так. А она обиделась. Воображает себя революционеркой и делает глупости. Выдумала, будто она героиня, теперь воображает себя страдалицей. А ни того, ни другого и в помине нет – так, сумасбродство и распущенность.
– Ох, и скучно же с умными! – Николай попрощался и ушел.
Таня осталась сидеть под яблоней. Положив голову на руки, забыв о книге, она думала об отце, о его одиночестве.
Печальные ее мысли прервал Флегонт.
3
Он вошел в палисадник робкий более чем когда-либо, осторожно пожал руку Тане, словно боясь раздавить ее своей лапищей, сел как-то боком и от волнения долго не мог свернуть цигарку.
– А, будь ты неладна! – в сердцах проговорил он, выбросил бумажку и рассмеялся.
Таня сидела, боясь поднять глаза и выдать свое волнение, – сердце колотилось, кровь прилила к щекам, она чувствовала, что не может сказать ни слова, дыханье прерывалось… Ей казалось, что Флегонт слышит биение ее сердца, замечает, как разгорелись щеки.
«Боже мой, да что это со мной? – думала Таня. – Что это я так?»
Молчаливые, подавленные несказанной радостью встречи, они сидели среди притихшей природы. Лишь на осине мелко-мелко трепетали листья, да заблудившаяся пчела с сердитым ворчанием сделала круг над столом, села на край его, побродила и улетела. И осина примолкла, и мир как бы замедлил на мгновение свой полет в беспредельность.
Солнце обливало ровным светом фигуру Флегонта. Расстегнутый ворот посконной рубахи обнажал мощную шею. Черты его лица заострились, шапка густых, чуть вьющихся волос уже не придавала, как прежде, его облику что-то невыразимо юное, а светлые, густые усы не смягчали нежных очертаний рта. Что-то упрямое залегло в уголках губ, а глаза, сводившие с ума всех красавиц села, таили суровую озабоченность.
Тани подняла голову и как бы впервые увидела его. Уже не простоватый, медвежистый добряк сидел перед ней. От прежнего Флегонта следа не осталось. Большое, мужское, властное появилось в нем. И, почувствовав это, Таня поняла, что в новом виде он еще дороже, еще милее ей и она чуть не задохнулась от желания сейчас же все сказать ему.
– Ты не забыл еще меня? – спросила наконец она, чтобы хоть что-нибудь спросить: так дальше сидеть не было сил.
– А вы?
Таня помотала головой; она все еще не решалась взглянуть на него прямо, – слишком много он увидел бы в ее глазах.
– Ну, как живешь?
– Дела, – вздохнул Флегонт. – Все дела да заботы.
– И сейчас дела и заботы? – Теперь Таня могла смотреть ему в глаза. – Какие же у тебя дела?
– Всякие, – неопределенно ответил Флегонт и занялся скручиванием цигарки.
Ей нравилось, как он свертывает из бумаги козью ножку, легко работай пальцами. Ей все нравилось в нем: и то, что он так возмужал за это время, и то, что какая-то затаенная мысль угадывалась в нем.
– Теперь дела окончились, – сказал Флегонт, закуривая.
– И в кузнице не работаешь?
– Шабаш, говорю, всему шабаш.
– Чем ты занимаешься?
– А ничем. Вот прогуливаюсь. – Флегонт усмехнулся. – Батька ругается: такого, мол, чтобы Флегонт лодыря гонял, еще не было.
– Не понимаю. Все какие-то загадки.
Флегонт промолчал.
– Читаешь?
– У батюшки вашего последнее выгреб. Больше, говорит, нет ничего.
– Значит, сейчас ты вообще ничего не читаешь?
– Все, говорю, перечитал.
– До всего еще очень далеко, Флегонт.
– Вполне возможно. Но на первый случай хватит!
– Что ты скрываешь? – возмутилась Таня. – Что за тон?
– Нельзя тут, Татьяна Викентьевна. В другом месте, в другой час все расскажу.
– Пожалуй, ты прав. – И спросила, как бы между прочим, вскользь, но голос выдал ее: – Ты не сказал… Ты не забыл меня?
– Избави бог! То есть так ожидал, как второго пришествия.
Таня рассмеялась, впрочем, не очень весело. Не такого ответа она ожидала…
Что он задумал, что узнал, что таил! За этими усмешками и двусмысленными ответами кроется что-то большое, скрытое от нее. К чему он пришел без нее, может быть, даже вопреки ей?
Тане стало горько. Он как будто бы опередил ее, в чем-то стал сильнее ее. Но в чем?
Надо бы рассердиться, уйти самой или прогнать Флегонта, чтоб знал наперед – не скрытничай. Но не было сил подняться и желания вступать в спор никакого. Хотелось просто сидеть окруженной молчанием ясного дня.
Она вздрогнула, – тяжелая рука Флегонта нежно легла на ее руку.
– Задумались? – ласково спросил он, – или закручинились о чем?
И сразу все прошло.
– Так, чепуха! – Таня встряхнула головой, косы рассыпались по спине.
Флегонту захотелось сейчас же, сию минуту притянуть ее к себе, прильнуть к губам. Он даже глаза закрыл от такого наваждения. Полно! Он тяжело перевел дыхание.
– Вечером на кургане? – спросил он.
– После ужина, – сказала она.
4
Когда небосклон был озарен догорающей зарей, они сидели на вершине кургана у озера. Редкие огни мигали в селе, теплые волны едва приметного ветра доносили оттуда неясные звуки – то ли плач ребенка, то ли пиликанье гармошки.
Рассказ продолжался долго. Таня ни разу не прервала его; она не знала и десятой доли того, что узнал Флегонт.
Неправда кругом. Неправда опутала мужика. Подлый сговор связал царя, чиновников, земское начальство, и все они тянут лапы к мужику, впились в него, словно пиявки, сосут жадно, алчно, – кровь, жизнь высасывают. Мужик мечется в роковом круге, а исхода нет, круг замкнут, и он, Флегонт, тоже попал в этот круг. В семействе работников хоть отбавляй, а земли столько же, сколько было десять лет назад. А тут Улусов отбирает арендованную землю. Значит, и семейству Сторожевых петля; значит, надо жить, не надеясь на землю, – всех она не прокормит. Кузнечить? Много ли дает это ремесло? Народ нищает, ему не до кузнецов. Выход один – вырваться из этого круга. Немало сельских ушло в Царицын на заводы, другие подались в Тамбов – тоже на заводы, на чугунку ради хлеба насущного. Пойдет и он туда…
Таня прервала его:
– Это хорошо, что ты решил уйти в город, это очень хорошо, Флегонт! Много узнаешь, многому тебя научат. Когда ты хочешь уйти?
– Скоро.
Он не мог сказать: «Уйду, когда ты уедешь, хочу быть здесь, пока ты здесь. Ведь я, может быть, никогда не увижу тебя больше. Свет велик, попробуй исходи его вдоль и поперек, а я люблю тебя!»
Он только подумал так.
– Хотела бы я знать, кто тебя надоумил? – задумчиво сказала Таня, грызя былинку.
– Какая разница?
– Стыдно, Флегонт. – Таня повернула к нему покрасневшее от возмущения лицо. – Ты перестал доверять мне.
Флегонт снова промолчал.
– Ты стал совсем другим. Право, тебя не узнать, И что за секреты от меня?
Флегонт не раз был предупрежден Настасьей Филипповной: «С Глебовой не слишком откровенничай, а моего имени в разговорах с ней вообще не упоминай».
Таня взорвалась.
– Молчишь? Ну, так знай, больше мне с тобой говорить не о чем. Иди!
Флегонт ушел. А Таня плакала от обиды и досады. Совсем другой встречи она ждала. Так ждала она, что он заговорит, о чем давно бы надо сказать друг другу. Даже без слов. Лучше уж без слов!..
5
Известно: милые ссорятся, только тешатся. На следующий день Таня сама разыскала Флегонта и как ни в чем не бывало пригласила его погулять с ней вечером.
Они просиживали на вершине кургана все вечера, хотя потом Флегонту попадало за это от Настасьи Филипповны: его чувства к поповской дочке учительница решительно не разделяла.
Сидели они, разговаривали и думали-гадали, куда идти Флегонту. В Царицын ли, куда ушел Ваня и где тот поможет Флегонту в устройстве, в Тамбов ли?.. Из гордости и самолюбия ни словом не обмолвилась Таня о своей заветной мечте. Конечно, она хотела, чтобы Флегонт был рядом с ней в Тамбове, хотя бы этот последний ее год в гимназии.
Флегонт, словно угадывая ее желания, да и сам, впрочем, думая о том же, о чем мечтала Таня, сказал ей, что решил ехать в Тамбов. Оно и к дому поближе, да и Татьяна Викентьевна небось не откажет ему помочь подыскать работу.
Если бы он знал, как обрадовал Таню!..
В конце августа она уехала. Они так и не сказали друг другу того слова, хотя каждую минуту оно готово было сорваться с их губ.
Глава девятая1
Выбрав удобную минуту, Флегонт признался в своем решении Луке Лукичу. Тот в ответ зарычал на него. Флегонт не отставал от отца… Молодость всегда побеждает, если, конечно, она стремится к победе. Флегонт доказал отцу справедливость своего желания. Материальная сторона дела тоже была принята в расчет: хоть какие-то деньжата Флегонт будет присылать отцу, ведь столько расходов! Изба обветшала, и надо менять венцы. Хоть бы построить, этот вот-вот развалится. Младшие дочери ходят – срам смотреть, – хоть бы по платьишку справить…
С большой горечью отпускал Лука Лукич сына. А что поделать! Нужда песен не поет.
Сходке было объявлено, что Флегонт уходит на сторонние заработки. Мир приговорил считать Флегонта Сторожева отпущенным на время из общины. Лука Лукич выправил сыну паспорт.
Попрощался Флегонт с Настасьей Филипповной и впервые понял всю глубину ее привязанности к нему.
Горько плакала она, провожая Флегонта: последний, кто светил в ее жизни, уходил от нее.
Повторения такой же сцены с отцом Флегонт не хотел. И хоть и разрывалось его сердце от жалости, дом он покинул, ни с кем не попрощавшись.
«Лишние проводы, лишние слезы…»
Все работали на току, когда Флегонт собрался в путь; лишь Андриан возился дома с малыми ребятами.
– Куда, голубь? – спросил старый солдат, увидев Флегонта с мешком за плечами.
– На чужой стороне поискать хлеба и ума. Бате скажи, кланяюсь, мол, в ноги, остаюсь ему верным сыном, а от земли и прочего отказываюсь. Я теперь отрезанный ломоть Однако, может, и не навсегда.
2
В Тамбове Флегонт поступил на завод учеником к слесарю; устроил его туда Волосов по просьбе Тани. Сообразительный деревенский парень без особого труда одолел слесарную науку, тем более что был подготовлен к ней еще в Двориках.
Он присматривался к новым товарищам, со многими сходился на короткую ногу, все выискивал людей с необыкновенными мозгами – и разочаровывался. На заводе большинство работающих было занято своими повседневными заботами, и хотя три четверти мастеровых в свое время пришли из деревни, кроме полудеревенского говора, они почти ничем не отличались от стародавних рабочих.
Иные считали себя совсем городскими, о земле забыли думать, не уезжали в деревни в страдную пору, разговоры Флегонта о сельских нуждах встречали откровенными зевками.
Флегонт обижался. Не было конца ссорам, резким упрекам. Дело доходило чуть не до драк. Невнимание рабочих к мужицкой судьбе раздражало его.
– Вы, чертовы дети, свое имя-отчество позабыли. Ладно, имя ваше, положим, Мастеровой, а отчество? Отчество ваше Крестьяныч. Все вы Мастеровые Крестьянычи. Не из того ли самого теста, что и я? – кричал он.
– Мы уже пропеченные, – отвечал ему кто-нибудь. – Погоди, допекут и тебя, голубчика!.. Не то что село, мать родную забудешь! – и переводили разговор на притеснения, чинимые мастерами, хозяином.
Флегонт не догадывался, что у многих рабочих под нарочитым равнодушием к сельским делам скрывается жестокое разочарование, постигшее их в новом положении, тоска по родным местам, откуда изгнала их безысходная нищета. И здесь тот же гнет, та же нищета, те же окаянные порядки!.. Только и разницы, что все они – одни раньше, другие позже – сменили земского начальника на управляющего, старосту – на мастера, свой труд в поле – на каторжный труд по пятнадцати часов в день в угарных цехах. Хрен оказался не слаще редьки.
Волосов к тому времени собирался распрощаться с Тамбовом. Болтовню его рабочие не хотели слушать. Он не приобрел ни одного друга. Заносчивость этого скуластого парня надоела всем. Чужим он пришел на завод, чужим и уходил. Впрочем, еще более возненавидев мастеровщину.
Появление Флегонта в том же цехе, где работал Волосов, было замечено всеми и самим Волосовым. Споры мешковатого деревенского увальня с мастеровыми насчет мужицкой доли, его горячность привлекли внимание Волосова.
Почему бы и не попытаться поймать на свой крючок эту рыбешку? Он начал присматриваться к Флегонту: вдруг хоть этот клюнет на его приманку?
Кончилось тем, что они подружились – Волосов поддакивал ему с тайной целью сделать из Флегонта отчаянного человека. И сразу же принялся обрабатывать его. Как человек крайних решений, он предлагал один способ: бунт, террор, поджоги.
– Ну, а потом? – допытывался Флегонт, с усмешкой взирая на кипятившегося парня.
– Потом увидим. Все устроится как надо.
– Дурак ты, прости господи! Да ты погляди, какая у них силища! Полиция, солдаты, жандармы.
– Чепуха. Подумаешь, силища!
– Значит, бунтовать? Подымется, скажем, наше село, губерния встанет, а остальные?
– Все подымутся, только чиркни.
– А где ты такую спичку добудешь, чтобы враз все поджечь?
– Найдем.
«Найдем»! – передразнил Флегонт. – Ты скажи, где найдем?
– Умные люди надумают!
– A где они, умные-то люди? Уж не этот ли в очках? Зовется Белым, словно его не Михайлом Михайловичем кличут Смехота одна! Теперь так: ладно, найдется умный человек, выдаст нам такую спичку… Мужики подымутся, а мастеровые?
– Пошел ты со своими мастеровыми! – презрительно отплюнулся Колосов.
– А за каким же чертом тебя к ним занесло? – разозлился Флегонт.
– А чтоб, к примеру, такому остолопу вроде тебя сказать: черт с ними! Мы и без них все вверх дном перевернем.
– Это каким же именно манером?
– Выдумаем. Есть у меня дружок – не Лахтину чета – Петька Стукачев. Уж этот что хочешь придумает! Он насчет мужиков дока.
– А сколько лет твоему доке?
– Семнадцать.
Флегонт рассмеялся.
– Долго ждать, – сказал он. – Нет, коротенек ты мозгами. Тут не такая голова требуется.
3
Много раз слышал Флегонт от отца о знаменитом тамбовском адвокате Николае Гавриловиче Лужковском. По словам Луки Лукича, Лужковский был подлинным ходатаем народным, а если и брал деньги за хлопоты, то лишь ради куска хлеба. Лука Лукич был твердо убежден, что адвокат, по крайней мере, половину своих доходов отдает нищему люду.
Побывать с отцом у Лужковского Флегонту как-то не пришлось. Теперь он решил увидеться с ходатаем за народ.
Николай Гаврилович походил на старинный приземистый и пузатый комод. Это было такое грузное сооружение, что массивное дубовое кресло трещало, когда Лужковский делал попытку повернуться в нем.
Он сам говаривал, что в его фигуре двести восемьдесят фунтов жира, полпуда мяса и пять фунтов костей.
Над всем этим сооружением возвышалось подобие головы – она была воистину безобразна. Щеки у адвоката походили на два куска сала, каждая весила не менее двух фунтов. Нос едва приметно торчал между этими синевато-желтоватыми мешками жира. Подбородок спускался на грудь в виде нескольких складок того же синевато-желтоватого оттенка. Над его узким пухлым лбом росло несколько пушинок, до того светлых, что они почти не были заметны. Такое же количество пушинок украшало верхнюю губу. Жесткая щетина торчала из носа и ушей. Бровей адвокату вообще не было отпущено природой. Десяток светлых ресничек в нужные моменты прикрывали и без того едва заметные глазки водянистого цвета.
Адвокат слыл красным, но в губернаторском доме тем не менее был принят. Либерализм Николая Гавриловича служил острой приправой к пресной жизни и не менее пресной еде, подаваемой к губернаторскому столу в торжественные дни приемов.
Анекдоты и сплетни (Лужковский знал решительно все, что делалось и о чем говорилось в городе) составляли приятный десерт званых обедов.
Кроме того, губернатор, побаиваясь его злого языка, следовал добродетельному примеру Екатерины Медичи – держать всех тайных и явных врагов либеральной окраски при своем дворе.
В те годы адвокат пребывал в твердой уверенности, что либерализм все-таки победит, что обновление и оздоровление российских порядков поручат в конце концов либералам, на их плечи ляжет выполнение исторической задачи, и деяния их будут воистину грандиозными.
Под грандиозными деяниями Николай Гаврилович в первую очередь подразумевал передачу департаментов под начало просвещенным либералам. Сам он о министерском местечке не мечтал, но, скажем, товарищем министра юстиции вполне себя представлял – ни много и ни мало, как раз по плечу.
Лужковский, конечно, подумывал о революции, но без революционеров и, подобно Гамбетте, мечтал о республике без республиканцев. Во главе России государь император и правительство из сторонников оздоровления и умиротворения.
Он уже создал в фантазии картину будущих действий министерства просветления и умиротворения, но на первом плане у него почему-то всегда стоял дележ мест и местечек, а в некоем розовом тумане мерещились благие реформы и всеобщая гармонии, которая не замедлит сойти на нивы и грады, как только все портфели, кресла, места и местечки окажутся в руках либералов.
Как именно произойдут реформы и каковы они будут, это Николай Гаврилович представлял, так сказать, приблизительно. Он, конечно, понимал, что самое главное – земельное дело, многовековая тяжба мужиков с барами.
Лично он готов был отдать мужикам половину своей земли с выкупом, потому что боялся, как бы мужики не отобрали всю землю без всякого выкупа.
Часто сталкиваясь с крестьянами, Лужковский начал замечать опасные изменения в их мыслях. Какие-то невидимые, но могучие силы делали свое дело. Уж одно то, что мужик начинал поговаривать о справедливом распределении земли, навевало тревожные думы. Сначала мужик поймет свое безвыходное положение, потом начнет стучать в наглухо запертые двери, потом эти двери вышибет богатырским плечом, и уж тогда держись!..
Выход? Кое-что уступить мужикам, кое-что рабочим – и устои будут такими же крепкими.
Николай Гаврилович любил распространяться о том, как в студенческие годы он «страдал» за народ. Ходили слухи, будто он даже сидел в тюрьме. Хотя сам адвокат никогда не подтверждал этих слухов, но и не опровергал их.
– Всякое было!.. – говорил он скромно.
Лужковский посещал все сборища либералов, но тяготел к молодежи (впрочем, и сам был довольно молод), к гимназисткам, скажем попутно, больше, чем к гимназистам, хотя последние и были куда бойчее в своих опасных для государства взглядах.
Ходили о нем разные сплетни и скверные слухи, но не все им верили, потому что адвокат умел плотно закрывать двери своего дома от постороннего любопытного взгляда и щедро платил тем, кто ему служил. Интимная жизнь адвоката поэтому достоверно описана быть не может. Что же касается его деятельности, как профессиональной, так и общественной, то она была выше всяких похвал. Лужковский охотно брался не только за громкие дела, но не отворачивался и от маленьких. Особенным его вниманием пользовались запутанные мужицкие тяжбы с помещиками. Каждое выигранное дело означало для него расширение прибыльной мужицкой клиентуры. Проигрывал он дела редко, так как за безнадежные не брался.
В высших губернских сферах его почему-то называли «коммунистом». Зато либералы говорили: «Наш Николай, за Николаем – как за каменной стеной!»
Но минули годы, и произошла полная перемена взглядов. Те, кто кричал: «Наш Николай» и пр. и пр., начали Николая поносить на чем свет стоит, а те, кто его поносил, принялись восклицать: «Наш Николай, за ним – как за каменной стеной!»
4
Флегонт, остолбенев, осматривал роскошный кабинет губернской знаменитости и диву давался: ну и денежек сюда вколочено, мать ты моя! Все в бархате, в коврах, в лакировке, в золоте. Приметил он и портрет Сашеньки Спировой. Флегонт видел ее в Улусове – ничего будто особенного, а тут ее портрет, да еще надпись какая… И не ведал Флегонт, какая знаменитая барышня так отчаянно торговалась с ним, когда он в отсутствие Улусова приходил в имение ковать лошадей. Показалась она тогда просто жилой, ан вон оно как выходит!
Он покачивал головой, охал и ахал, пока появление адвоката не прекратило этого интересного занятия.
Флегонт рассказал Лужковскому о беспросветной жизни в деревнях, не называя, однако, точного адреса: батька с Лужковским знаком, мало ли что может быть, да и адвокат хоть и ходок на народ, а все-таки барин.
Лужковский, слушая Флегонта, носился по кабинету, паркет под ним трещал; адвокат то возмущенно всплескивал ладонями, то вскрикивал:
– Ай-яй-яй! Я же говорил! Ну и подлецы!.. Да ведь это о них, милейший, нашим могучим сатириком писано, что они только тем и заняты, что выдумывают меры по части упразднения человеческого рода. Это у них подмечена им фаталическая наклонность обратить мир в пустыню. У них только одно в мечтаниях, совершенно правильно замечает тот же поэт, как бы покрепче взбондировать спину обывателю! Для них кнут и есть одна из форм, в которой идеи правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление. Каков сатирик, а? Сейчас читаю его книги – и преклоняюсь! Что ни слово, то этим нашим Колупаемым по физиономии-с, по мордам-с… И уж как он прав, когда замечает, что нашему обществу ничего не остается делать при таких порядках, как дать подписку, что члены его все до единого, от мала до велика, во всякое время помереть согласны. Ведь выдумал же один его герой такую штуку, сотворил же такую подлость, мерзавец: рассердившись на городничее правление, приказал всем членам его умереть! – Лужковский заколыхался от смеха. – Ну нет, милостивые государи, – отдышавшись, продолжал он, – нет, мы не согласны помирать по вашему приказанию, мы еще покажем вам кузькину мать, вы еще ее узнаете!.. Я первый покажу вам, когда придет время! – и прочее в том же духе, с ссылками на Щедрина, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого и прочих писателей и философов.
Едва Флегонт раскрывал рот, чтобы рассказать о каком-нибудь безобразии, замеченном им, Лужковский прерывал его и рассказывал вещи, куда более жестокие.
– Нет, нет! – вскрикивал он. – Они дождутся! Они дождутся, что народ выйдет с красными флагами и всех порежет. Всех до единого! Так им и надо! Так и надо! Резать так уж резать. Всех подряд. Без церемоний, без всяких этих сантиментов, милостивые государи. И уже будьте уверены, Николай Лужковский пойдет не в последних рядах. Вы увидите его в первых рядах, милостивые государи, и тоже с красным флагом. Ха-ха! Никто не знает, но вам скажу: флаг-то уже приготовлен, на чердаке спрятан, да-с. Ждет своего часа, и час этот пробьет. И час этот будет последним для многих… Я знаю, уже составляется список всей шайки. И уж мы им покажем… В беде лучше сразу рисковать головой, чем ждать, когда ее тебе отрубят, как сказал древний поэт, не помню уж который. Впрочем, кажется, Вергилий. Наверное, Вергилий. Однако черт с ним! Все благородные и посвященные сердца, милостивый государь, с вами. Так там и передайте вашим, этим… И скажите, что прежде всего с ними я. И можете не конспирировать моего имени, я не прячусь. Меня знают, меня боятся, да еще как!.. – И, внезапно переходя на совершенно другой тон, Лужковский спросил у Флегонта: – А доверенность на начатие процесса у вас имеется? Да, собственно говоря, я самого главного не спросил, с кем вы судитесь?