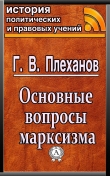Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Вечерний звон"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц)
1
Лука Лукич глубоко уважал людей «книжных»; почтительно относился к сельской учительнице Настасье Филипповне, орал на баб, когда те начинали сплетничать о ней, помогал ей чем мог. Книжная премудрость в глазах старика была «даром божьим», не всем даваемым. Следствием такого взгляда явилась его привязанность к новому двориковскому попу Викентию Михайловичу Глебову. Но не только «ученость» этого человека подкупала Луку Лукича. В молодом попе он нашел единомышленника в устройстве мужицкой жизни.
Викентий был старшим в семье деревенского попа Михаила Глебова: шестеро дочерей и он, Викентий, – единственный сын. Отец Михаил служил в Тамбовском уезде, в большом богатом селе. Дом он построил на горе, над рекой, около церкви. Это была пятистенка, разделенная сенями на горницу, где поп принимал гостей, и «избу», в свою очередь разделенную на кухню и чистую половину. Тут семья и жила.
Чистую половину избы украшал большой стол из липовых досок, покрытый домотканой скатертью, несколько широких скамеек были поставлены вдоль стен, в углу висели иконы да две-три лубочные картинки под полатями.
В этой избе родился Викентий. Отцовское жилье в детстве и потом представлялось ему необъятным и необыкновенно прочным.
Зимой на печке сушилась рожь или гречиха, и дети, замерзнув на улице, снимали валенки и полушубки, взбирались туда и зарывались в горячее зерно. С печки можно было перебраться на полати и, пока не заснешь, наблюдать за всем, что делалось внизу.
Викентий очень любил полати; курчавая головенка его то и дело свешивалась с них, живые, любознательные глаза рассматривали мужиков, беседующих с попом, мать, ткущую холст на домашнем стане, сестер, разматывающих пряжу, батрака, чинящего сбрую.
Много-много происшествий случалось в селе, в окрестных деревнях и во всем мире. Авдотьина корова принесла теленка о двух головах, – не иначе, к войне, толковали внизу. И в самом деле, приходило время, и начинали говорить о войне с туркой. В войне обвиняли англичанку, – она-де всему делу заводчица, она воду мутит. Кто-то рассказывал о чугунке, которая должна пройти около села, и все ахали: чугунка!.. То вдруг проносился слух: архиерей едет. И тогда в доме и в церкви начиналась несусветная кутерьма.
Викентий на всю жизнь запомнил приезд архиерея. Отца Михаила епископ поставил на колени, как мальчика, и велел кланяться много раз – и все за какую-то ошибку в церковных книгах. Кругом стояли мужики, бабы, а этот толстый рыжий человек кричал на коленопреклоненного попа.
Викентию до слез было жаль отца, он навсегда возненавидел всех архиереев и вообще все высшее духовное начальство.
После того как преосвященный уехал, отец с матерью долго считали, во что обошлось гостевание архиерея и его свиты: сколько яиц, кур, индюшек, холста было сунуто в глотку архиерейским холопам – наглым, грубым, пропади они пропадом!
И долго еще вспоминали приезд владыки в этой сумрачной избе, освещаемой березовой лучиной.
Любил Викентий гостей в доме. Тогда топили горницу и зажигали восковые свечи, приезжали окрестные попы, дьяконы, много ели, того больше пили – сивуху или брагу, иной раз мать ставила настойку; говорили об урожае и доходах, жаловались, что земля стала беднее, доходы хуже, преувеличивали свою бедность, опять пили. И отец Михаил, разойдясь, возглашал: «Кто бы нам поднес, а мы бы выпили!»
Тогда какой-нибудь богатый поп выходил во двор и приносил бутылку «лисабонского» кашинского производства, привезенную с собой, чем и покорял всех.
Потом пели. Умели и любили петь в семье Михаила Глебова – и при гостях – и в долгие зимние вечера. Пели кантаты о бренности и суетности земной жизни; одна из таких песен запала в память Викентия навсегда:
Все со временем промчится,
Горе, радость пролетит.
К разрушенью все стремится…
Кто сей доли избежит?
Кедр кудрявый с облаками
Наравне вчера стоял.
Дунул ветер – вверх корнями
Кедр поверженный упал.
Где цветочек тот прекрасный,
Кой долину украшал?
Дунул ветер, ветр ужасный,
И цветок навек завял.
Так и я скоро увяну,
Скоро кончится мой век;
Прахом и землей я стану
И не буду человек…
Викентий робко подтягивал, был у него хрустально-чистый голос, и все говорили: «С таким голосом петь ему в архиерейском хору!»
…Шли годы. Викентий рос. Отец начал учить его грамоте, чтению, письму. То была мудреная наука – церковнославянский язык: аз, буки, веди, глагол… Все слоги заучены; впереди новые трудности, именуемые «титлами», когда слово не пишется полностью и многие буквы подразумеваются.
Безмятежная поповская жизнь изредка омрачалась неприятностями: то благочинный нагрянет в приход и учинит разнос, то заявится для ревизии книг мелкое духовное начальство.
Было это начальство сутяжное, придирчивое и жадное. Особенно один отличался – Василий Васильевич. Ездил он с женой Евменией – толстой капризной бабой. Своего чахлого муженька Евмения при всем честном народе дергала за усы и кричала:
– Что вылупил очи-то? Обманывают тебя, дурака, а ты очи вылупил!
Евмению за глаза звали «Явление», и, как выражался Михаил Глебов, «оное Явление есть горе попам и дьяконам, ибо блудливо, шумливо, лукаво и в алчности своей неугомонно».
Пока муж ревизовал церковные книги, Евмения очищала поповские закрома и сусеки и приходила в неимоверную ярость, если в закромах и сусеках оказывалась мало добра: его загодя припрятывали от нее.
Когда Викентию исполнилось девять лет, отец начал брать его с собой в церковь – прислуживать. Викентий видел, как отец без всякого чувства и проникновения служит обедни, как бормочет нечленораздельное дьякон, как псаломщик, когда ему надо было читать много раз подряд «господи помилуй», явственно выговаривал «оськина кобыла, оськина кобыла». И давился от смеха мальчик, смеялся дьякон, и грозил из алтаря отец Михаил.
Как ни старался Викентий вникнуть в смысл слов, произносимых отцом, он часто ничего не мог понять.
2
Больших трудов стоило Михаилу Глебову определить сына на казенное содержание в тамбовское духовное училище. Вообще-то попасть в училище любому поповичу было легче легкого: их всячески зазывали туда. Но на казенное содержание брали с выбором. Многосемейному отцу Михаилу содержать сына на свой счет было не под силу. Инспектор училища уперся. «Вакансий свободных не имеется!» – отрезал он.
Упрашивая могущественного человека и обещая век ему быть благодарным, отец Михаил сделал вид, будто лезет в карман, дабы вынуть нечто могущее умилосердить суровое сердце начальника, – так, по крайней мере, инспектор понял жест попа. Сменив гнев на милость, он записал Викентия в число казеннокоштных. Между тем Михаил Глебов вынул из кармана… платок, коим и вытер выступившую на глазах слезу благодарности. Впрочем, хитрость не удалась, и взятку пришлось дать. Впоследствии инспектор не раз припоминал Викентию проделку отца.
– И отец твой мошенник! Меня чуть не обманул! – кричал он. – Да и ты в батьку пошел, подлец.
Викентия поселили в помещение, где жили поповичи, принятые на казенное содержание. В большой комнате спало около полусотни мальчишек, чье буйство, неряшество и порочность вошли в поговорку.
Когда Викентия впервые привели в класс, где сидели сверстники – вшивые, полуголодные, с глазами, красными от недосыпания, с мозгами, затвердевшими от зубрежки, когда он увидел жестоких и глупых учителей, а в субботу ни за что ни про что получил порцию «березовой каши», – дух его возмутился.
Продав на базаре сапоги, Викентий сбежал. Отец, нещадно выпоров его, купил новые сапоги и повез сына в Тамбов. Товарищи начали травить Викентия; они и прежде считали его гордецом, а тут подвернулся такой случай. Сильный и крепкий Викентий давал сдачи, но и ему попадало. Трогать его перестали, но и дружить с ним никто не захотел.
Одиночества Викентий вынести не мог и опять бежал, продав новые сапоги. Город, где он учился, стал ему ненавистен: ненавистен стал сад у губернаторского дома, ненавистна прелестная Цна, ее притоки, ее ерики напротив колодца епископа Питирима, вода в котором считалась целительной; ненавистно стало небо Тамбова, воздух его улиц, училище, весь мир.
Снова был выпорот Викентий и, обутый уже в лапти, как, впрочем, многие его одноклассники, привезен в город и отдан под особый надзор инспектора. Инспектор беспощадно выбивал из Викентия душевную гордость и любовь к свободе.
Поняв, что открытым бунтом ничего не сделаешь, Викентий внешне покорился. Он плелся из класса в класс, окончил училище, перешел в семинарию.
Здесь товарищи открыли ему мир запрещенных, то есть светских, книг. Викентий читал все, что мог выпросить или купить на книжном развале. Он возмечтал, окончив семинарию, уйти в университет и стать врачом. Между тем в семье после смерти отца его считали единственным кормильцем и с нетерпением ожидали, когда он кончит семинарию и примет священство.
А Викентий и не думал об этом, иная жизнь манила ого.
Как-то случайно он оказался в кружке юношей, биографии которых повторяли его собственную. Здесь собирались все непокорные, презиравшие семинарские правила и установления, тайно читали Дарвина, Бокля, Чернышевского.
Книги прочитывались десятками, без системы, без плана, без достаточного уяснения прочитанного. Легко представить хаос, образовавшийся в сознании Викентия!
Он стал сплетением противоречий, тем более сложных, что рос и воспитывался в обстановке сельской жизни, где противоречия доходили до крайности, где ясные и здравые суждения были перемешаны с предрассудками и нелепостями.
Викентий не всегда умел отделить плевел от чистого зерна, правды от зла; был подвержен суевериям, хотя и поклонялся науке и ее творцам. Он должен был мирить веру в бога с неверием и отрицанием религии, ибо так мыслили творцы науки, которым он хотел бы подражать.
Видя вокруг жизнь во всей ее наготе, находя всему материальное обоснование, он должен был учить людей смирению, кротости, вселять в них уверенность, что воздаяние они получат на небесах.
Притворяться? Лгать себе, людям? Он отметал всякую мысль об этом. И, может быть, стал бы Викентий врачом или учителем, и по-иному сложилась бы его жизнь, если бы, на свою беду, не познакомился с Наденькой, одной из многочисленных дочерей хлебного скупщика Павла Крутоярова, старика надменного и сварливого.
Наденька тоже полюбила пылкого мечтателя семинариста. Казался он ей человеком необыкновенным. В стенах своего дома видела Наденька купцов да купчишек, а их обхождение известное… А тут и знает всего множество, и так красно говорит… Да и пригож собой, ничего не скажешь.
Викентий посватался. Крутояров поломался, но согласие дал. Надо же было в конце концов сплавлять дочку, и то засиделась: двадцатый год Наденьке, а от женихов из купеческого звания нос воротит. Но когда будущий зять заговорил об университете, папенька очень рассердился и чуть ногами не затопал.
– И слышать не желаю! Еще чего не хватало! Да чтоб я за нищего скубента дочь отдал? Ни в жисть! Ты поедешь в Москву, а, Надюшка?
– Со мной…
– «Со мной»! В комнатенке клопов кормить? Ты в этот… как его, будешь бегать, всякое еретическое изучать, уроки искать, чтоб прокормиться, из подметок гроши выбивать, а ей пеленки стирать? Не желаю, не хочу. Не бывать тому!
Наденька готова была ехать за Викентием хоть на край света, но воспитывалась она в родительском послушании, а родитель при первом же слове дочери, заявившей, что она готова и нищего студента любить, гаркнул на нее, выгнал из гостиной, где шел разговор, и напрямик объявил Викентию:
– Ждать, когда ты на учителя или доктора выучишься, нам не с руки. Чтоб девка в отцовском доме сидела ни женой, ни невестой, в купечестве такого сраму не видывали. Или в попы пойдешь, или другую невесту ищи.
– Но почему ж обязательно в попы? – с отчаянием ответил Викентий. – Я могу из семинарии пойти в учителя. Земству они позарез нужны, меня охотно возьмут и дадут хорошую школу.
– Знаем, как учителишки в селах живут! На приданое у меня денег нет, да и без приданого девка – золото. А на учительские харчи ее не отпущу. Выбирай!
И Викентий, которому казалось, что без Наденьки он и недели не проживет, выбрал. Выбрал то, на чем настаивал Павел Крутояров, проклиная себя, тестя, свою горькую долю.
Уж так-то обрадовались решению Викентия мать и сестры! Уж так-то горько плакала Наденька: больно манила ее Москва!
3
Вечерами бродил Викентий по берегу Цны. На душе его было смутно: долг, слово, данное тестю, боролись с совестью. Нужен был какой-то порыв, какое-то могучее движение сердца, которое определило бы исход борьбы.
Однажды он забрел в Покровскую церковь. Из алтаря вышел священник и удивил Викентия своей необыкновенной моложавостью, – его, вероятно, только что посвятили. Борода у священника еще не отросла, лишь над верхней губой торчал светлый пушок. Он так хорошо служил, что Викентий невольно поддался его обаянию. Ему стало тепло от мысли, что и он станет служить правде, будет близок к народу, так нуждающемуся в словах добра и любви. Он уже видел себя среди верующих: молодой, чистый в помыслах и жизни, энергично помогающий обездоленным, укоряющий богатых и неправедных… Он слышал свои проповеди, сеющие мир и гармонию…
Примерно через полгода, когда все было решено, Викентий снова заглянул в Покровскую церковь. И ужаснулся… Священник, поразивший его пылкостью и чистотой молодости, служил, точно повторяя зазубренный урок, глотал слова, торопился. Недели две Викентий был угрюм и время приводил в одиночестве.
Впрочем, дело молодое, не век же ему было терзаться. И как то кстати на помощь бунтующей совести пришла спасительная мысль: если он не в силах врачевать телесные болезни людей, то в рясе священника он может врачевать болезни духа. Он будет близок к людям, он постарается быть ближе к ним, чем любой врач или ученый. Он проникнет в сердца людей и поможет народу.
Отныне Викентий имел цель жизни.
4
И вот пришла пора мытарств. Викентий начал искать вакантное место священника в каком-нибудь селе. Распределением освободившихся мест ведала губернская духовная канцелярия, именуемая консисторией. Ему известна была поговорка, сложенная в семинарии: «Консистория есть облупация и обдирация попов, дьяконов, дьячков и пономарей». Викентий очень скоро понял, что поговорка вполне соответствует истине. Выпрашивая место попа, он давал взятки всем, начиная от консисторского сторожа и кончая подлейшим, но всесильным консисторским секретарем.
Викентия тошнило от хамства чиновников в рясах и мундирах, но он стерпел все.
Наконец ему дали место.
…Предстоял обряд посвящения, торжественная минута обращения мирянина в пастыря, когда бог, согласно учению церкви, частицу своей благодати передает через епископа своему новому служителю.
Викентий узнал, что и эта торжественная церемония служит источником обогащения тех, кто к ней прикосновенен.
Взятки надо было дать псаломщику, чтобы лучше провел службу, и протодьяконам, чтобы они подсказывали ему, как себя держать в разные моменты посвящения.
Началось служение. Викентий, помня, как худо совершал церковные обряды его отец, решил служить по-своему.
Отбросив традиционное бормотание, он возмечтал превратить обычные церковные службы в беседы молящихся с богом.
Держа слово, данное себе, Викентий, не ограничиваясь церковным общением, принялся посещать крестьянские избы, узнавать печали и радости их обитателей. Тут-то за него и взялись!..
Священник, которого консистория назначала для наблюдения за попами и церковными делами в определенной округе и называемый «благочинным», обвинил Викентия в еретичестве.
– Не твое дело наводить порядки в святой церкви. Храм не театр! – кричал он исступленно.
Викентий спорил.
Тогда благочинный, меча свирепые взгляды, заорал:
– Замолчи, нигилист! В другой раз попадешься – рису снимем, в монастырь упечем.
В наказание Викентия перевели в другой приход, и здесь жизнь ударила его еще раз.
Накануне посвящения он женился.
Надежда Павловна не отличалась какими-нибудь особенными талантами, не умела она притворяться веселой, когда было ей грустно, но и грустить не очень любила. Одним талантом она владела в совершенстве – жить так, чтобы каждым поступком и словом облегчать существование окружающих.
Быть может, окруженный атмосферой тихого семейного счастья, Викентий Глебов излечился бы от терзаний и прошел свой путь, как множество ему подобных.
Через полгода после переселения в новый сельский приход Надежда Павловна заболела. Болезнь совпала с первыми родами. Надежда Павловна подарила миру новую жизнь, отдав за нее свою. Перед смертью она позвала мужа.
– Богом заклинаю, – сказала она, – уйди из священства. Я ведь все знаю, все понимаю… Не оставь Таню без матери – женись.
– Но это же грех, Надя, грех. Да и не могу я этого сделать! Нам запрещено жениться во второй раз.
– Жизнью девочки заклинаю, уйди из священства! – Она уже задыхалась. – Последним вздохом молю: иди туда, куда тебя зовет совесть. Ведь на мне этот грех, на мне – я совратила тебя с твоего пути.
Викентий склонил колени перед умирающей.
– Богом, моей любовью к тебе, счастьем дочери клянусь: Когда станет невмоготу, пойду по той дороге, которую укажет мне моя совесть. Ты одна у меня была, ты и останешься до гробовой доски в моей душе. Никто ни в жизни, ни в сердце не заменит тебя.
– Не надо этого, не надо! – прошептала Надежда Павловна.
– Этой клятвы я не сниму с себя! – сказал муж.
– Я снимаю, я снимаю ее в последний мой час. Боже мой, будь мне свидетелем, что я снимаю с него эту клятву.
Ее последнего взгляда, полного ужасной тоски, никогда не мог забыть Викентий.
5
В селе, где все было связано с памятью жены, Викентий не захотел жить. Он выпросил новый приход. Ему определили Дворики. Собрав незатейливое имущество, он тронулся в путь.
К тому времени у Викентия завелись деньжата. Поначалу он смущался, когда за крещение, соборование или другую какую-нибудь требу приходилось брать пятаки и гривенники. Слишком хорошо он знал, ценой какого нечеловеческого труда доставались тому же Андрею Андреевичу пятаки и гривенники и что значат они в мужицкой семье. Дети без куска сахару, баба без куска мыла, мужик без сапог – вот плата за бормотание никому не понятных молитв или за совершение суеверного обряда.
Потом… потом попривык и брал уж не краснея.
«Все берут, – оправдывался он перед самим собой. – А жить и мне надо».
Тридцать десятин земли, положенных попу, в каком бы приходе он ни служил, с лихвой могли прокормить самого Викентия, дочь Таню, батрака и стряпуху. Но землю Викентий сдавал в аренду, оставляя себе десятин пять-шесть, на которых трудился не он, а его батрак – лишний рот из нищего мужицкого двора. В первые годы Викентий сдавал землю не торгуясь: сколько давали, столько и брал.
Известно, аппетит приходит во время еды. Прошло некоторое время, и Викентий начал сердиться, когда за обряды давали мало, тщательно следил за церковными доходами, а при дележке их между причтом не отказывался от лишней копейки, перепадающей ему. И уже без всякого стеснения принимал кусок хлеба или яйцо, сунутое в руку, сдавая землю в аренду, торговался с мужиками так, как иному мироеду не снилось.
Одним словом, лиха беда начало…
Накопив денег, Викентий начал строиться, а пока что жил у вдовой псаломщицы.
Призрак мрачного родительского дома стоял перед ним, когда он обдумывал план дома. И решил построить не обычную сельскую избу, в которых жили окрестные попы, а дом на городской манер, где бы было много простора и света.
Викентий сам наблюдал за плотниками, столярами и печниками. Дом получился небольшой, но удобный. Перед освящением поповскую хоромину пришел посмотреть Лука Лукич.
– Ну, поп, мастак ты! – восхищенно сказал он. – Ежели буду новую избу рубить, тебя позову подрядчиком Умно построено, что и говорить!
Дом был разделен на две половины широкими теплыми сенями. Одна дверь из них вела на крылечко, где Викентий Михайлович любил сиживать вечерами, другая – во двор. Из сеней же можно было пройти в кухню и в жилые комнаты.
Кухней заправляла старая глуховатая Катерина, во дворе хозяйничал батрак Листрат – сын соседки Аксиньи. Батрачить Листрат пошел с десяти лет; семь годов проживал он у лавочника Ивана Павловича. Нахаловские парни невзлюбили дерзкого, насмешливого Листрата – постоянно он лез в драку с ними. Перемене он обрадовался: хотя работы в поповском дворе было не меньше, чем у любого кулака, но кормили тут получше, поп, мало понимая в хозяйстве, все поручил батраку.
Да и удобно было Листрату – изба матери под боком. Он и ей помогал.
Листрат соблюдал поповское хозяйство так, что ни к чему не придерешься: холил рыжего жеребца, держал в теле корову, облегчал, насколько возможно, труд молчаливой Катерины.
Между молодым работником и попом установилось подобие дружбы: они подолгу рассуждали о хозяйственных делах, и чаще всего делалось так, как советовал Листрат, – Викентий всецело полагался на его сметку.
Таким образом, казалось, что в этом доме все обстоит благополучно и обитатели его, каждый на свой манер, счастливы.
И в самом деле, пока Викентий занимался устройством на новом месте, а потом воспитанием дочери, он был весел, о покойной жене вспоминал с тихой грустью, но без тоски.
Потом, когда дом был выстроен, хозяйство заведено, когда жизнь вступила в обычную колею и все незнакомое в округе стало знакомым, когда, наконец, Таня, окончив сельскую школу, уехала учиться в гимназию в Тамбов, отец Викентий впал в отчаяние, причин для которого было достаточно.
Он страдал не только от одиночества и обычных желаний человека, оставшегося вдовцом в расцвете сил, – с этим он еще умел бороться и искушения не слишком одолевали его. Он чувствовал, что противоречия, раздиравшие его в семинарии, под влиянием всего виденного и наблюдаемого становятся все острее. Викентий ушел бы из поповства, но душа его содрогалась от этой мысли: ему казалось, что, сняв рясу, он погибнет духовно и физически – высшие силы не простят ему этого кощунства. Но и раздвоенность угнетала его. В проповедях с церковного амвона Викентий каждодневно твердил прихожанам: «Несть власти аще не от бога», «повинуйтесь господам своим», «кесарево – кесареви». И знал, что власть на Руси прогнила насквозь и держится только на темноте народной и на солдатских штыках.
Он поучал людей быть бескорыстными – и брал деньги, отрываемые беднотой с кровью.
Окрестные попы прозвали его «белой вороной». Он и взаправду был таким среди чернорясых воронов. Но ведь Русь-матушка издревле славилась не только своими умами. Разные кликушествующие и юродивые, примыкавшие к страшным, суеверным сектам, не помнящие родства, бесплодные мечтатели и наивные, бескорыстные правдоискатели никогда не были диковинкой на нашей земле.
Так бывало всегда с теми, кто, задушенный бесправьем, начинал тосковать по воле, кто, объятый тьмой, устремлялся на поиски света.
Бродяги, забывшие свое родство и звание, калики перехожие, бредущие по бескрайним дорогам… Великий душевный голод гнал их в безвестный путь, трепетного света искали они. И не было им числа…
Удалялись в дикие чащи иные из них. Строили кельи, в молчаливом покое лесов искали убежища от зла мира, ждали вещего голоса небес.
В студеные края уходили другие. На утлых челнах пересекали ледовые моря, открывали острова, материки, мысы и проливы, горные потоки и озера, находили руды, золото в руслах давно иссякших рек, алмазные россыпи. Мореплаватели древней Московии, пробившиеся к океанам, Ермак и его дружинники – они были из отважного племени неукротимых и смелых, не знавших страха и презирающих опасности.
Они тоже поначалу шли искать утешения для своих тоскующих сердец, света для глаз, слепнущих во тьме. Невыносимым казалось им неподвижное сидение и ожидание счастливых времен.
Мятежный дух безвестных искателей счастья подкреплялся разумом, накопленным народом за тысячелетие; мужеством, унаследованным от предков; мудростью народной, приобретенной в беспрестанной борьбе со злом мира.
Не сказочное Берендеево царство искали они, а то драгоценное, что зовется волей. Они хотели услышать заветное слово, которое воплотило бы в себе тысячелетние чаяния людей, разыскивали мудрых, которые отлили бы в железную форму мысли и желания миллионов угнетаемых неправедными владыками.
И находили либо Разиных и Пугачевых, либо изуверов вроде Аввакума, лжепророков, лжецарей, разочаровывались в них и уходили от них, чтобы опять искать правду.
Мучительно искал свою правду Викентий Глебов. И наконец нашел в некоем учении, которое примиряло его мысли о земном устройстве с учением Христа.
Еще в семинарии он прилежно читал новейшие философские сочинения. Революционные идеи пугали его. Тем не менее он снова решил обратиться к ним, глубже вникнуть в них, дабы почерпнуть нечто такое, что можно перенести на российскую почву. Викентий обратился к книгам и брошюрам, которые печатались тайно от правительства. Один из друзей молодости, самый горластый петух в их кружке, кончил тем, что стал духовным цензором. Он не возражал против того, чтобы приятель вместе с ним посмеялся над писаниями «пустобрехов» – так он называл теперь тех, кому поклонялся в юные годы. Цензор охотно давал Викентию запретные книги и не настаивал на их возвращении – этого добра у него водилось много.
Но и запрещенные сочинения не увлекли священника. Всякая мысль о восстании ради изменения порядка, установленного свыше, казалась ему отвратительной. Междоусобица, пролитие крови были чужды его идеалам. Всякий мятеж, как он думал, обречен на неудачу: оставленный без божьего благословения бунт будет раздавлен, и кровь прольется напрасно.
Викентий, конечно, понимал, что большая часть земли украдена у народа. Предок нынешнего Улусова получил землю от Екатерины Второй только за свою усердную, хоть и кратковременную службу в опочивальне императрицы.
«Было бы справедливо, – думал Викентий, – если бы Улусовы хоть часть земли отдали мужикам, ведь не нужна же она им вся! Тогда и я отдам мужикам свою, не безвозмездно, конечно, а за подходящую плату, которая будет установлена государем. И все разрешится просто, без кровопролития». Но революционеры хотят насильственного отторжения земли. Это возмущало Викентия. «Что силой взято, то не свято, – повторял молодой поп. – Нет, только не этот путь!»
И в книге, которая писалась им в тиши деревенских ночей, развивалась мысль о всеобщем очищении, о запрещении пролития крови, о раздаче земли, об устроении счастья и довольства деревенского и прочего обездоленного люда путем мирного согласия между сильными и слабыми, имущими и неимущими.
Пока Викентий излагал свою идею лишь в общих чертах, подтверждая ее примерами историческими и из окружающей жизни. Он как бы спорил с неким безвестным оппонентом, доказывая ему, что промедление приведет к таким бедствиям, которых еще не было под солнцем.
Ни в книге, ни в своих раздумьях Викентий еще не пришел к окончательным выводам и практическим предложениям. Все это пока было в густом тумане.
«В последующих частях, – думалось ему, – я изложу соображения относительно практического применения идеи. Пока надо как можно крепче застращать. А со временем появятся и выводы».
6
По вечерам Викентий Михайлович подолгу сиживал на крылечке. Устремив взгляд в неведомое, не замечая людей, проходящих мимо, забыв о тлеющей папиросе, он отдавался созерцанию серого своего бытия.
«Умирали до меня, – думал он, – умру и я, и моя жизнь забудется. Зачем же тогда она? Неужели все суета и томление духа? Люди всегда страдали, страдаю я, будет страдать и тот, кто появится после меня. Когда же придет избавление от этой Каиновой печати? Кто освободит от нее род человеческий? Где тот, кому будет дано снять с человека извечное проклятье? Быть может, он уже родился и живет? А быть может, его никогда не будет? Тогда все суета сует и всяческая суета и томление духа…
Возвращалось с поля стадо. Пастух Илюха Чоба, окутанный облаком пыли, хрипло орал на отставших коров. Проходили мимо мужики, снимали шапки, кланялись. Проезжал в тарантасе земский ямщик Никита Семенович. Гремя ведрами, шла за водой Катерина. Во дворе слышался смех Листрата. За рекой, на Большом порядке, перекликались бабы.
Темнело Вспыхивали на окнах церкви отсветы небесного пожара и гасли с последним лучом солнца.
Викентию казалось в эти часы, что идет он по бесконечной пустыне, населенной призраками, идет уже многие века, и нет конца этому пути, – он терялся за пределами сознания, за чертой жизни. Ему становилось невмоготу думать об одном и том же. Он уходил в садик. Здесь росли старые кривые яблони, выродившиеся вишни, огромные тополя, а в самом низу, у речки, – густой лозняк.
Он бродил по саду, долго стоял на берегу маленького, давно не чищенного пруда. Вода становилась как бы еще гуще, отражения деревьев в ней расплывались; легкий, едва заметный туман, похожий на паутину, начинал стлаться по траве, белесоватый, еле заметный серп луны выступал ярче, резче обозначались его края, умолкали дневные звуки.
Викентий уходил из сада, садился на крылечке и снова погружался в думы.
7
На людях он старался казаться спокойным, ровным. Но все видел и все понимал Лука Лукич. По задумчивому взгляду, по легкой краске, вдруг покрывавшей щеки священника, по тому, как порой темнели его глаза, он безошибочно определял душевное состояние Викентия. Как то весной поп допоздна засиделся на крыльце.
– Батюшка, нельзя этак-то задумываться, – сказал Лука Лукич, останавливаясь перед попом, – он возвращался домой с поля. – Худо будет, ей-богу! У меня сын Иван также задумывался, а бог-то его и призывает к себе. Многодумствовать нам не положено. Пойдем к нам, на народе-то не так скучно.
– Неохота Лука Лукич, устал я что-то! – Печальные тени легли вокруг глаз Викентия.
– Устанешь от такой жизни. («Тоскует человек», – определил Лука Лукич.) Заходи, у нас шумно, весело, печаловаться не дадут. А то иди спать. Почему ты не спишь, а?
– Да вот так, – неопределенно ответил священник и угостил Луку Лукича папиросой.
Старик присел на ступеньку, закурил, неловко держа папиросу в громадных корявых пальцах.
– Непонятный ты человек, – Лука Лукич закашлялся. – Волосы подстригаешь, духами обливаешься, книжки тонкие читаешь, проповеди какие-то непонятные читаешь. Темный ты человек, и жизнь твоя темная. По твоему уму тебе бы в протопопах ходить, шелковой рясой хрустеть. А ты хоть и с умом, да не той ногой у нас встал. Я одному попу говаривал: ты, мол, сперва у прихода заслужи уважение. Ты первое-то богомоление потяни эдак часа на четыре, чтоб мужику стоять стало невмочь. А то, слышь, накади ему ладаном до того, чтоб он весь исчихался. Ты-то привычен, а мужику и ладан в диковинку.