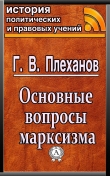Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Вечерний звон"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 47 страниц)
– Братцы… – жалобно заныл лавочник.
– Рви договор, отец! – визгливо закричал Николай. – Рви, или я откажусь от тебя.
Иван Павлович разорвал бумагу.
– Господин земский, – сказал после того Петр. – Иван Павлович перед всем миром от ренды отказался. Добром тебя просим: отдай нам землю. Мы тебе ту же цену, что и лавочник, заплатим.
– Не отдам! – выкрикнул в ярости Улусов. – Да я вас!..
– Ежели вы, господин земский, с нами что-нибудь сделаете, – предупредил его Сергей, – поберегитесь!..
– Верно, – поддержал Сергея Никита Семенович. – Спалим вас, ваша милость, к чертовой матери!
Никита Модестович ударил ямщика. Никита Семенович схватился за щеку и осмотрелся. Рядом с ним стоял, опираясь на посох, староста.
– Дай палку! – хрипло выдавил Никита Семенович. – Дай я его…
– Не дам, дурачок, повесят! – Данила Наумович вырвал из рук Никиты Семеновича посох.
– А-а-а!.. – взвыл тот. – Братцы, вы видали, что он со мной сделал?
– Долой земского! Долой царя!.. – раздались крики сзади.
Никита Семенович схватил Улусова, отнес в тарантас, усадил на козлы.
– Я тебя, господин земский, от народного гнева спасу, – сказал он, взялся за оглобли и рысью побежал к луже, таща за собой тарантас с седоком.
Улусов от страха и позора оцепенел. Он покорно, как кукла, сидел на козлах. Никита Семенович, шагая по колено в грязи, затащил тарантас на середину лужи и оставил его там.
Толпа ревела, свистала, гоготала.
Данила Наумович, вскрикнув: «Да ведь утопнет казенный человек, братцы!» – полез в лужу спасать Улусова. За ним побежали нахаловские богатеи. Их никто не остановил, – внимание всех было приковано к тому, что делалось в это время около волостного правления.
3
Выбравшийся из лужи ямщик выбивал стекла из окон. Ему помогали Петр, Листрат, Сергей, Николай и Фрол.
Перебив стекла, Никита Семенович влез через окно в правление, отпер дверь, выбросил на улицу Арефа и позвал тех, кто толпился на крыльце.
Все ввалились в помещение. Было слышно, как там переворачивали скамейки, столы, как ломились в холодную. Наконец дверь в кутузку была сорвана с петель. Никита Семенович вывел на крыльцо Луку Лукича.
– Голова твоя дурья! – Лука Лукич тщетно пытался вырваться из железных рук ямщика. – Повесят тебя за это.
– Авось не повесят! Говори народу про землю.
– Вы безобразники и бунтовщики, – сердито заговорил Лука Лукич. – По какому такому праву вы правление разгромили? Кто государев портрет изорвал? Кто вам дозволил вывести меня из кутузки, раз я не вами туда посажен?
– Говори про землю! – кричала толпа.
– Про землю? Сенат нам отказал, вот и все. Хотел к государю с жалобой идти, но до него меня не допустили. А может, он сам показаться не захотел, то мне неведомо.
– Значит, на том нам с Улусовым помириться? – спросил Петр.
– Молчи, молокосос! – прикрикнул на внука Лука Лукич. Вот посижу, подумаю – авось и надумаю.
– Ага! А он, пока ты думать будешь, спустит землю в ренду. Не желаем мы того, дед.
– Не желаем!.. – крикнули в толпе, и снова поднялся невообразимый шум.
– А если не желаете, если желаете беспорядки творить, я с вами и говорить-то не буду, вот как. А ну, пусти! – Лука Лукич оттолкнул Никиту Семеновича и ушел в правление.
– Куда ты? – удивился Листрат.
– В кутузку. Кто меня посадил, тот меня должен выпустить.
– Ну, дурак!.. – присвистнул Николай. – Вот так ваш хваленый Лука.
– Народ! – обратился Андрей Андреевич к шумящей толпе. – Что же нам делать, народ, а?
– Запахать улусовскую землю, старики, – предложил Листрат, – запашем, не отберут. Караулы поставим.
– Дело, браток!
– Дело!
– Запахать!
– Желаем!
Это кричали даже те, кто к аренде улусовской земли не имел никакого отношения.
4
Если бы кто-нибудь в эту минуту предложил сжечь Улусова или разграбить его имение, все бы пошли жечь и грабить. Может быть, разгоревшиеся страсти и довели бы сходку до крайних решений, но тут вмешался седой, полуослепший Родивонов, один из древнейших стариков в округе. Он прикрикнул на орущую толпу.
– Хрестьяне! – Он взобрался на бревна. Народ утих. – Или вы забыли, что у нас за иконой покрова божьей матушки лежит царева старинная Грамота на улусовскую землю? Древний царев указ в наших руках. Пускай барин выложит на стол свою бумагу. Мы посмотрим, в какой силы больше. Нет у него такой бумаги! Стало быть, какое же наше решение? Приговорим: собрать Полевой Суд князей, и пусть они нас рассудят с барином. Выложим на стол Грамоту, хлеб-соль поставим, отслужим молебствие и, скинув шапки, послушаем, что приговорят князья. А теперь, отцы, помолимся. Господи, благослови нас на правое дело! – Родивонов слез с бревен, кто-то поддержал его. Старик бухнулся на колени.
Затихшая сходка некоторое время смотрела, как он молится и кладет поклоны. Потом стал один, другой, третий, и вот уже все на коленях, и точно ветер пронесся, – слышались вздохи, молитвенный шепот, тихий плач.
Фрол обратился к миру:
– Вот что, народ, без шума, без сквернословия поедем сей же час на улусовскую землю.
– Писарь! – окликнул Волосова Никита Семенович. – Пиши: приговорено миром улусовскую землю запахать сообща, поля не делить, межей не оставлять.
Волосов кое-как укрепил стол (ямщик оторвал от него ножку) и написал приговор сходки.
– Мир, да чего же это вы? – задыхаясь, просипел Данила Наумович, снова появившийся на сходке: он помог Улусову выбраться из болота и отправил его домой.
– Не слушать старосту! – крикнул Андрей Андреевич.
– Эх, молодо-зелено! – сокрушался Данила Наумович. – Земский-то сам не в себе. «Сожгу село!» – грозит.
– Ежели ты, Данилка, еще что скажешь – и тебя в лужу, понял? – Никита Семенович погрозил старосте кнутом. – Запрягай лошадей, старики, выезжай в поле. Будем пахать. Авось наша возьмет.
– Братцы, старики, да вы ополоумели, что ли? – Данила Наумович побелел от страха. – Да ведь он на нас своих холуев выпустит. Избави бог от крови! Меня-то хоть пожалейте, мужики.
– Молчи, староста! – цыкнул на него Андрей Андреевич. – Что мир порядил, то бог рассудил. А чтобы начальство на ком-нибудь одном не отыгралось, подписывайся, мужики, под приговором. Эй, писарь, давай приговор, к нему руки приложат.
Народ хлынул к столу. Крестясь и вздыхая, люди выводили свои подписи или ставили кресты.
Между тем Никита Семенович ходил от избы к избе, щелкая кнутом, и орал:
– Эй, хозяева! Запряга-а-ай лошадей! В поле, в поле! Улусовскую землю паха-а-ать! Запря-а-агай!..
Глава четвертая1
Дивные дела творились в Двориках!
Никогда село не было таким оживленным, как в этот весенний день. Приговор о запашке улусовской земли и слухи о предстоящем Полевом Суде стали известны в каждом дворе сейчас же после сходки. Все побросали дела и вышли на улицу. Около каждой избы шумно обсуждались события.
Мужики, возвращающиеся со сходки, чувствовали себя героями, шествовали вдоль порядка медленно, важно, не смотря по сторонам, лишь изредка приподнимая картузы, чтобы поклониться встречному человеку.
– Эка испужался земский, – говорил Фрол какому-то бородачу. – Аж руки затряслись, когда закон увидал.
– Понятное дело, Фрол Петрович, – отзывался бородач. – Им, мол, не все законы казать надо. Оно хоть и царем писано, да не про нас, сиволапых.
– Вона что пошло, а? Законы от нас прятать начали!
– А что! Ведь схоронили царев указ насчет большой воли и земли.
– Бары друг за друга во как стоят.
– Андрей болтал, будто и в сенате одни бары. А царь, мол, о том сенатском определении и знать-то не знает.
– Ну?
– Ей-богу! Этот сенат, слышь, вроде стенки перед царем… Тоже барами придумано, чтобы до него наш голос не доходил.
– Ну и мошенство, Фрол Петрович, а?
– Теперь и мужикам одна линия – стенкой держаться. Стенкой, стенкой, и не спорь со мной.
– А наш-то Андрей каков, как это он округ земского прыгал, как это он ему рогами то сюда, то туда! Герой, что и говорить!
Мужики солидно посмеивались.
Молодые крестьяне шли толпами, громко разговаривая и размахивая руками: они были еще во власти того подъема, который создается при дружных совместных действиях, направленных к ясной цели.
Церковный сторож Степан, воспользовавшись отсутствием Викентия, забрался после обеда на колокольню и начал вызванивать что-то похожее на «барыню». За обедом Степан выпил, так разошелся, что люди недоумевали: откуда в селе появился эдакий звонарь? А Степан, в течение многих лет тайком подбиравший на колоколах «барыню» и наконец-то дорвавшийся до заветного, с наслаждением жарил во всю ивановскую, приплясывая, выделывая ногами необыкновенные кренделя, а колокола и колокольчики, привыкшие к благопристойному трезвону, на этот раз были так говорливы, так заливчаты, так заразительно веселы, так им понравилась «барыня», что всем казалось, будто бы и сама колоколенка пошла в пляс под разухабистый трезвон.
Их-эх, ходи хата, ходи печь,
Хозяину негде лечь!
Скоро все лошади, оказавшиеся в селе, были запряжены в сохи и плуги. В нахаловских дворах, хозяева которых отказались участвовать в запашке, лошадей взяли силой.
Пока мужики налаживали сохи и плужки, бабы и девки вплетали в гривы лошадей ленты и цветные тряпки, а к хомутам прикрепляли свежую зелень.
В селе стоял неумолчный гул от хмельного колокольного звона, от говора по-праздничному разодетого люда, от ржания лошадей…
2
Когда все лошади были приведены на площадь перед церковью, на паперти появился Флегонт: Сергей после сходки прибежал к нему на кладбище и все рассказал.
Напрасно он отговаривал Флегонта.
– Донесут? Никто не донесет. Да и то сказать, должен же я показать народу, что умею не только турусы на колесах разводить, но и сообща со всеми в мирском деле быть.
Задами они пробрались к церкви. Когда люди увидели Флегонта, отовсюду понеслись крики:
– Здорово, Флегонт, здорово, милый! Гляди, какой детинушка образовался. Откуда теперь?
Флегонт снял картуз. Все замолчали.
– Мир, – сказал он, – отцы! – И трижды склонил голову перед толпой. – Здравствуйте, братцы. Уж вот как я радуюсь, что вновь с вами свиделся, да еще в такой светлый день.
Толпа приветливо загудела.
– Откуда ты к нам, Лукич? – спросил кто-то из толпы.
– Издалека, старики, из далеких краев, от умных людей. Хотят они народу добра и правды. От них вам принес поклон. Доносчиков тут, полагаю, нет, а потому начну прямо: о том, что вы нынче порешили, узнают во всех концах русской земли. А узнав, то же сделают.
– Стало быть, умно, Лукич, а? – спросил Никита Семенович.
– Тому, кто это задумал, великая честь от всего народа. Тут так надо думать, отцы: хозяева земли только вы. Запашете вы улусовскую землю – тем докажете, что, кроме вас, над землей хозяев на Руси нет. Если даже после того землю отберут, все равно права на нее вы заявили перед всем миром, и рано или поздно права эти перейдут к вам. Так что пашите ее, как добрые хозяева, а там посмотрим, чья возьмет.
– Хорошо сказал. Верно сказал! – закричали в толпе.
– А насчет доносчиков, Лукич, заметил Никита Семенович, оставь. Если кто пикнет, что ты был с нами, тому я сам язык из глотки вырву. Так, народ?
– Так, так! – зашумела толпа.
– А за приветливые слова приговорим Флегонту Лукичу быть среди наших пахарей первым. Пусть он первую борозду заложит, – предложил Фрол.
– Приговорить! Желаем! – закричал мир.
– Так что за тобой, Лукич, распоряжение, – склонив голову перед Флегонтом, сказал Никита Семенович. – Сказывай свой приказ.
– Спасибо, отцы, за честь. Теперь так: пахать будем все вместе, в один ряд. Начинать от лощины. Слушаться Никиту и Андрея Андреевича. Тронули.
Степан опять ударил в колокол, и пахари двинулись в поле.
Вслед за ними шли мужики, бабы, ребятишки. Молодухи несли на руках грудных младенцев. Ребятишки побольше плелись за матерями и бабками, держась за их юбки.
На конце села к толпе присоединился гармонист. Около него тотчас же собрались девки.
Гармонист осмотрелся кругом – да как тряхнет кудрями, как раздвинет мехи…
Барыня, барыня,
Сударыня-барыня,
Сударыня-барыня,
Чего тебе надобно?..
И вот Флегонт, не стерпев, оторвался от плуга и пошел в пляс – и так, и эдак, и вприсядку, звонко шлепая ладонями по голенищам, вскрикивая, гикая… А парни его подзадоривают, подсвистывают ему, подмигивают, подкрикивают. А Флегонт носится, как бес, волчком, а потом опять в лихой присядке…
Подталкиваемая сзади, вышла Аленка, повела плечами, стрельнула лукавыми глазами, вынула платочек, взмахнула им – и куда только девались потупленный взор, робкие движения, несмелая походка! Маленькая королевна утицей плавала вокруг Флегонта, с горделивостью, с надменностью во взгляде, неприступная и пляшущая как бы только ради необходимости, а не ради собственного удовольствия. В правой руке она держала платочек, левой придерживала юбку, и плыла по дороге, дразнила Флегонта, притопывала каблучками и бросала такие улыбки, что иных парней словно кипятком обдавало.
«Ах, черт, какую девку упустил!» – думал с досадой Листрат. А девушки знай ладят:
Барыня, барыня,
Сударыня-барыня…
Гармонист поддает жару, сохраняя в то же время полнейшую невозмутимость и даже как будто не замечая всего, что творится вокруг.
И носится Флегонт, и кружится вокруг него Аленка, и идет по полю посвист – э-эх, гуляй, душа!..
Около Каменного буерака гармонист по знаку Никиты Семеновича оборвал плясовую.
Флегонт вытер пот, поймал Аленку.
– Ну и хороша же ты, девка! – и хотел Аленку поцеловать, но она вырвалась и спряталась за спины подружек.
Впереди произошла задержка: улусовские батраки, встретив мужиков у буерака, затеяли с ними драку. Да куда там! Известно, мир взревет – леса клонятся. Все дружно навалились на улусовских батраков, быстро и деловито наломали им бока, а барских лошадей присоединили к сельским.
Флегонт выстроил пахарей в один ряд по косой линии и обратился к ним с напутствием:
– Братцы, все слышали, что я сказал? Пахать на совесть. Ежели ты, Никита, или ты, дядя Андрей, приметите, что пашут шаляй-валяй, – гоните взашей! Ну, начали!.. – Флегонт плюнул на ладони, взялся за рукоятки плужка, причмокнул, тронул лошадь, и все пахари двинулись за ним.
Слышались лишь дыхание лошадей, шорох земли, разваливаемой лемехами, щелканье кнутов, лязганье плужных цепей. Народ с таким любопытством наблюдал за пахотой, словно впервые ее видел.
3
В течение многих столетий пахали они эту землю. Веснами и по осени то там, то здесь маячили на ней согбенные фигуры. Под солнцем, под унылым дождем шагали они по своим полосам, поглощенные вековой крестьянской думой, совершая то, что совершалось до них и что должно совершаться во веки веков.
Одинокий пахарь с думой, не разделенной ни с кем, узкие полосы, отгороженные межами, жизнь, замкнутая четырьмя стенами избы, могилы с ветхими крестами – Россия, Россия, блеклые твои небеса, многотрудные твои судьбы! Одинокий пахарь на узкой полоске, он был твоим символом на протяжении многих веков.
И вдруг все разом переменилось: по полю косой линией шли пахари, сосредоточенные, поглощенные одной заботой – вспахать землю, как она никогда не пахалась, лучше, чем при дедах и при прадедах.
Они дошли до неглубокой, пологой лощинки, миновали ее.
Легкий туман, смешавшийся с испарениями влажной земли, закрыл пашущих от молчаливой толпы. Через час туман рассеялся, на поле возникли фигуры лошадей, потом они снова исчезли, спустившись в лощинку, и вдруг поднялись из-за края все сто десять коней и сто десять пахарей разом.
Глава пятая1
Викентий узнал о том, что делается в Двориках, в соседнем селе, где он справлял требы. Весть о решении двориковской сходки облетела всю округу; народ окрестных сел тоже начал волноваться.
– Хорошо, все хорошо! – вслух говорил поп, вернувшись к себе и расхаживая по столовой.
Но все хорошо было только на словах. На душе было плохо. Совесть требовала предпринять какие-то шаги и спасти село от неминуемой расправы.
«Поехать в Улусово? Уговорить Никиту Модестыча? Приказать мужикам под страхом отлучения от причастия вернуть землю помещику? А вдруг я уговорю? Тогда весь мой план летит!.. Нет, мне ехать нельзя».
В столовую вошла Таня.
«Вот она и поедет», – решил Викентий.
– Слышал, что было в селе? – спросила Таня, наливая отцу чай.
– Да. А где ты была?
– Ходила на кладбище.
– Флегонт долго здесь будет?
– Скоро уедет.
– Куда?
– Разве он знает куда? Куда пошлет партия, папа.
– А если и тебя пошлет партия?
– Я под надзором, – уклонилась Таня от прямого ответа.
«Ага, – подумал Викентий, – вот как! Значит, у них так положено, что поднадзорные как бы остаются не у дел. Очень хорошо! Я постараюсь, чтобы тебя подольше подержали под надзором…»
Вслух он сказал:
– Таня, я бы на твоем месте поехал к Улусову.
– Зачем?
– Затем, чтобы уговорить его простить мужиков.
– Разве он меня послушает? Поезжай ты.
– Я ехать к нему не могу, да и бесполезно. Мы в среду очень крупно с ним поговорили. Совсем разругались… Он не примет меня. И если ехать, то сейчас же – иначе будет поздно.
Таня задумалась. Положение было скверное. Улусов действительно может сделать любую гадость. Посоветоваться с Флегонтом? Но Флегонта она увидит только ночью. Откладывать нельзя.
– Меня он тоже не захочет видеть, – нерешительно заметила Таня.
– А если воздействовать на Улусова через Сашеньку? – предложил Викентий.
– Это, пожалуй, идея. Хоть они и в ссоре, но вдруг Сашенька чем-нибудь поможет?
– Верно, верно, Танюша.
– Поеду! Скажи Листрату, пусть запрягает.
2
Таня не без колебания ехала к Сашеньке. После ссоры, случившейся между ними много лет назад в Тамбове, они не виделись. Сашенька не хотела первая подать руку примирения, хотя Таня нравилась ей. В мысленном списке ее знакомых Таня значилась в числе «интересных». Таня, не одобряя некоторых поступков Сашеньки, личной неприязни к ней не чувствовала.
– Слыхали, барышня, – заговорил Листрат, когда тарантас перевалил через Каменный буерак, – у Андрея очень плохи ребятишки.
– Как так?
– Захворали. Марфу видел, не узнать. Видно, здорово бог осерчал на мужиков. – Листрат хлестнул жеребчика. – Пошевеливайся, ты!..
Жеребчик повел ухом и прибавил ходу.
Таня нахмурилась.
– Учила я тебя, голубь, учила, а вижу – напрасно.
– Почему? – с обидой спросил Листрат.
– Да вот так! То, что мужикам нельзя жить, как они живут, ты понял?
– Вполне. Ох, трудно нам, Татьяна Викентьевна!
– Ты понял, что ни от бога, ни от царя они ничего не получат?
– Это тоже маленько уяснил. Действительно, видать, наш царь вовсе заблудился. Конечно, и он человек, где же ему до всего дойти.
– А он и не старается. Он сам помещик, охота ли ему со своей землей расставаться? Учить тебя надо, Листрат Григорьевич, да еще как учить. Слушай, уходил бы ты от отца, поехал бы в город…
– Барышня, я об этом как раз и хотел вам сказать… Просить и вас хотел… Мне об этом отцу Викентию совестно говорить. Лавочников Миколай обещает найти мне работу в Москве. Или в Царицын уйду. Оно поближе, и домой приехать всегда можно… На заводах, говорят, и заработки подходящие. А то ведь изба-то у матери вовсе разваливается.
– А где твой отец?
– А черт его знает! – со злостью ответил Листрат. – Бродяга шалопутный! Заявится, поживет дня три – и опять бродяжничать. Мы с маманей на него рукой махнули. Так что, барышня, скажите за меня словечко отцу Викентию. Боюсь: вдруг рассерчает.
– Хорошо, скажу. Пора тебе, Листрат, себя показать и людей поглядеть. И Аленку забыть, – улыбнулась Таня.
– Может, из-за Аленки я и не хочу в селе оставаться, барышня, – признался Листрат. – Эх, девка!.. – Он тяжело вздохнул.
– Ничего, найдешь невесту лучше Аленки, – утешила его Таня.
– Такой не найти. Эй ты, серый, шевелись!.. – Листрат пустил лошадь рысью. – Барышня, – помолчав, снова начал он. – Ежели все, что Флегонт говорил, сбудется, тогда, выходит, Улусову землей не владеть? – Листрат не сомневался, что Тане все известно о сходке в буераке.
– Если у Улусова и у всех помещиков отобрать отрезки, земли у них поубавится.
– Мужиков в одних портках оставили, барышня.
– Пусть сначала отдадут отрезки. Там видно будет.
– Ну и напугал его Зевластов! Долго будет помнить…
Таня ничего не ответила. Листрат тоже замолчал.
Тарантас катился мимо только что вспаханной улусовской земли. Остались позади Дворики, кладбище, скрылась колоколенка. Тарантас спустился в лощину – и все исчезло из глаз: село, и дальние кусты, и мельница в соседней деревне.
Листрат щелкнул кнутом, покосился на Таню, кашлянул и запел любимую песню Никиты Семеновича:
Эх ты, горюшко мое, горемычное,
Распроклятое село, непривычное,
Все-то тут не наши, не наши, не свои,
Все-то тут чужие, чужеродна-а-а-и!
Выдавали меня замуж, горько слезы я лила,
Эх, да на чужую, эх, да на сторонку
Меня мама отдала!
Эх, зачем я, молодая, за немилого пошла?
Эх, зачем покой сердешный
На дне речки не нашла!..
3
Ерофей Павлович, лакей Улусова, гололобый, медлительный и молчаливый старик: за день он десяти слов не скажет. Все, что у него скапливалось за это время на сердце, Ерофей Павлович выкладывал барину за вечерним чаем.
Был в Улусове стародавний обычай – приглашать Ерофея Павловича к вечернему чаю. Молодой барин не отменил этого обычая.
В течение получаса Улусов разговаривал с лакеем о разных высоких материях из области политики и искусства. Ерофей Павлович, выполняя обычай, говорил с барином вольно и непринужденно. Старого барина Ерофей Павлович любил и баловал; размолвки бывали у них редко. Молодого князя он ненавидел за грубость, за неприличное пристрастие к крепким напиткам и презрительное отношение к народу. За чаем он разговаривал с Улусовым резко, оспаривал даже очевидное, лишь бы досадить ему; без стеснения называл его рассуждения глупостью и осуждал его действия.
В последнее время, наслушавшись племянника, Ерофей Павлович позволял себе высказывать смелые мысли о верховной власти.
Улусов постепенно приходил в бешенство, начинал давиться словами, глаза выкатывались, губы дергались. Сашеньку душил смех, когда она наблюдала за этими поединками.
Время, отведенное для странного обычая, истекало. Улусов резко вставал и уходил. Слуга снова превращался в слугу – молчаливого, медлительного, готового завтра в тот же самый час повторить комедию, играемую много лет.
Люди, знавшие отношения барина и лакея, никак не могли сообразить, почему Улусов терпит Ерофея Павловича. Но в завещании Модеста Петровича насчет этого имелась особая статья: держать Ерофея в доме, «не чиня ему никаких притеснений до самой смерти», а если эту завещанную волю сын не исполнит, он будет проклят отцом, для чего Модест Петрович грозился встать из гроба.
Улусов знал, что из гроба старику никак не встать, но все же побаивался: был он суеверен, как почти каждый русский барин.
Ерофей Павлович встретил Таню на крыльце старинного барского дома.
– Барышня в саду. Прикажете доложить?
– Я сама туда пройду.
– Положено докладывать. – Ерофей Павлович держал себя почтительно, но твердо.
– Хорошо, скажите, что приехала Татьяна Викентьевна.
– Знаю-с! Прошу в гостиную.
– Я подожду здесь.
– Не положено здесь ожидать.
– А я прошу, Ерофей Павлович, оставить меня здесь. Ради старого знакомства, а?
– Как изволите.
– Где Никита Модестович?
– Уехали в Тамбов. Да-с, уехали! – Ерофей Павлович поджал губы. – Уехали за солдатами. Приведут солдат на собственную погибель.
– Что вы говорите?
– Точно-с, Татьяна Викентьевна! Ужасно свирепым уехали-с. Кричали: «Сожгу мерзавцев!..» А того не знают, что сами себя поехали поджигать.
Это был как раз тот самый час, когда Ерофей Павлович открывал рот; тем и объяснялась его многоречивость.
– Так доложить-с?
– Да, да.
Ерофей Павлович ушел. Через несколько минут он вернулся и сказал, что велено просить в сад, в беседку около пруда.
Таня обошла дом, миновала липовую аллею и вышла к пруду.
В беседке сидели Сашенька и Волосов. Таня поморщилась: писарь с его кривляниями и воплями о терроре становился ей все более противным. Она хотела покончить с ним раз и навсегда, но сейчас ей было не до него.
– Драгоценная Татьяна Викентьевна, в добром ли здравии вы совершили свой вояж из Двориков в наши пенаты? – шутливо спросила Сашенька. – В добром ли здоровье ваш батюшка? Как ваше здоровье, моя милочка?
Таня рассмеялась.
– Благодарю вас, – в том же тоне ответила она. – Все находятся в добром благополучии благодаря господу богу и вашим молитвам.
– Я так довольна, ах, ах! – сказала Сашенька, морща носик.
Волосов встал. После того как Таня виделась с ним в последний раз и просила помочь Флегонту, они не встречались.
– Ты куда?
– Пойду!
– Посиди.
– Не хочу.
– Мальчик был диковат со дня рождения, простим ему это, – сказала Сашенька.
Волосов вышел из беседки. Сашенька пожала плечами.
– Он добрый, но странный какой-то.
– Ничего в нем странного нет, – ответила Таня. – Он авантюрист и кончит плохо, вот увидите.
– Представьте, это-то мне в нем и нравится. Знаете, я влюбляюсь в него. Все больше и больше.
«Два сапога – пара», – подумала Таня.
– Он, конечно, не красавец, но…
– Сашенька, ведь и вы не писаная красавица.
Сашеньку с ее бледным лицом, узким разрезом глаз и редкими желтоватыми зубами назвать красавицей нельзя. О своей влюбленности в писаря она сказала, разумеется, в шутку: Волосов нисколько не был влюблен в нее, так же как и она в него. Впрочем, перед Улусовым Сашенька разыгрывала роль влюбленной с единственной целью – позлить дядюшку. Дворянка – и вдруг любит племянника лакея, человека без роду-племени и определенных занятий.
– Я страшно рада, что вы приехали ко мне. Мне все тут безумно надоело! Чаю хотите?
– Я к вам, Сашенька, ненадолго и по делу.
– А может быть, прокатимся с вами в Тамбов, а? Поедемте, Танюша! Повидаем старых друзей, Лужковского растормошим! Зевластов отвезет нас к поезду на тройке. Фр-р! Птицами полетим. Вот люблю!.. Как Зевластов гаркнет на лошадей, как они взовьются, как хвосты поставят трубами – эй, гони, не догонишь!..
– Боюсь, что Зевластов не повезет нас в Тамбов. Боюсь, Сашенька, что он никого и никуда не повезет, а его повезут. Вы знаете, что у нас случилось?
– Знаю, все знаю. И как Никиту Модестовича выкупали в луже, и как вспахали землю. Теперь только и жди расправы.
– Вот видите.
– Дядюшка вернулся из Двориков ужасно злой.
– Тем более. А вы знаете, что Никита Модестович сказал нашему старосте и Ерофею Павловичу, когда уезжал в Тамбов? Он грозит сжечь Дворики!
– Полно!
– Сашенька, вы знаете характер Улусова. Прошу вас немедленно, понимаете, немедленно дать ему в Тамбов телеграмму, вызвать его сюда. Я уже не знаю, что вы придумаете, но важно, чтобы он примчался, чтобы он не успел донести губернатору… Сообщите, что вы при смерти, что от молнии сгорело имение, что вы сбежали… Одним словом, надо его вернуть, иначе в бешенстве он может наделать бог знает что. Разрисует это происшествие бунтом, тем более, что и в соседних селах начались волнения, потребует солдат… Вы знаете, как это делается.
– Представляю себе Никиту Модестовича, сидящего на козлах тарантаса, а вокруг вода. Нот, он просто прелесть, этот Зевластов! – Сашенька рассмеялась. – Вот с этого-то, Таня, все и начинается, начинается то, к чему мы и зовем крестьян.
– Сашенька, милая, мне сейчас не до политических споров. Поймите всю важность того, что может быть.
– Ничего дурного селу он не сделает. Он трус.
В беседку со скучающей миной вернулся Волосов.
– Костя, растолкуйте Сашеньке, чем все это может окончиться, – резко сказала Таня.
– Все, что захочет.
– Перестаньте. Все ненавидят Улусова бог знает как!
– А вы его очень любите, – заметила Таня.
– У нас с ним особые счеты.
– Надо думать, тоже политические? – Таня усмехнулась. – Он за солдатами поехал!
Сашеньке передалось волнение Тани.
– Я сегодня же пошлю телеграмму. И ведь правда, он такой… Возьмет да и…
– Да и отправит десяток-другой мужиков на каторгу, – добавила Таня.
– Ну, уж так-таки и на каторгу! Замолчите, Танюша, вечно вы со своими преувеличениями!
4
В тот вечер Сашенька чем-то была занята, потом легла спать и телеграмму не послала.
Вспомнив о просьбе Тани утром следующего дня, она принялась сочинять телеграмму, но ничего для немедленного вызова Улусова из Тамбова придумать не могла. Потом, опять занявшись какими-то делами, вообще забыла о своем обещании.
Между тем рассвирепевший Улусов наговорил губернатору такое о бунте в Двориках, что тот пришел в ярость. В его губернии мужики засунули дворянина в лужу? Кричали что-то непристойное о государе, о православной церкви? Повторяли возмутительные измышления социалистов? Нашли закон и на основании его выразили недоверие к порядкам, установленным на Руси? Запахали барскую землю! Начался шум в окрестных деревнях, зараженных примером Двориков…
Солдат! Вздрючить так, чтобы было памятно на многие годы.
Вот тут-то Улусов и понял, что он наделал, тут-то и стало ему не по себе. Зная характер подвластных ему мужиков, он до того испугался, что пошел на попятную, начал успокаивать губернатора, сводя воскресное происшествие к баловству, просил разрешения самому наказать тех, кто нагрубил ему.
Однако фон дер Лауницу нужен был именно бунт, а не баловство.
Он был недавно назначен в Тамбов вместо камергера Ржевского. Камергеру ставили в вину его якобы отеческое расположение к учащейся молодежи, бунтовавшей повсюду, и недостаточность мер по устрашению тамбовских либералов. Носились также слухи, что камергер водил близкое знакомство с опаснейшим из всех тамбовских «красных», присяжным поверенным Николаем Лужковским.
Новый губернатор решил показать высшим сферам, что он отнюдь не красный, не либерал, как его предшественник, а строгий, взыскательный начальник губернии, крепко держащий бразды правления.
Лауниц по телеграфу сообщил о происшествии министру внутренних дел Плеве. Плеве доложил царю. Царь приказал тамбовскому губернатору примерно наказать бунтовщиков.
Для проведения экзекуции был отряжен эскадрон драгун. Через два дня после событий в Двориках карательная экспедиция отбыла к месту происшествия. Губернатор не пожелал показываться в Двориках и расположился лагерем поблизости, в селе Духовке, чтобы в случае, если мужики окажут сопротивление, быть готовым к более решительным мерам. В мятежное село губернатор послал казачью сотню.
5
Слух о том, что губернатор с войсками прибыл в Духовку, был перехвачен Листратом. Он передал его Тане. Таня предупредила Флегонта.
Листрат поделился новостью с Сергеем; тот сказал, что ничего невероятного в том нет.
В эту ночь на кургане работали особенно усердно – к утру землянка была готова. Все остались довольны: в укрытии могли легко разместиться человек шесть.
Хорошо замаскированный вход, сухие стены и прочный потолок делали землянку верным и надежным убежищем.