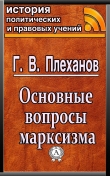Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Вечерний звон"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц)
1
Двориковские мужики, погибавшие от голода, пошли на мировую с Петром. Однако Петр торжествовал недолго.
В то самое утро, когда мужики, согласившись на все условия Петра, начали ломать камень, открылись двери кабака, построенного в буераке лавочником.
Рано утром Петр, чтобы вернее закрепить работников за каменоломней, выдал каждому немного денег. К концу дня новый кабак был переполнен. Вина не хватило. Иван Павлович приглашал всех в «Чаевное свидание». Там мужиков ждала толпа баб. Возникла драка, многих мужиков жены увели домой, шум привлек множество людей.
Толпа разбушевались, особенно шумели бабы. Иван Павлович привел стражника, но кабак был пуст. Стражник, по указаниям Ивана Павловича, арестовал десять человек, в том числе Андрея Андреевича.
Узнав об этом, Викентий пошел к Ивану Павловичу и стал уговаривать его прикрыть питейное заведение.
– Вином сам царь велел торговать.
Викентий пригрозил проповедью.
– Ты что, батюшка захотел против царя встать? – Лавочник начал последними словами поносить Викентия.
Тогда Викентий сказал:
– Я отрешу тебя от исповеди и святого причастия!
Иван Павлович крикнул ему вслед:
– Были бы попы, исповедники найдутся. Все вы деньгу больше бога любите!
Утром Викентий за обедней прочел проповедь против пьянства и насадителей кабаков. Проповедь, к его ужасу, была понята превратно, – народ начал кричать: «Сжечь кабак!»
Все ринулись из церкви, высадили двери в волостном правлении, освободили арестованных, избили сторожа Арефа и скопом повалили в Каменный буерак, где при восторженных криках кабак был предан сожжению. Тут же кто-то крикнул:
– Не будем работать, пока жив Фрешер!
Каменоломня снова опустела.
В тот же день на церковных дверях появился рисунок, на котором был изображен Улусов с нагайкой, а позади него, в обнимку, троица: немец Фрешер в виде свиньи, с дубиной в передних лапах, Иван Павлович с четвертью водки под мышкой и Петр Сторожев с веревочной петлей. А над ними парил в облаках Викентий.
Спустя несколько дней ночью загорелось имение Улусова. Соломенные ометы, старые и новые одонья, зерновые и машинные амбары, склады и сараи вспыхнули одновременно, подожженные, словно по команде.
Пожар, почти уничтоживший имение Улусова, был началом более грозных событий – заполыхали имения по всему уезду.
Тщетны были поиски поджигателей. Но на одного человека погоревшие помещики показывали, словно сговорившись, – на Викентия. Его считали главным поджигателем, ему приписывали все, что делалось в губернии. Пошли слухи, будто Викентий проповедует отторжение барских земель, что по его наущению мужики начали вырубать барские леса, что он и есть вдохновитель «степных братьев», орудовавших в губернии.
2
Через некоторое время «степные братья» объявились в Двориках и в окрестных селах. Со дворов начали исчезать куры и гуси, из погребов – молоко.
Однажды, когда Иван Павлович сидел в лавке, к нему домой пришли двое неизвестных парней. Они потребовали у жены лавочника хлеба, молока, яиц. Забрав поживу, один из парней сказал, чтобы убытки записали на счет «степных братьев»…
Через некоторое время эти двое пришли в лавку и передали Ивану Павловичу записку от сына: Николай требовал, чтобы отец выдал подателям письма сотенную. Лавочник начал было кричать на них. Парни вынули револьверы.
Потом они приходили еще несколько раз, уже без записок Николая, Иван Павлович давал деньги безропотно.
Только попу Иван Павлович рассказал о «степных братьях».
«Еще чего не хватало, – злобно думал Викентий. – Нет, теперь здесь нужны не уговоры! Буря идет… Солдат сюда, солдат!..»
И словно напророчил. По приказу министра внутренних дел в Тамбовскую губернию для подавления мужицких бунтов были направлены воинские части. Пришли солдаты и в Дворики.
В этот же день благочинный получил предписание архиерея о ссылке Викентия на послух в Саровский монастырь.
Часть четвертая
Глава первая1
Прошел год.
Улусов был бы рад-радешенек отделаться от беспокойной должности. Но власти не отпускали его: он числился среди особо отличившихся в пресечении и подавлении мятежных мужицких настроений.
Теперь, прожди чем лечь спать, Улусов, не доверяя Ерофею Павловичу, самолично расставлял дежурных стражников, проверял замки и запоры, клал под подушку два заряженных револьвера.
Однако спал плохо: малейший шорох будил его, он вскакивал, обливаясь холодным потом. Ему казалось, что двориковские мужики идут резать его.
Как преступника порой неотвратимо тянет туда, где он совершил последнее злодеяние, так и Улусова тянуло в непокорное, «пугачевское» село. Ездил он туда, повинуясь безотчетному велению каких-то смутных внутренних сил, часто сам не зная, зачем едет, и проклиная себя за слабодушие, ездил и по делам – для принятия «соответствующих мер».
В Дворики он отправлялся так, как на войне конные разведчики пробираются в селение, о котором толком неизвестно, в чьих оно руках: притаился ли там враг или нет в нем ни одной живой души.
Стражники приближались к селу с большими предосторожностями: в полном молчании, рассыпным строем, с оружием наготове.
Около волостного правления, у болота, в котором двориковские мужики выкупали Улусова, стражники останавливались, прислушивались. Потом по команде Улусова с гиканьем и воплями проносились вдоль Большого порядка до самого Дурачьего конца и обратно, спешивались близ дома Данилы Наумовича и некоторое время стояли, готовые к пешему бою.
При виде скачущих всадников все прятались по избам, а не успевшие схорониться встречали Улусова с усмешкой. И он понимал, что она означает: в душе они потешались над земским и знали: он боится их. И то, что он, Улусов, человек, облеченный широкими карательными полномочиями, вооруженный и охраняемый, действительно боялся мужиков, было для него душевной пыткой.
Дело обернулось так, словно не он зверски выпорол мужиков, а они пороли его; будто не он судил их за запашку его земли, а он осужден ими за земельное лихоимство; не на них наложена двадцатитысячная дань за протори и убытки, нанесенные ему, а он их неоплатный должник.
Улусов не мог подавить этого странного и страшного чувства, бесился и злобился. Он ошалел от страха. Верхи были отгорожены от народа охраной и охранкой. Улусов стоял перед мужиками лицом к лицу. Он знал, что в последнее время губернаторов, земских начальников и становых приставов подстреливают чуть ли не каждый день. Правда, находились другие становые приставы, земские начальники и губернаторы, не менее свирепые, чем их предшественники. Но Улусову от этого не спалось спокойнее. Он отчетливо сознавал, что от народного гнева его не спасут ни стражники, ни револьверы, ни замки и запоры.
Но гнев был спрятан глубоко – до поры до времени, – и это Улусов тоже очень хорошо знал. Он был бы очень рад, если бы в Двориках снова вспыхнул бунт. Тогда бы он разделался с «пугачевцами» раз и навсегда.
А народ вроде и не думал о бунте.
Весело перекликались бабы у колодцев и во дворах, мужики с открытыми и добродушными лицами спешили куда-то. По улицам плелись подводы, мальчишки играли на припеке, даже старые деды, вроде Родивонова, выползали на солнышко и клевали носом, разогретые теплом.
А по вечерам пиликала гармошка, девки пели прибаски, смех, крики допоздна слышались то на одном, то на другом конце села, лаяли собаки, дым коромыслом стоял в «Чаевном любовном свидании друзей». Где-то под гиканье и свист шел отчаянный пляс…
Этого Улусов не понимал, а всякое непонятное таило в себе бунт.
Однако никаких признаков готовящегося бунта им не замечалось, но, с другой стороны, было ясно, что бунт есть.
Случайно встречаясь с Лукой Лукичом, Улусов тщился пронзительным взглядом проникнуть в душу главного подстрекателя.
Лука Лукич почтительно кланялся Улусову, говорил с ним вежливо, а глаза его не выражали ни страха, ни раболепия, они смеялись! Он ничем не выдавал своих крамольных намерений и все же представлялся Улусову главным крамольником, только и ждущим случая и предлога, чтобы поднять мятеж.
Улусов доподлинно знал, что Лука Лукич ненавидит его, и понимал, за что именно.
Нечего и говорить, как злобился на Улусова Андрей Андреевич. На вид простоватый, балагур, но такая зловредная заноза – упаси бог!
У Андрея Андреевича к Улусову тоже был большой счет: казаки, приведенные земским начальником для усмирения села, изнасиловали его жену – тишайшую и кротчайшую Марфу, надругались над телами детишек, представившихся ко господу в те страшные памятные дни. Потом Улусов судил неведомо за что Андрея Андреевича, да еще наложил на него в свою пользу дань… Дань платить было нечем. Пришлось бедняге спустить единственную лошаденку и послать детей побираться с сумою, а самому ломать спину в каменоломне Петра Сторожева за гривенник в день.
Андрей Андреевич, завидев Улусова, не скрывал ухмылки: было ясно, что он откровенно издевается над начальством. Но что поделаешь с усмехающимся человеком? А может, он усмехается просто так? Улусов догадывался, какие мысли бродят в голове Андрея Андреевича, но пойди докажи, что они бунтарские.
Еще более откровенно издевался над Улусовым Никита Семенович.
– Ты чего смеешься? – со злостью спросил как-то Улусов ямщика. – Ты чего скалишь зубы?
– А я над тем, ваше благородие, смеюсь, – добродушно отвечал Никита Семенович, – что видел нынче сон, ну, прямо помереть со смеху. Будто сижу я у вас, ваше благородие, в гостях, выпиваю, а заместо закуски жую коровьи ошметки. Жую эдак и похваливаю, вот уж, мол, ошметки так ошметки, не то, что в ином месте, сразу видать – от барских коров. – И шел дальше, помахивая кнутом, поигрывая плечами, посвистывая.
Что с него взять? Конечно, сон Никита Семенович выдумал на ходу, чтобы досадить земскому, но как доказать, что такого сна он не видел? Можно бы дать ему понюхать нагайки, но Улусов навечно запомнил взгляд Никиты Семеновича во время расправы – в том взгляде было столько жгучей, кровавой ярости, столько дерзкого вызова, что при одном воспоминании о нем князька начинало трясти.
Даже Иван Павлович сердился на Улусова: искать бы ему разбойников, которые все чаще приходили к лавочнику и обдирали, как липку, а не скакать со стражниками по селам, стращая христиан гиканьем и воплями. Или порыскать бы покрепче в школе, откуда, болтают, идет по селу возмутительная зараза. Впрочем, донести Улусову на «степных братьев» или намекнуть насчет школы побаивался: народа побаивался и этих злодеев.
Порой Никита Модестович подумывал: «А не помириться ли с двориковскими мужиками? Отдам эту проклятую землю по той цене, которую брал покойный батюшка, народ притихнет. Или поговорить с глазу на глаз с Лукой Лукичом, объяснить ему, что я сержусь на мужиков не потому, что злой по природе, а уж так повелось, что начальству добрым быть не положено. Сказать ему, что, смягчи я установленные порядки, мне самому дадут по шапке. И не только попросят вон со службы, но и очень круто расправятся. Вон тверские земцы: люди благонамеренные, вовсе не революционеры, заикнулись перед царем о пустяковых послаблениях, а что вышло? Земство разогнали, членов земства в ссылку! А среди них дворяне, помещики и даже кое-кто из аристократии…»
Улусов однажды зашел к Луке Лукичу, поведал все, что накопилось у него на душе, предложил мир и землю в аренду по прежней цене, попросил прощенья за расправу, сказал, что в те минуты был не в себе и раскаивается в содеянном, что, между прочим, было правдой.
Лука Лукич, слушая исповедь Улусова, думал об одном: какой еще подвох надумал барин? Слишком много накипело на душе у старика и у всех в селе против земского начальника, чтобы вдруг поверить ему.
– Батюшка, Микита Модестович, – сказал Лука Лукич, когда Улусов, побледнев от волнения, окончил длинную речь. – Каждый христианин, то и господом предписано, должон прощать врагам своим. Вам я верю: стыдно, верно, стыдно вам, тяжко вспоминать баньку, которую вы для нас истопили. Верю задушевным словам вашим. Да что я, против мира? Соберите сходку, Микита Модестович, скажите мужикам, что мне сказали. Вот мой совет.
Каяться перед всеми мужиками? Этого Улусов, разумеется, не мог позволить себе. Не потому, что стыдно выходить на круг и исповедоваться, а потому, что он не знал наверняка, как поступит сходка. Вдруг начнутся издевательства, еще худшие, чем он терпит теперь от отдельных мужиков? И не вызовет ли его поступок нового взрыва страстей? Ведь и без того сходки раз от разу становятся все более шумными, и голытьба недвусмысленно объявила беспощадную войну «нахалам». Кроме того, как посмотрит на такой поступок высшее начальство? Но как бы там ни было, так жить тоже невозможно.
– Вот если бы ты, так сказать, подготовил всех…
– Микита Модестович, как я могу их подготовить? Скажем, уговорю не шуметь, не обижать вашу милость, поладить с вами навечно миром. Согласятся со мной, к примеру… А кто знает, как оно на сходке обернется?
– То-то и оно, – мрачно согласился Улусов. – Ну, ладно, это отставим пока. Давай начнем разговор о земле.
– И тут не в силах, батюшка. Был вчера на сходке, как раз зашел разговор о вашей земле… Так что вы думаете? Орать начали, что, мол, ладно, пока потерпим, а вскорости мы ее дарма у земского заберем. Вот оно как!..
– Н-да! Я думал…
– Понимаю, батюшка, да уж больно вы распалили село.
Улусов мрачно молчал.
– Прямо и не придумаю, как подмогнуть вам, Микита Модестович.
– Ну, спасибо хоть за доброе слово, Лука Лукич. – Улусов выдавил улыбку и уехал ни с чем.
Слушая рассказ Луки Лукича об этой беседе, мужики в один голос решили:
– Жди новой беды!
2
Улусов нет-нет да и зайдет к Ольге Михайловне. Темные слухи, будто она собирает мужиков и проповедует разрушительные мысли, окольными путями доходили до земского.
Были у земского агентурные сведения о политических связях учительницы с Флегонтом.
Стороной до Улусова дошло, будто Флегонт появлялся в Двориках и на тайной сходке подговаривал мужиков на бунт, рассказывал им о событиях, происшедших в Батуми, где рабочие взбунтовались, а потом вступили в бой с войсками, о мятеже мужиков в Гурии, о том, как они устроили вроде всеобщей стачки, а Флегонт, который-де тоже подбивал на восстание тех кавказских мужиков, сумел вовремя бежать, иначе быть бы ему на каторге.
Улусову стало известно, что Флегонта видели среди двориковских мужиков, когда они самочинно запахали барскую землю. Всем этим разговорам Улусов не слишком верил. Чтобы Флегонт Сторожев, человек, несомненно, умный, хотя и неискоренимый злоумышленник и проповедник разрушительных идей, набрался такой дерзости?! На всякий случай Улусов допросил десятка два мужиков, обшарил округу, но никаких следов Флегонта не нашел. Люди отвечали одно: «Знать не знаем, ведать не ведаем! Окстись, батюшка, виданное ли дело, чтобы он на рожон лез!»
Улусов успокоился: приметы Флегонта имелись в каждом полицейском участке, и, действительно, не такой он дурень, чтобы выдать себя с головой.
Изредка земскому начальнику доставляли листовки, напечатанные на гектографе, а то и типографским способом, с надписью внизу, что листовка издана таким-то комитетом социал-демократов. Кто их присылал, Улусов так и не мог дознаться, хотя и подозревал, что появление листовок не обходится, с одной стороны, без участия Флегонта, а с другой стороны, что и Ольга Михайловна к ним безусловно прикосновенна.
Однако, заходя в школу, он всегда заставал Ольгу Михайловну на месте, встречала она его почтительно, приглашала на чашку чаю, смотрела ясно и доверчиво, мило смущалась, весело и добродушно болтала.
Ее улыбка обезоруживала Улусова. Придраться к Ольге Михайловне он решительно не мог, прямых доказательств у него не было, да он и не ждал их. После расправы, суда и наложения дани село свернулось в кулак, и этот кулак был занесен над Улусовым.
Когда он опустится? Это могло случиться и днем и ночью, в пути и в имении. Нахаловские богатеи, презираемая Улусовым крикливая и беспокойная голытьба с Дурачьего конца были единодушны в ненависти к земскому начальнику.
Правда, Улусов знал, что «нахаловцы» не менее его презирают задиристых «дурачков», а те отвечают им тем же; что озлоблением друг против друга полно село и даже такая семья, как сторожевская, служившая примером единства и сплоченности, раздираема внутренними распрями, и Лука Лукич последними усилиями воли сдерживает бушующие страсти.
Этому помог поп Викентий своими примиренческими идеями. Вместо примирения вышло так, что у всех за пазухой нож, и все ножи в первую очередь припасены для Улусова.
Шла в селе беспощадная, незримая борьба, но уж кто-кто, а Улусов знал: случись бунт – они будут вместе, все вместе за эту проклятую землю, и все против него.
Они бунтовали и сейчас, но тайно: задерживали елико возможно платежи и подати, устраивали сходки, не предуведомив земского начальника, сходились в избы и шептались о скорой большой воле, портили барские посевы, избивали батраков Улусова.
Однако дни шли за днями, не нарушаемые какими-либо из ряда вон выходящими событиями, кроме прокламаций. Улусов привык к ним, а если и устраивал повальные обыски, чтобы найти распространителей, то больше для острастки. Даже те, кто был бы рад выслужиться перед начальством, помалкивали.
Село жило, как всегда, каждый делал, что ему положено. Но под будничной повседневностью клокотали страсти. Улусов все видел, все понимал и трепетал перед тем, что неотвратимо надвигалось.
Обжигающее дыхание урагана уже чувствовалось, но сам он был еще незрим, за чертой горизонта.
3
В самом конце зимы Улусову сообщили, что Флегонт снова появился в Двориках.
Иван Павлович, трясясь от страха и заклиная Улусова никому не говорить, от кого он это слышал, взяв даже с него клятву, набрался духа и рассказал о «степных братьях», смолчав, разумеется, об участии в делах эсеров Николая. По словам Ивана Павловича выходило так, что он самолично слышал от двух разбойников, повадившихся к нему за деньгами и съестными припасами, будто где-то в окрестностях Двориков должна быть какая-то сходка и на нее ожидали Флегонта.
– Когда это было? – зеленея от страха, спросил Улусов.
– Днями, Микита Модестыч. Они жрали курятину и шептались, а я и услышь.
– Почему ж ты, копченая борода, не сказал мне об этих разбойниках раньше? – в бешенство зарычал Улусов.
– Микита Модестыч, да ты бы побывал на моем месте. Они мне револьвером грозят, сжечь обещают, ежели я хоть единое слово…
– Дурак! – отчеканил Улусов. – Мало тебя сжечь! Тебя бы выпороть за недонесение. Они обещали прийти еще?
– А кто ж их знает! – еле выговорил Иван Павлович. Он обмирал от страха: что-то сделает с ним Улусов и что сделают разбойники, дознайся они, кто их выдал.
– Если появятся, прикажи работнику скакать ко мне без промедления. Задержи их разговорами, ну, угости как следует, водки дай, понятно? Пока я не приеду… Или позови народ, чтобы отвели их в холодную.
– Ос-споди, Микита Модестыч! – взмолился Иван Павлович. – Да ежели я в это дело народ ввяжу – быть мне без головы. Да они сразу этим разбойникам все расскажут. Ведь они вона как люты.
– А что это за сходка, о которой болтали разбойники?
– Вроде бы для чего-то такого всеобщего… Для всяческого, значит, суждения, чтобы сообща всех резать. – Иван Павлович заикался от волнения.
– Ты сам Флегонта не видел?
– Я не видел, но мой работник сказывал – он ночью к куму ходил на Дурачий конец – ну, и узрел, как из школы выходил человек. Дюжий, мол, и вроде на Флегонта похож. Больно выдающая, мол, осанка. Таких-де на селе, кроме Флегонта, не водится. И еще болтают, будто над курганом у Лебяжьего озера дымок частенько примечают.
Улусов сорвался с места и скомандовал стражникам гнать на рысях к Лебяжьему.
Никаких следов вокруг кургана не было. Улусов ткнул в одно место: никаких признаков землянки или ямы, где могли бы хорониться люди, он не обнаружил.
Обругав лавочника последними словами, Улусов уехал на Двориков.
Спустя несколько дней неизвестные люди сожгли лавку Ивана Павловича.
Глава вторая1
Флегонт благополучно добрался до Самары. Таня ждала его: она приехала сюда недели полторы назад.
Не спуская глаз с жены, любуясь ее светлыми глазами, забавной привычкой мило вздергивать губами, Флегонт рассказывал о встрече с Викентием.
– Ну, встретились, дело было в школе, у Ольги Михайловны. Кстати, она прислала тебе привет, да передать-то мне пришлось его с запозданием! – он усмехнулся. – Я должен был увидеть своего отца, а тут обоих отцов увидел: Викентий в тот вечер тоже зашел в школу, будто, мол, по делам.
– Каков он был?
– Какой-то встрепанный. Да ведь оно и понятно: живет бобылем. Мужики от него отшатнулись, даже батя и тот зол на него. Помещики и начальство его возненавидели; Ольга Михайловна, как я слышал краем уха, отвергла его любовные домогательства.
– А ведь он любит Ольгу, искренне и глубоко любит, – заметила Таня.
– Ну и что? Быть любовницей попа? Завидная доля!..
Таня смолчала.
– Спорили мы с ним отчаянно, да только все зря! – Флегонт махнул рукой. – Горбатого могила исправит.
– Обо мне спрашивал?
– Как же! Плакал, божился, что порвал с Филатьевым.
– Порвал? – порывисто спросила Таня. – Значит, он косвенно все-таки признался в этой связи?
– А что скрывать, когда ты сама его в этом уличила! – Флегонт рассмеялся. – Просил передать тебе: Жду, мол. Двери моего дома всегда открыты для нее, пусть придет, утешит меня.
– Ты не знаешь последних новостей. Он сослан в Саров на послух.
– Вот как! Видно, крепко на него взъелись, – задумчиво проговорил Флегонт, следя за лучом солнца, переползающим через горницу. – Кто теперь вместо него? – спросил он мимоходом.
– Какой-то отец Василий. Живет в нашем доме, Катерина за ним ухаживает. Поп, каких тысячи. Катерина пишет: сад запущен, пруд зарос. – В голосе Тани послышалась тоска. Тайком она смахнула набежавшую слезу.
– Как ты думаешь, Флегонт, можно ему верить? – спросила Таня после молчания.
– Нет. Он не изменит свои взгляды.
– Иной раз жизнь ломает людей.
– Не таких, как твой батюшка. Какие у него сейчас мысли, сказать, конечно, трудно, но вряд ли добрые. Эти мне идейные попы! – раздраженно добавил Флегонт.
Таня глубоко задумалась.
– Танюша, – мягко окликнул ее Флегонт. – О чем думаешь, милая?
– Я вот о чем думала, Флегонт, – тихо сказала Таня. – Конечно, можно и надо проклинать и ненавидеть отца за вражескую идею, но ведь человек живет не только идеями. Друга нам жалко, товарища пригреем на груди, а родного человека?
– Я понимаю так, что тебе очень хочется повидать его.
– Не скрою. И в последний раз попытаться…
Флегонт не дал ей договорить.
– Но ведь ты уже пыталась это сделать? Послушался он тебя?
Помолчав, Таня сказала:
– Ладно, мы не поймем друг друга.
– Что ж, решила так решила! – отозвался Флегонт. Думаю, что тебе следует поехать в Саров по делу более важному. Мы говорили об этом с Кржижановским. Открывают мощи Серафима Саровского. Ясно – чтобы отвлечь народ. Надо эту механику с мощами вывернуть наизнанку. Я свяжу тебя с Саратовским комитетом – они тоже не хотят пропускать такого дела. Там соберутся тысячные толпы. Одна-две прокламации насчет мощей, брошенные в народ, сделают много… А ты у нас мастак сочинять листовки против попов. – Он подмигнул Тане. – Тебя отпустят, я попрошу.
– Не знаю, – нерешительно проговорила Таня. – Бросить дело, службу…
– Об этом, Танюша, ты подумай сама, мне, признаться, некогда! – Он не мог молчать о том, что недолго им быть вместе. – Я, Танюша, – сказал он с усилием, – скоро уеду.
– Опять? – всплеснула руками Таня. – Неужели не можешь отдохнуть хотя бы неделю?
– Какой там отдых! Надо ехать за границу, срочное дело.
– Как будто партия развалится из-за одной недели твоего отдыха! – недовольно проговорила Таня. Постоянные разлуки с мужем угнетали ее. Ей всегда не хватало Флегонта. – Не забыл ли ты, что мы ждем… что у нас… – Она порозовела. – Ну, что я буду делать одна с маленьким на руках?
– Ну, ну, ты доктор, уж как-нибудь. Да и жена Глеба рядом. Я попрошу Зину, она поможет.
Таня сердито перетирала посуду. Тоска!..
Флегонт смотрел на ветви вязов, на воркующих голубей и вздыхал. Он не решался сказать ей самого главного: что уедет утром.
– Так вот, Танюша, – выдавил наконец он, – собери ты меня в путь. Поезд уходит рано утром.
– Утром?.. – Таня не верила своим ушам. – Флегонт, да как же так?.. – Голос ее был молящий. Он рвал его сердце.
Флегонт виновато улыбнулся.
– Что делать, Танюша, мы не принадлежим себе, – только и мог он сказать.
– И всегда спешим, всегда только и делаем, что спешим! – возмутилась Таня. – Неужели не будет такого времени, чтобы и мы могли жить так, как живут все? Не прими это за мещанство, но…
Флегонт привлек ее к себе.
– Ты ведь революционерка, и вдруг такие слова…
– Революционеры не люди? – пылко, со слезами на глазах возразила Таня. – Революционеры не хотят дома, семьи и чтобы муж почаще бывал рядом? – Она вытерла слезы. – Я так тоскую по тебе! И так боюсь за тебя. Каждую минуту, каждую секунду… Какой-нибудь подозрительный взгляд шпика, неверное движение, пустая ошибка в паспорте… О господи, я так исстрадалась, Флегонт! Я бы хотела всегда быть с тобой.
– Будет такое время, Танюша, – тихо сказал Флегонт. – Будет и у нас дом, и тихие вечера вместе… А когда? Скоро, Танюша. Очень скоро! – Он обнял и поцеловал ее так крепко, что у нее захватило дух. – А ведь самого-то главного я тебе не сказал.
– Что такое?
– Великой чести удостоен твой муж. Незнамо за что, но это уже решено: я буду на Втором съезде партии.
– Делегатом? – не веря своим ушам, спросила Таня.
– Ну нет, до этого я еще не дорос, – с улыбкой сказал Флегонт. – Есть революционеры, которые давно заслужили эту честь. Я буду помогать тем, кто созывает съезд.
– Но ведь все равно ты будешь на нем! – Таня расцвела. – Увидишь Владимира Ильича, Надежду Константиновну!.. Да сказал бы ты раньше… Ну, счастливый ты, Флегонт! Шепни Надежде Константиновне, если не забыла меня. Скажи, помню и люблю ее, как всегда.
– Она всех помнит, Танюша.
– Ну, Флегонт, завидую тебе. Только успеешь ли ты к началу съезда?
– В том-то и беда, Танюша, – известие о вызове за границу я получил с запозданием. Съезд, под великим тебе скажу секретом, собирается в Бельгии, а дороги, сами знаешь, какие – через пень да в колоду… – Он взглянул на часы. – До поезда целых двадцать часов! И наговоримся, и намилуемся, и поссориться успеем. Да и рассказать тебе надо много: я такое видел и слышал – раскрывай шире уши!
Таня повеселела.
Взгляд Флегонта упал на книжку, которую читала Таня.
– Страшные вещи я вычитала из этой книжки, Флегонт, – сказала она, уловив его взгляд. – Подумай: на семьдесят пять тысяч душ в России один врач. Четыре больничные койки на десять тысяч населения. Читала и думала: а что, если мне переехать в Дворики и завести там хотя бы крохотную больницу? Может быть, земство расщедрится? Нет, ты подумай серьезно, – горячо убеждала она Флегонта, словно он не соглашался с нею. – Кто знает, куда пошлют тебя. Может быть, снова сюда, а верней всего, в какое-нибудь другое место… Глеба переводят в Киев, Зина уедет с ним, останусь я одна. Да и вообще, не пора ли мне распрощаться с Самарой, не примелькалась ли я охранке? А в Двориках, подумай, непочатый край работы! Я бы помогла Ольге. Человек она мне близкий, почти родной. Да и тебе туда проще приехать. Спрятаться там есть где. Вряд ли Улусов дознался о землянке и кургане у Лебяжьего. У меня там родной дом, Лука Лукич рядом, знакомые, друзья. Как ты думаешь?
Флегонт слушал ее горячую речь и добродушно улыбался. Что ему советовать! Она давно все решила. Да и доводы у нее неотразимые. Для Самары партия найдет людей, а в деревне такие, как Таня, чистый клад. Там не всякий сможет работать: мужика надо знать и видеть насквозь. Пять пудов соли с ним съешь, пока до его души доберешься. К тому же доктора в деревне нужны позарез. Таню там знают, и она всех знает и в конспирации дотошна.
– Там ведь бабка Фетинья за профессора медицины идет, – словно угадывая мысли мужа, с горячностью продолжала Таня. – Нет, согласись, Флегонт, что я права. Организация меня отпустит, ведь нужны же в деревне люди!
– Ты так говоришь, будто я против твоего решения, – заметил Флегонт. – Душа моя, делай как решила: поезжай в Саров.
Таня обняла его.
– Ты такой добрый, Флегонт, и как ты все понимаешь! – Она глубоко передохнула, будто освободившись от тяжести, лежавшей на сердце. Потом сказала: – Ну, я займусь твоими вещами, а ты рассказывай.
2
Когда у царя родилась еще одна девочка, Фетинью снова вызвали в Петербург.
При разговоре Аликс с Фетиньей присутствовал только Победоносцев: даже царь не был допущен на это совещание. Дело шло о престолонаследии. Царица спрашивала Фетинью, нет ли каких-нибудь народных средств – трав или заклинаний, чтоб следующий ребенок был мальчик. Перед этим разговором Победоносцев внушил Фетинье посоветовать царице съездить в Саров, искупаться в источнике Серафима и помолиться о даровании наследника.
У Победоносцева с открытием мощей саровского угодника произошла задержка: члены синода, боясь конфуза, все откладывали да откладывали решение дела. В Саров посылались разные люди, возвращались они с омраченными лицами: никаких достоверных подтверждений святости намеченного к прославлению старца не обнаруживалось. Свидетельства о его жизни тоже были противоречивы, и никто не мог с полным убеждением сказать, что в могиле, выдаваемой за посмертную хоромину Серафима, действительно лежат его останки.
Победоносцеву позарез надо было как можно скорее сдвинуть дело с мертвой точки. В Аликс он видел надежную союзницу.
Все, что Победоносцев нашептал Фетинье, та от своего имени посоветовала царице.
Вслед за тем от Николая последовал суровый выговор членам синода, и все пошло как по маслу: начались приготовления к прославлению мощей. Было решено, что царская семья посетит Саров.